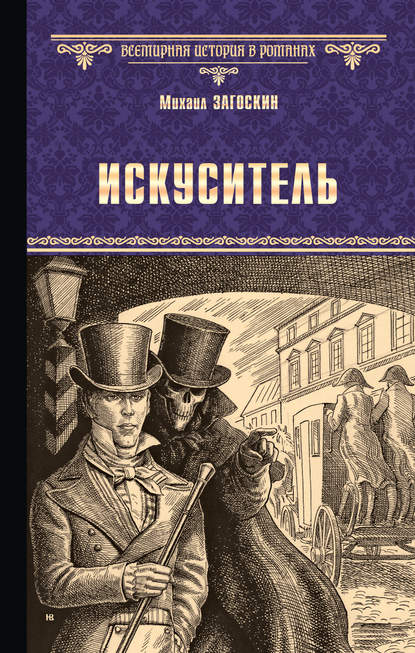По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Искуситель
Год написания книги
1838
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ничего! Мы об этом и не говорили.
– Как? Ни одного слова?
– Ах, вот и маменька! – вскричала Машенька, увидев вдали Авдотью Михайловну.
– Сестрица! – сказал я, взяв ее за руку. – Это нехорошо, ты говоришь неправду.
Машенька вспыхнула и бросилась от меня бежать, как сумасшедшая. Бедняжечка! Она еще в первый раз в жизни решилась солгать, говоря со мною.
V. Отъезд
Прошло два года после этой поездки в город – два года самые счастливейшие в моей жизни: они пролетели, как два часа. Моя любовь к Машеньке давно уже не была тайною, мы были помолвлены. По просьбе Ивана Степановича губернатор записал меня на службу, то есть я считался в его канцелярии и успел уже получить первый офицерский чин. Когда мне минуло восемнадцать лет, мой опекун объявил решительно, что откладывает нашу свадьбу еще на три года и что я должен прослужить это время в Петербурге или в Москве, а не в нашем губернском городе, чтоб хотя несколько познакомиться со светом и сделаться человеком.
– Да, Сашенька! – сказал он мне, когда за несколько дней до моего отъезда зашла у нас об этом речь. – Да, мой друг! Ты еще совсем ребенок и долго им останешься, если все будешь жить у нас под крылышком. Эх, досадно! Зачем я послушался жены и сжалился над слезами этой девчонки… То ли бы дело!.. Хотел я записать тебя в военную службу, так нет! Подняли такой вой, что хоть святых вон понеси! Ну, делать нечего, а жаль, право, жаль! Военная служба лучшая школа для молодого человека, не правда ли, старый товарищ? – продолжал мой опекун, обращаясь к Бобылеву, который стоял, вытянувшись молодцом, у дверей гостиной.
– Не могу знать, ваше высокородие! – отвечал заслуженный воин с приметным замешательством.
– Я спрашиваю тебя, где лучше служить: в каком-нибудь приказе или в лихом драгунском полку?
– Не могу знать, ваше высокородие! Наше дело темное: где прикажут, там и служишь!
– Эге! – вскричал Иван Степанович. – Бобылев, да ты, никак, стал хитрить? Я спрашиваю: какая служба больше тебе по сердцу? Ну, чем бы ты хотел быть, подьячим или вахмистром? Ну, что переминаешься? Говори!
– Не могу знать, ваше высокородие!
– Тьфу ты, братец, какой! Я толком говорю, ну, послушай, в какой службе молодой парень сделается скорее человеком: в статской или в военной?
– Где в статской, ваше высокородие! – промолвил, переминаясь, Бобылев. – Там выправка совсем не та, вот в нашей фронтовой, не то что господин, а какой-нибудь зипунник, вахлак, и тот как раз молодцом будет… Оно, конечно, – продолжал Бобылев, посматривая на Авдотью Михайловну и Машеньку, – подчас трудненько бывает, да и не наше дело толковать, где хуже, где лучше: про то знают старшие.
– Ну, видно, старшие-то тебя порядком напугали, – прервал мой опекун, указывая с улыбкою на свою дочь и жену, – не смеешь про свою прежнюю службу доброго слова вымолвить, а вспомни-ка, Бобылев, старину! Помнишь, как мы с тобой под Абесферсом…
– Эх, не извольте говорить, ваше высокородие! Не мутите душу!
– То-то же! Да и то правда, что об этом толковать – дело кончено!.. Послезавтра, Сашенька, ты получишь подорожную из города, а там отслужим молебен, да и с Богом! Ну, нахмурились!.. Опять плакать!.. Полно, жена! Машенька!.. Что, в самом деле?.. Ведь не навеки расстаетесь!
– Да уж позволь ему, Иван Степанович, – сказала Авдотья Михайловна, – хоть через год-то приехать в отпуск.
– Эх, полно, матушка! Уж я вам сказал, что этого не будет. Дайте ему хоть три годка-то сряду послужить порядком.
– Да ведь Москва не так далеко отсюда, – проговорил я робким голосом, – я в три недели успею побывать у вас и воротиться.
– Нет, мой друг Сашенька! – прервал Иван Степанович. – Это дело решенное: ты три года сряду не увидишься с твоей невестою. И очень люблю тебя, не сомневаюсь в твоей привязанности к моей дочери, но ты еще ребенок, ничего не видел, ничего не испытал, почему знать: быть может, любовь твоя к Машеньке – одно ребячество.
– Как! – вскричал я. – Вы можете думать!..
– Не только могу, но должен, мой друг! Послушай. Если ты точно ее любишь, то три года не убавят ни на волос твоей любви, если же это одна детская привычка, то не лучше ли и для тебя и для нее, когда ты догадаешься об этом перед свадьбою, а не после свадьбы? В эти три года ты успеешь проверить собственные твои чувства, ты будешь встречать девиц и прекраснее и милее Машеньки…
– О, это невозможно!..
– Почему знать? В твои года я раза по четыре в год влюблялся, и всегда последняя красавица казалась мне лучше всех прежних.
– Но подумайте, Иван Степанович, три года!..
– Не три века, мой друг! Они как раз пройдут, а если, несмотря на то что Машенька во все это время ни разу с тобою не увидится, ты будешь чувствовать к ней все то же самое, что чувствуешь теперь… о, тогда я с радостью благословлю вас, тогда и я уверюсь, что вы созданы друг для друга. Только смотри, Сашенька! – продолжал Иван Степанович, пожав крепко мою руку. – Помни уговор: будь откровенен, не обманывай ни себя, ни нас, не торгуйся с своею совестью, не думай, что ты обязан наперекор своим чувствам из одного приличия или благодарности идти к венцу с моею дочерью. Боже тебя сохрани от этого! Ты можешь жениться на другой и остаться нашим сыном, а ее братом, но если ты обманешь нас, если благодарность, это святое чувство, ты унизишь до простой обязанности, если ты захочешь, как должник, которого тяготит долг, чем бы ни было, но только скорее расплатиться с нами, то знай, мой друг, что тогда-то ты будешь истинно неблагодарен и за наше добро заплатишь злом. Перед людьми ты будешь прав: они станут хвалить тебя, называть великодушным, благородным, но будешь ли ты прав перед Богом, передо мною – вторым отцом твоим? Перед бедной женой моею и этим ребенком, которого ты называл своею сестрою? Подумай хорошенько! С той самой минуты, как ты скажешь в душе своей: я с ними поквитался – начнется вечное несчастье моей дочери, как честный человек ты станешь твердить себе: я обязан сделать ее счастливой – мой долг быть хорошим мужем. Пустые слова, мой друг! Там, где все благополучие основано на взаимной любви, там не может быть ни долга, ни обязанности – с этими плохими помощниками недалеко уйдешь. Супружество не служба, в службе есть и долг, и обязанности, но зато ведь есть и отставка. Нет, Сашенька! Еще раз повторяю: боже тебя сохрани от этого.
– Так, батюшка Иван Степанович, так! – сказала со вздохом Авдотья Михайловна. – Ты говоришь умно, да срок-то больно длинен, – шутка ли, три года!
– И, матушка! Он будет занят службой, а мы в первый год съездим в Киев помолиться Богу, на второй отправимся в Казань погостить у брата, а на третий станем его дожидаться, так и не увидишь, как время пройдет.
Наступил день моего отъезда. Кибитка, заложенная тройкою почтовых, стояла у крыльца, лихие степные кони взрывали копытами землю, коренная вскидывала от нетерпения голову, и колокольчик побрякивал на расписной дуге. Все было готово. Мой слуга, Егор, уложив чемодан и несколько коробок со всякой всячиною, стоял подло кибитки в своей дорожной куртке, подвязанной широким патронташем, из-за которого выглядывали две пистолетные головки. Не пугайтесь! Лет сорок назад, так же как и теперь, по большим дорогам не грабили проезжающих: эти пистолеты были с нами только так – ради щегольства, и мой слуга не убил бы из них и цыпленка. Я очень помню, что у одного из них не спускался курок, а у другого не было собачки. Точно так же, как некогда при посещении губернатора, вся наша дворня высыпала из людских и дожидалась моего выхода. В гостиной отслужили молебен. Иван Степанович отдал мне пучок ассигнаций и несколько рекомендательных писем, Авдотья Михайловна, обливаясь слезами, благословила меня образом Божьей Матери, а Машенька повесила на шею небольшой медальон, в котором с одной стороны вложен был светло-русый локон волос, а с другой – написано собственной ее рукой три слова: «Не забудь меня». Бедная Машенька, чтоб не расстроить еще более слабой и больной матери, старалась глотать свои слезы. Она беспрестанно выбегала вон из комнаты, но, несмотря на то что всякий раз притворяла дверь, я слышал ее рыдания, и сердце мое разрывалось на части. Вот, по старому обычаю, мы все присели, потом встали молча, помолились святым иконам и вышли на крыльцо. Иван Степанович взял меня за руку, отвел к стороне и сказал вполголоса:
– Прощай, Сашенька! Пиши к нам чаще; веди себя так, чтоб нам весело было о тебе слышать, и не забывай, что бесчестный человек, кто бы он ни был, не получит никогда руки моей дочери. Ты знаешь мой образ мыслей: по мне, тот, кто с намерением изменит своему честному слову, обыграет на верную приятеля, продаст себя за деньги, украдет платок из кармана, не бесчестнее того, кто погубит навсегда невинную девушку или разведет мужа с женою. Не все так думают, но это мой образ мыслей, а ты хочешь жениться на моей дочери. Помни это, мой друг! Ну, теперь прощай – с Богом!
Он обнял меня, Авдотья Михайловна также, я поцеловал Машеньку, которая продолжала притворяться спокойной, и сел в кибитку.
– Что это, Сашенька! – вскричала Авдотья Михайловна. – Ты едешь в дорогу в белом галстуке? Скинь его! Я дам тебе сейчас цветную косынку.
Но прежде чем она успела послать за нею, Машенька сорвала с себя шелковый голубой платочек, подбежала ко мне и, обвязывая его около моей шеи, облила всю грудь мою слезами.
– Дальние проводы – лишние слезы! – сказал мой опекун. – Эй, голубчик, трогай лошадей – с Богом!
Ямщик поправил шляпу, подобрал вожжи, свистнул, колокольчик залился, и мы тронулись с места шибкой рысью.
– Прощайте, батюшка Александр Михайлович! Прощайте! – кричала мне в дорогу вся дворовая челядь.
– Благополучного пути, ваше благородие! – заревел басом старик Бобылев. – Счастливой дороги!
– Прощай, брат Егор… прощай, Егорушка.
– Прощайте, братцы! – отвечал мой слуга, приподымая свой картуз. – Эй, тетка Федосья! Не забудь отвести теленка-то на село к старосте Парфену!.. Антон! Пожалуйста, братец, не покинь моего Барбоса!.. Прощайте, ребята!
Когда мы выехали на большую дорогу и поднялись в гору, ямщик остановился, чтоб выровнять постромки пристяжных лошадей, в ту самую минуту, как он садился опять на козлы, я привстал и оглянулся назад. Вдали против меня, по ту сторону пруда, чернелась дубрава, направо тянулся длинный порядок крестьянских изб, но господского дома со всей его усадьбою было уже не видно. Вдруг что-то белое показалось из-за горы, и топкий прелестный стан обрисовался на облачном небе… Так это Машенька! Она стояла одна на большой дороге, сильный ветер разбрасывал по открытым плечам ее густые локоны, играл белым платьем и, казалось, хотел умчать ее вслед за мною. Она протянула ко мне руки. «Не забудь меня», – прошептал ветер, унося с собою последние слова моей невесты. Я закричал, хотел выпрыгнуть из повозки, но ямщик гаркнул, лошади понеслись, все исчезло в облаках пыли, и я упал почти без чувств в кибитку. Не стану вам описывать моей тоски, кто из нас не испытал ее, расставаясь с людьми, без которых жизнь нам кажется не жизнью? Мне жаль тебя, любезный читатель, если эти неизъяснимо грустные минуты встречались часто в твоей жизни, но я еще более пожалею тебя, когда, прожив весь век, ты не испытал ни разу этого горя. Грустно расставаться с тем, кого любишь, а, право, еще грустнее, когда некого любить.
В первые сутки моего путешествия тоска и грусть так меня одолели, что я не хотел смотреть на свет божий, не выходил на станциях и сердился на Егора, когда он просил меня выпить чашку чаю или перекусить чего-нибудь. Закрывшись в моей кибитке и не видя новых предметов, которые меня окружали, я мог переноситься мыслью в прошедшее, Машенька была со мною, я слышал ее голос, говорил с нею и даже иногда, покрывая поцелуями голубой платочек, воображал, что прижимаю ее к груди моей. Проспав несколько часов сряду, я проснулся, на другой день гораздо спокойнее. Мысль, что я скоро буду в Москве, что увижу этот большой свет, о котором так много наслышался, этих знатных бар и сенаторов, перед которыми, говорят, и наш губернатор подчас стоит навытяжку, – эта мысль начинала понемногу сливаться с моими воспоминаниями о прошедшем, а сверх того, я чувствовал, что не могу уже вполне предаваться моим мечтаниям: я очень проголодался, и тощий желудок убеждал меня, гораздо красноречивее Егора, перейти скорее из очаровательного мира мечтаний к жизни действительной, эта физическая потребность взяла наконец такой верх над моими моральными ощущениями, что я вышел на первой станции из кибитки и весьма обрадовался, когда смотритель поставил передо мною чашку сытных щей и горшок гречневой каши.
– Ну что? Далеко ли осталось до Москвы? – спросил я станционного смотрителя.
– Шестьсот двадцать верст, сударь.
– Возможно ли?.. Так мы в целые сутки и ста верст не отъехали?
– И то слава богу! – сказал Егор. – Ведь на двух станциях лошадей не было. Вы изволили дремать, сударь, так и не заметили, что мы часов по пяти дожидались.
– Для чего же ты не нанимал вольных?
– Вольных? Нет, сударь! Вольные-то кусаются! Тройные прогоны заплатишь!
– Так что ж?
Другие электронные книги автора Михаил Николаевич Загоскин
Кузьма Рощин




 4.67
4.67
Искуситель т.3




 4.5
4.5
Искуситель т.2




 4.5
4.5
Искуситель т.1




 4.67
4.67
Брынский лес т.2




 4.67
4.67
Брынский лес т.1




 4.67
4.67