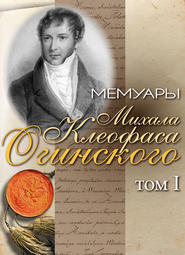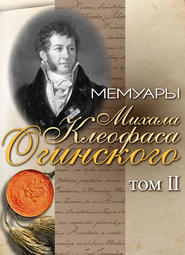По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мемуары Михала Клеофаса Огинского. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Право «liberum veto», всякая конфедерация или федеральный сейм запрещаются отныне и навсегда как противоречащие духу настоящей конституции и способствующие беспорядкам в государстве.
Каждые двадцать пять лет надлежит осуществлять пересмотр и совершенствование конституции на чрезвычайном сейме, созываемом для этой цели; его условия определены отдельным законом».
Таким образом, Польша вывела себя из-под иноземного влияния, обезопасила от внутренних беспорядков и учредила форму правления, способную обеспечить ее свободу и независимость, а также благосостояние. Сейм объявил, что любой, кто попытается противостоять конституции, устраивать заговоры против нее и нарушать порядок в государстве каким бы то ни было способом, будет рассматриваться как враг родины и будет предан суду как заговорщик и предатель.
Находились и те, кто отрицал эту разумную конституцию – из партийной предвзятости, необдуманности суждений или отсутствия необходимых знаний. Однако она была с энтузиазмом воспринята по всей Польше и произвела впечатление на всех здравомыслящих людей в Европе. В ее пользу высказались все выдающиеся ученые и наиболее уважаемые государственные деятели.
Томас Пейн в своей работе по теории и практике осуществления прав человека высказал крайние идеи, которые не согласовались с умеренными идеями польских законодателей, однако он не мог не признать, что «правительство Польши явило пример реформы, им принятой и на него же направленной».
Вольней, высказавшись об иге, от которого стонали крестьяне северных стран, прибавил, что польское дворянство, к его чести, в день 3 мая избавило себя от подобных обвинений.
Фокс назвал конституцию 3 мая «произведением, которое должно вызывать симпатии у всех поборников разумной свободы».
Большинство наиболее видных представителей оппозиции думали так же и высказывались подобным же образом. Из англичан о конституции 3 мая наиболее энергично и горячо высказался знаменитый Бёрк. Образ, созданный им, оказался настолько поразительным и в то же время настолько правдивым и точным, что я не могу удержаться и процитирую один его пассаж: «Состояние Польши было настолько неблагополучным, что не стоит удивляться принятым в ней изменениям, хотя мнения по поводу их и разделились. Произведенная в ней революция не должна навлекать на себя никаких порицаний, в этом мероприятии не следует усматривать никакой смуты, так как государство, которое подлежало реформированию, само было государством смуты.
Король без власти, дворянство без единства, народ без наук, промышленности и торговли, без внутреннего управления, без внешней защиты, без действенных сил – и все они под иноземным давлением, доведенным до высшей точки в этой беззащитной стране, – таково было положение дел в Польше. Именно оно прямо указывало на необходимость столь смелого предприятия и могло служить оправданием даже тем шагам, которые были продиктованы отчаянием.
Каковы же должны были быть средства, чтобы вывести Польшу из хаоса – к должному порядку? Эти средства и привлекли всеобщее внимание, удовлетворяя взгляд наблюдателя своей бесспорной разумностью и моральной выдержанностью. Человечество должно радоваться и гордиться, наблюдая за изменениями, происходящими в Польше: в них нет ничего слабого или постыдного. Они исполнены столь высокого духа, что неизбежно окажут облагораживающее влияние на род человеческий. Мы увидели разрушение анархии и рабства. Мы увидели укрепление трона любовью нации, но при этом не была попрана свобода. Кабальные иноземные влияния были устранены заменой выборов королей на наследственную передачу трона. Десять миллионов людей, занятых земледелием, мало-помалу обретут свободу, и что важнее всего для них и для их страны, они будут избавлены – нет, не от своих гражданских и политических обязанностей, которые могут казаться обузой только развращенным умам, – а от тех, что держали их в цепях рабства. Жители городов, до сего времени лишенные тех прав, которые они имеют во всяком гражданском обществе, получат статус, который им подобает. Дворянское сословие, самое благородное и многочисленное из всех на земле, стало во главе граждан, столь же благородных и свободных, как оно. Никто не унижен, никто не понес утрат, начиная от короля и кончая последним частным лицом. Каждый утвержден в своих естественных правах. Всему отведено свое место и все оказалось улучшенным. К этому чудесному благополучию присоединяется еще и особая заслуга предусмотрительности, которая обеспечила успех дела, – то, что удалось избежать малейшего кровопролития. Никакого предательства, оскорбления, никаких посягательств на честь личности, никакого покушения на религию и добрые нравы, никаких грабежей и конфискаций, никто из граждан не наказан и не брошен в тюрьму. Все, что произошло, содержится в рамках достоинства, гармонии, приличия, чего нигде ранее не было в подобных обстоятельствах. О, счастливая нация, если тебе дано закончить так же, как ты начала! Счастлив и король, сумевший положить конец выборности трона и установить патриотическую череду наследственных королей!.. Этот великий труд имеет, наконец, и то выдающееся достоинство, что он заключает в себе росток возможности увеличивать общее благосостояние».
Герцберг, уже покинувший посольство Пруссии, шесть месяцев спустя после 3 мая зачитывал в Берлинской академии меморандум о революциях в империях и не мог не отдать справедливости достопамятной революции, что имела место в государственном управлении Польшей. Он отметил разумность принципов, на которых поляки построили свою новую конституцию.
Тех, кто позже, в 1793 году, прочел официальные заявления Фридриха Вильгельма, они не могли не удивить. Этот монарх, непосредственно после установления нового порядка в Польше, в высшей степени одобрил деятельность сейма и дал очевидные тому доказательства. Его посланник в Варшаве, Гольц, заменявший в то время Луккезини, имел 16 мая встречу с представительством по иностранным делам. Он заявил сразу, что получил приказ от Е[го] В[еличества] короля Пруссии засвидетельствовать представительству, насколько его повелитель был удовлетворен счастливыми переменами, которые дали Польше столь разумный и упорядоченный образ правления. В заключение он сказал: «Как только король получил знаменательную новость о законе, по которому Штаты Речи Посполитой предполагают призвать на польский трон представителя Саксонии и обеспечить наследование трона его потомкам по мужской линии или, при неимении такового, его дочери и ее супругу, избранному им с согласия сейма, – Его прусское величество отдал мне приказ сделать заявление вышеупомянутому собранию. В соответствии с его живейшим интересом ко всему, что может способствовать благосостоянию Польской Речи Посполитой (и этому интересу Е[го] В[еличество] дал очевидные доказательства во всех обстоятельствах, где это было возможно), он считает достойными всяческих похвал решительные и твердые шаги, предпринятые этим собранием, и рассматривает их как средство, наиболее подобающее для подведения прочной основы правлению в Польше, а также для ее благосостояния, которое должно последовать за этим. Эта новость тем более приятна Его прусскому величеству, что он связан узами дружбы и добрососедства с добродетельным монархом, которому предназначено развить и укрепить это благосостояние. Он убежден также, что выбор, сделанный Речью Посполитой, укрепит те разумные и гармоничные отношения, которые существуют между ним и Польшей. В заключение Е[го] В[еличество] уполномочил меня убедительно засвидетельствовать Е[го] В[еличеству] королю Польши, маршалкам сейма и всем, кто работал над этой благодетельной реформой, – насколько она его удовлетворяет. Его прусское величество поспешил написать в тех же выражениях представителю Саксонии об этом мудром документе».
Гольц закончил тем, что попросил представительство довести слова своего повелителя до сведения ассамблеи сейма. Глава представительства дал устный ответ, соответствующий столь дружескому и лестному заявлению. Протокол этой встречи был подписан всеми присутствующими и помещен в архив департамента иностранных дел.
На этом официальное общение не закончилось. Фридрих Вильгельм ответил на личные письма, направленные ему королем Польши, и в этом ответе от 23 мая говорилось между прочим: «Я получил почти одновременно два письма, в которых Ваше Величество сообщил мне о важном решении сейма, которым закреплена наследственная передача трона в пользу саксонского правящего дома. Поспешность, с которой я выразил свое мнение по этому поводу, должна убедить их, также как и польскую нацию, в интересе, который я имею к этому вопросу. Я поздравляю себя с тем, что сумел способствовать свободе и независимости этой нации, и одна из приятнейших моих забот – поддерживать и укреплять связи, нас объединяющие. Я могу только приветствовать, в частности, ее выбор монарха, добродетели которого делают его достойным трона, его ожидающего. Я желаю, однако, чтобы этот момент наступил нескоро и чтобы Ваше Величество мог в течение еще долгих лет составлять счастье своего народа».
Несколько недель спустя, 21 июня, посланник Пруссии в Варшаве вручил ноту короля представительству иностранных дел: она заканчивалась убедительными изъявлениями дружбы и интереса, которые его повелитель испытывает к польской нации. Он прибавил, что «Фридрих Вильгельм всегда считал своим долгом доказывать, что он верен своим обязательствам и, в том числе, тем, которые были взяты им на себя в предыдущем году. Более всего он желал дать убедительные доказательства своей неизменной приверженности тому, что может способствовать выполнению взаимных обязательств обоих дворов и дать им долгую жизнь».
Вся польская нация радовалась выбору саксонского дома в качестве наследников трона после смерти Станислава Понятовского. Все дружественные Польше дворы одобряли его. Король Пруссии самым сердечным образом поздравлял Польшу с этим выбором, однако сам саксонский кандидат был слишком хорошо осведомлен о положении дел в Европе и слишком осторожен, чтобы легко согласиться принять корону, которая так дорого обошлась его предшественникам и которую Россия не позволила бы ему долго носить. Поэтому он давал лишь уклончивые ответы на предложения, направляемые ему из Варшавы. Наконец, получив ноту, посланную из Варшавы 22 сентября в адрес его премьер-министра, он ответил нотой от 23 октября, из которой здесь приведены наиболее примечательные пассажи. Она была подписана графом де Лоссом и гласила: «…Нижеподписавшийся довел до сведения Его Высочества ноту, переданную ему 1 октября г-ном графом Малаховским, чрезвычайным и полномочным послом Е[го] В[еличества] короля и Речи Посполитой Польши. Его выборное высочество исключительно высоко оценил доверие, оказанное генеральной ассамблеей сейма ему и его принципам. Он надеется, что его поведение в данных обстоятельствах будет расценено как доказательство его благодарности Е[го] В[еличеству] королю и блистательной польской нации, а также его заинтересованности в ее благосостоянии. Поскольку это благосостояние должно быть обеспечено, главным образом, новой конституцией королевства, то он тщательно изучил эту конституцию в полном объеме, а также действия, которые должны последовать за ее принятием и о которых ему было сообщено непосредственно. Его Высочество обнаружил в этом фундаментальном документе различные статьи, которые вызывают серьезные сомнения и требуют некоторых предварительных разъяснений, прежде чем он решится вступить в переговоры относительно «pacta conventa». Его Высочество полагает, что наилучшим способом рассеять эти сомнения был бы тот, что уже предложен в ноте г-на Малаховского, а именно: назначить нескольких лиц, уполномоченных королем и сеймом на ведение переговоров с комиссией, которую назначит Его Высочество для устранения возникших у него затруднений. В конечном счете, не вызывает сомнений, что отсрочка, вызванная этими переговорами, гораздо более соответствовала бы интересам польской нации, чем последствия поспешного решения со стороны Его Высочества: такая поспешность не соответствовала бы его принципам, а также и важности данного вопроса».
В качестве ответа на эту ноту сейм поручил князю Чарторыйскому отправиться посредником в Дрезден, чтобы начать вместе с Малаховским переговоры с министрами Его Высочества.
Чтобы более не останавливаться на этих переговорах, продлившихся несколько месяцев, я сообщаю сразу об их результатах и помещаю здесь ответ саксонского кандидата, хотя он был дан гораздо позднее, а именно в апреле 1792 года.
«Его выборное высочество примет сделанное ему предложение только на следующих условиях: 1. при наличии согласия дворов соседних государств и уверенности в том, что они не воспротивятся тому порядку наследования короны Польши, который обозначен новой конституцией; 2. в эту конституцию должны быть внесены изменения, которые могут оказаться необходимыми для определения полномочий властей, для предупреждения волнений и соперничества между ними, что нарушило бы субординацию и помешало бы управлению страной; 3. формула клятвы верности, приносимой войсками, должна быть изменена: вместо клятвы верности нации (это слово слишком неопределенно и может обозначать все, что может быть угодно доминирующей группе) эта клятва должна быть принесена королю и Речи Посполитой; 4. король должен иметь право санкционировать законы и исключительное право объявления войны; 5. воспитание наследного принца должно быть исключительно и полностью доверено королю и, при его отсутствии, королеве-матери или его ближайшим родственникам, в случае ее смерти, но не какой-либо комиссии, которая, будучи чуждой принципам отцовства, может сверх того испытывать большие трудности в периоды интриг и борьбы групповых интересов; 6. право наследования должно принадлежать только представителям саксонского дома, за исключением принцесс; 7. Речь Посполитая должна признать все данные пункты как обязательные условия, необходимые для получения согласия Его выборного высочества».
Все условия, выдвинутые саксонским кандидатом относительно изменений в новой конституции, какими бы разумными они ни были, не могли быть выполнены по причине первого условия – согласия соседних государств на все положения конституции 3 мая, так как Россия уже высказала открыто свое неодобрение, и было очевидно, что саксонский кандидат старался избежать ее неодобрения. Впрочем, этот ультиматум дрезденского двора, после столь длительных переговоров с ним, был вручен уже в то время, когда русские армии были готовы перейти границы Польши.
Глава VII
Задержавшись в Варшаве на гораздо большее время, чем я предполагал, я не мог более откладывать свой отъезд в Белую Русь.
Я направился прямо в Могилев. Всемогущий в то время генерал-губернатор Пассек принял меня самым изысканным образом, так как получил благосклонное письмо обо мне от короля Польши. Менее чем за три недели я закончил свои дела и уже собирался отправляться обратно в Варшаву, когда несколькими курьерами было доставлено известие о том, что князь Потемкин посетит Могилев проездом в штаб-квартиру русской армии в Яссах. Любопытство и желание познакомиться с этим необыкновенным человеком заставили меня задержаться. Настоятельные уговоры генерал-губернатора Пассека также убедили меня отложить свой отъезд.
Накануне приезда князя все вокруг на расстоянии более 50 лье пришло в движение. Звонили во все колокола, гремели залпы орудий. Многочисленные кареты князя и его свиты, а также его военный эскорт поднимали тучи пыли в окрестностях города – все это возвещало о прибытии лица, которого ожидали не столько с нетерпением, сколько со страхом и беспокойством. Толпа правительственных чиновников, дворянство, прибывшее из самых отдаленных провинций, дамы в лучших туалетах, ожидавшие здесь с утра, чтобы увидеть могущественного человека, заставлявшего трепетать всю Россию, – одним словом, все собравшиеся в правительственном дворце бросились вниз по лестнице, чтобы увидеть, как князь выходит из кареты. Он вышел – в просторном летнем халате, совершенно запыленном, и прошел сквозь толпу придворных, никого не приветствуя и даже не удостоив взглядом.
Хотя я никогда ранее его не видел, я составил себе довольно верное представление по тому, что слышал о нем, и, соответственно, был убежден в том, что он в глубине души презирал тех, кто из страха или преувеличенного почтения низко склонялся перед ним. Потому я решил не предпринимать никаких шагов, которые могли бы составить у него неблагоприятное мнение обо мне.
Я не был российским подданным, и тем меньше причин было у меня льстить ему. С первого же взгляда я заметил, что он выделил меня из прочих и что моя сдержанность его поразила. Не спускаясь с лестницы, я ждал его в апартаментах вместе с двумя вновь прибывшими иностранцами. Он спросил у Пассека, кто я такой, вежливо приветствовал меня, а через четверть часа его адъютант полковник Баур пришел пригласить меня отобедать с князем.
Вернувшись к себе, я располагал несколькими часами до назначенного обеда и стал размышлять об этой редкой случайности, которая давала мне возможность увидеть сблизи необыкновенного и странного человека, который привлекал к себе внимание всей Европы.
Повсеместно ходили слухи, что он мог претендовать на корону Польши. Его сторонники даже не скрывали этого и старались приобрести ему друзей, точнее – оплаченных приверженцев. Я знал, что этот человек, баловень судьбы, не имел серьезного образования и воспитания, но имел очень верный взгляд на все, а его такт и гений изумляли всех, кто к нему приближался. Он мог поставить меня в затруднение расспросами о варшавском сейме и своими замечаниями о новом состоянии дел в Польше. Поскольку ни бояться, ни надеяться со стороны Потемкина мне было не на что, я решил честно отвечать на все его вопросы, и мне это удалось.
Во время обеда, на котором было не более двух десятков приглашенных, князь много говорил со мной о Голландии, которую я недавно посетил, но которую он знал так, будто прожил в ней всю жизнь, а также об Англии, образ правления, традиции, обычаи и нравы которой были ему прекрасно известны.
Поговорив со знанием дела об английских фабриках и мануфактурах и сравнив их с российскими, он перешел к музыке и живописи, заметив при этом, что англичане ничего в них не понимают. Назвав двух модных художников, Лампи и Грасси, он вдруг повернулся ко мне и сказал, что было смешно со стороны польского короля заставить Грасси изобразить его на портрете на двадцать лет моложе, чем он был. Он находил столь же смешным, что князю Юзефу Понятовскому на портрете были приданы черты Адониса с мышцами Геркулеса.
Я видел, что князь намерен продолжать разговор в том же духе, отпуская сарказмы в адрес короля и его племянника, и потому решил перевести разговор на другие картины двух упомянутых художников. Затем я назвал еще нескольких современных художников, и среди них – Смуглевича, поляка, который получил в Риме премию как рисовальщик и своим талантом делал честь своей родине.
Князь продолжал говорить колкости о короле, что начинало уже выводить меня из терпения, а потом заявил, что Смуглевич имеет прекрасную возможность проявить себя, работая над картиной о принятии конституции 3 мая. При этом он посоветовал разбросать там-сям по всей картине цветы, которые называются по-немецки «vergismeinnicht»[14 - Незабудки (нем.). (Примеч. пер.)]… И он прибавил, улыбаясь: «Вы меня понимаете»…
Можно было двояко расценить это пожелание князя. Но в тот момент я усмотрел в нем лишь жест насмешки над нашей конституцией и над польским художником и потому не мог не ответить следующим образом. Смуглевич – художник не только талантливый, но еще здравомыслящий и осторожный. Соответственно, до сих пор он использовал свои карандаши для того только, чтобы изображать свершившиеся исторические факты, которые никем не оспаривались и которые составляли честь и славу польской нации. Сейчас он пока не намеревается забегать вперед событий и писать картину на сюжет конституции 3 мая, поскольку этот документ является всего лишь наброском. Когда же через некоторое время работа сейма в Варшаве будет завершена, то художник сочтет за честь начать и завершить труд, который оставит потомству воспоминание об одной из самых замечательных эпох в анналах Польши, обессмертив, возможно, тем самым и собственное имя.
Князь посмотрел на меня испытующим взглядом, но без видимой неприязни, и тут же сменил разговор. По окончании обеда многие французы, два швейцарца и один американец подходили ко мне и от всего сердца обнимали – за то, что я разговаривал на языке правды с человеком, которому никогда не говорили правды.
В тот же день за ужином мне случилось сидеть рядом с князем, и он был по отношению ко мне уже более сдержан, однако, затронув в разговоре другие темы, он вернулся к королю Польши и событиям в Варшаве. «Как можно было, – говорил он, – вам всем настолько потерять голову, чтобы доверить командование Варшавой графу Казимиру Ржевускому? Этот человек никогда не служил в армии и не имеет никакого понятия о военном деле!..» Своим уклончивым и коротким ответом я надеялся перевести разговор на другую тему, но князь вернулся к разговору, доказывая мне, что выбор коменданта Варшавы был сделан неправильно. Я ответил, что граф Ржевуский получил хорошее образование за границей и, по всей вероятности, знает военную тактику, хотя бы в теории. «Да что вы мне говорите о теории! – возразил князь. – Зачастую нужно уметь как раз-таки нарушить правила, чтобы добиться успеха и совершить действительно великое дело». Мне хотелось закончить этот разговор, и я решил, что легче всего сделать это, сказав ему комплимент: «Бесспорно, мой князь, никто не может судить об этом лучше, чем вы, и именно в вашей школе следует учиться и воспитывать себя». Князь, казалось, не остался равнодушен к этому комплименту, но захотел показать мне, что он стоит намного выше того, что я имел в виду, и гордо ответил: «Это еще не все. Нужно быть рожденным для этого». Я тут же нашелся в ответ: «И главное, нужно быть очень удачливым».
С этой минуты князь стал еще более вежлив, вследствие чего мое мнение о нем повысилось, и наш разговор стал более непринужденным. Назавтра я даже с удовольствием услышал от него лестные высказывания о храбрости, патриотизме и талантах поляков.
Он много рассказывал мне о земледелии, ботанике, о тех усовершенствованиях, которые были необходимы для организации фабрик и мануфактур в той части Польши, где находились его владения, а также для расширения торговли во всей стране. Он показал мне полотно и часы, произведенные на его предприятиях в Дубровне, то есть на тех землях в Белой Руси, которые он недавно купил у графа Ксаверия Любомирского.
В тот же день около полудня князь устроил нечто среднее между завтраком и обедом. Присутствовали только граф Пассек, архиепископ Могилева Богуш-Сестренцевич и я. Мы разместились за столом, накрытым по меньшей мере на тридцать персон. Все остальные, мужчины и женщины, лица первого ранга, держались на почтительном расстоянии в салоне и в соседних апартаментах. Наконец князь распрощался с нами, ушел и вскоре отбыл с тем же блеском и шумом, с каким прибыл.
Несколько часов спустя я покинул Могилев и отправился прямиком в Варшаву. Естественная усталость от путешествия помешала мне покинуть мой дом сразу же по прибытии и отправиться к королю. Я получил от него записку с приказом явиться в Лазенки к нему на обед. Там же он упрекал меня за то, что я не появился у него, и объяснял свой упрек причинами, о которых хотел сообщить мне в личной беседе.
Я не понял этой последней фразы и с нетерпением ждал его объяснения. После обеда король уединился со мной и сказал, что был сильно смущен, узнав, что я был в числе лиц, которые не одобряли конституцию 3 мая. Если бы ее осуждал любой другой, кроме меня, он был бы менее обеспокоен, но я слишком известная и заметная фигура в стране, и поэтому мое мнение может сильно повлиять на тех, кто считается с моим отношением к этому делу.
Я честно ответил королю, что им получены ложные сведения об этом и что меня мало заботит, кто был автором этой басни, сочиненной наудачу, и что я ее презираю. Однако мне хотелось бы узнать у короля, есть ли у него на руках какие-либо более серьезные доказательства, помимо устных доносов. Король признался, что таких доказательств у него нет, но речь идет о письме, которое я отправил в свое время в Гаагу: в нем якобы я был далек от одобрения того, что происходило на сейме, и выражал недовольство конституцией 3 мая.
Долгого объяснения не потребовалось, так как мне не составило труда вспомнить, что именно могло вызвать такие подозрения.
Покидая Гаагу, я обещал одному из моих коллег дипломатов, с которым я был очень дружен, поддерживать с ним постоянную переписку. Это был кавалер д’Араухо, посланник Португалии, которому я не имел никаких оснований не доверять и который, без всякого сомнения, никому не показывал моих писем. Все мои письма дошли до него, за исключением последнего, к которому был приложен большой пакет, содержавший ответ на все его вопросы относительно конституции 3 мая. Это письмо было перехвачено и вскрыто одним недобросовестным чиновником представительства Польши в Гааге, который неоднократно пренебрегал своими обязанностями во время моего пребывания в Голландии и потому вынужден был выслушивать мои упреки. Он захотел отомстить мне и передал примасу, брату короля, когда тот проезжал через Гаагу, оригинал этого письма, где, как ему казалось, содержались неоспоримые доказательства моей ненависти к королю и моего пренебрежительного отношения к конституции 3 мая.
Примас сообщил об этом письме королю, но не передал ему этого письма, которое мог где-то затерять, однако у меня сохранилась его копия, и я обещал королю назавтра принести ее. При этом заверил, что хотя в письме содержались некоторые замечания на его счет, но не было ничего такого, что он мог бы осудить. Это письмо не было официальным документом, а лишь излиянием сердца перед другом, чей характер и взгляды были мне хорошо известны. К тому же этот друг был посланником далекого государства, которое не могло причинить никаких неприятностей Польше. Будучи далек от осуждения конституции 3 мая, я говорил о ней со всем тем уважением, которого она заслуживает, и отдавал должное ее авторам. И наконец, мое беспокойство и страх относительно будущего Польши лишь доказывают, насколько близко к сердцу я принимаю интересы моей родины. Я жажду, чтобы все усилия нации были объединены ради сохранения неделимости Польши и соблюдения ее вновь принятой конституции. В конце последовало честное признание: то, что было сказано в письме о короле, является моим личным мнением, и его разделяют многие другие лица, искренне преданные своему королю.
Король приказал мне прийти к нему через два дня, и я принес ему копию того письма. Вот его содержание.
«Господин кавалер, вы расспрашивали меня о событиях 3 мая, о которых сообщали газеты и курьеры, доставлявшие известия посланникам разных стран в Гааге, но вы не сочли их достаточными, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Надеюсь, что мною вы будете довольны, так как я посылаю вам с верной оказией большой пакет, содержащий часть протокола сейма с переводом основных речей, произнесенных на заседании 3 мая, а также описание торжественной церемонии, состоявшейся в тот же день. Все это рассказано очевидцем, на чью порядочность вы можете положиться. Итак, что касается вашей первой просьбы, она полностью удовлетворена. Мне труднее удовлетворить вашу вторую просьбу – пояснить вам, каково мое мнение о тех изменениях, которые должны произойти в образе правления Польши, и каковы могут быть их результаты. Вы знаете мои чувства по отношению к моей родине: мы часто говорили с вами о них во время моего пребывания в Гааге. Мне было приятно беседовать с вами, потому что вы любите Польшу и поляков и потому что мы с вами единодушны во взглядах на то, что составляет счастье народов вообще. Мы с вами едины в отвращении ко всему незаконному, сомнительному и несправедливому. Исходя из этого, мы осуждаем поведение России по отношению к полякам и считаем также, что Польша, подавляемая в течение стольких лет, должна стремиться уйти из-под ига, под которым она стонет, и воспользоваться нынешними обстоятельствами, чтобы сменить у себя форму правления. Но отвечает ли конституция 3 мая этим потребностям, ожиданиям и надеждам поляков… этого я сейчас не могу вам сказать, тем более что прошло всего лишь пятнадцать дней, как она была принята и опубликована. События следовали одно за другим с такой скоростью, что я с трудом улучил время, чтобы перечесть ее после опубликования. И тем более не было времени, чтобы вынести о ней суждение на свежую голову, так как мы все были в состоянии пьянящего восторга, что не располагает к хладнокровным рассуждениям о будущем. Я убежден, что эта конституция основана на разумных и умеренных принципах, что она более соответствует национальному характеру, чем какая-либо иная, а также отвечает нынешнему состоянию Европы, в которой борьба между анархией и деспотизмом становится неизбежной. Я убежден в чистоте намерений моих соотечественников, восхищаюсь их мужеством и энергией, их стойкостью в борьбе с препятствиями, встречаемыми со всех сторон. Очевидно даже, что сам король решился добровольно следовать за ними и что сейчас, когда я вам пишу, он, как и все мы, охвачен энтузиазмом по отношению к этому великому делу, которое он считает и своим делом… Но можно ли наблюдать без тревоги и страха за сближением Швеции и России? За неизбежным заключением мира между этим государством и Турцией? За интригами, плетущимися за спиной Польши даже в дружественных ей дворах? И, наконец, за паническим ужасом, который французская революция навеяла всем европейским кабинетам?.. Я убежден, несмотря на все это, в жизнестойкости моей родины, если двенадцать миллионов жителей, составляющих ее население, объединятся на защиту своей конституции и своих границ. Если бы только оппозиционная партия, на самом деле незначительная, но возглавляемая несколькими богатыми и могущественными лицами, не искала поддержки у России, чтобы отменить все то, что было установлено сеймом, и произвести переворот, который может оказаться весьма кровавым!.. Вот если бы сам король стал во главе наших храбрецов, лично повел их на поле битвы и подал пример тем, кто хочет за ним последовать!.. Я могу вас заверить, мой дорогой кавалер, что по первому зову короля все владельцы покинули бы свои имения, взялись бы за оружие. Каждый отдал бы все, что имеет, на службу родине. Я говорю с такой уверенностью, потому что знаю: мои соотечественники способны на самые великие жертвы, если во главе их станет достойное лицо, разделяющее их энтузиазм и заслуживающее их доверия. Не вызывает сомнения то, что король, который по праву заслужил любовь и благодарность нации, мог бы быть этим достойным лицом… Но перо выпадает из моей руки, когда я думаю о том, что наш король добр, но слаб, хочет блага, но не имеет мужества и твердости воли, чтобы принять должное решение. Он будет первым, кто пустится на поиски примирения, как только раздадутся первые угрозы со стороны России! Он не откажется от своих мирных обычаев, не пожертвует своим отдыхом и спокойствием, чтобы подвергнуть себя превратностям войны. Несмотря на свои обещания и лучшие намерения, он принесет в жертву свою славу и нашу бедную Польшу!.. Как бы я хотел ошибаться!.. Я желаю этого, но не надеюсь!.. И т. п. и т. д.
Варшава, 20 мая 1791.
Михал Огинский»
Читая это письмо, я наблюдал за королем и заметил, что оригинал письма не был ему известен, так как он слушал с большим вниманием, и письмо произвело на него сильное впечатление, которого он не мог скрыть. Он признал, что я говорил о конституции со всем почтением, которого она заслуживала. Он допускал, что мои тревоги относительно будущего частично обоснованны, но надеялся на Господа и на правоту нашего дела. Он не допускал мысли о том, что король Пруссии может изменить свои намерения (хотя в то время в этом уже не было никаких сомнений), не верил также, что французская революция может оказать влияние на судьбу Польши, не допускал мысли о том, что некоторые члены сейма, недовольные конституцией, могут открыто объявить себя врагами родины. Он также пытался меня убедить, что, зная русскую императрицу, может быть уверен, что она, при всей ее предубежденности против польской нации, не намерена вмешиваться в наши дела, что она не только не вынашивает планы нового раздела Польши, но, напротив, воспротивится им, если об этом встанет вопрос.
Что же касалось моих слов о самом короле, то он слегка упрекнул меня за них и казался очень задетым, узнав, что многие другие разделяли мое мнение о нем. Он заверил меня, со слезами на глазах, что на его счет сильно ошибаются, что он всегда был невезучим, но никогда – виновным перед нацией, что его деятельность еще развеет ошибочное мнение о нем. Он горячо говорил о своей любви к родине и заявил, что никакая сила не поколеблет его убеждения и что он готов даже пожертвовать остатком своих дней, если это будет нужно, чтобы поддержать конституцию и укрепить благосостояние Польши.