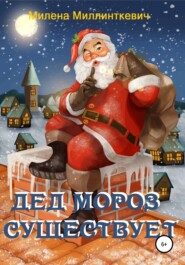По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Как Люсинда за Оскаром ходила
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Подходите поближе. Мы вас награждать будем, – озираясь по сторонам, промямлила переводчица с иноземного.
– А! Ну так бы сразу и сказали! – местами беззубо заулыбнулась Люсинда.
Подойдя к трибуне, она поставила с краю кашолку, поглядела в зал и два раза стукнула по микрофону, как это делала председатель:
– Здрасте вам! А я с Сельпо иду, а тут такое деется. Дай, думаю, зайду поздоровкаться!
Бородатый дядька откашлялся, открыл конверт, начал читать, а потом, как закричит по-своему и на Люсинду пальцами указывает.
Подбежали две размалёванные девахи в полупрозрачных комбинашках. Одна в руки веник цветастый суёт. Другая – мужика золочённого размером с тепличного огурца.
– Приз за лучшую женскую эпизодическую роль получает Люсинда Спесивцева! – прокричала в микрофон переводчица.
Зал взорвался аплодисментами. Люсинда захлопала глазами, посмотрела на раздражающе пахнущий веник, подмигнула переминающейся с ноги на ногу в кулисах Клавдии и, понизив голос до баса, спросила:
– Правда, что ли?
Переводчица отчаянно закивала.
– Ой, ё! – изобразила искреннее удивление на нахально лыбящемся лице Люсинда. – Так это мы завсегда рады премиям. Лучше, конечно, не веником, а деньгами. А то, слышь! Палыч-то мой по пьяни в курятник на трахторе въехал. Теперь ремонту на червонец. Не меньше!
– Поблагодарить надо, – тихо пробубнила переводчица.
– А! Ну это… Спасибочки за бурьян, можно подумать, у меня такого нет. Вона в огороде коси косой – не скосишь за лето.
– Руководство благодарите! – переводчица зло зашипела.
– Дык… Гу… гы… Губырнатору нашему и прыдсыдателю колхоза поклон низкий, за то, что этот цирк сюды привезли. За штуковину золочёную спасибочки. Тяжёлая! Пригодится в хозяйстве орехи колоть. А то каменюкой я ужо раз двадцать по пальцам лупасила.
Люсинда покосилась в кулисы на пунцовую Клавдию и онемевшего председателя, обвела ошалелым взором зал и как треснет себя полбу:
– Мать чесна?я! Как же это я, а? Клавк, а Клавк! У вас тут тазик где-то был, ну тот, шо на Новый год для оливье используем. Тащи! Ща мы тут и выпить, и закусить найдём! Такое событие отметить надобно! Ща, салатику накрошим, сырка, колбаски, сальца нарежем, огирков нашинкуем, у меня вот… – Люсинда достала из кашолки бутылку самогона. – Маловато, правда, на всех. Слышь, папаня, ты где? В зале? Чи нет? Молчит! От зараза окаянная ты, Клавка! А брехала, что все тут. Сгоняй-ка по шустрому к деду Никифору. Скажи, нехай погреба отворяет. Гуляем…
Весь следующий год колхозные сплетники гудели, как потревоженный улей. Перемывали косточки председателю, губернатору, почтальону Ваньку, иноземным гостям и, конечно же, Люсинде. Единодушно пришли к выводу, что премия Оскар к ним в колхоз больше не приедет. Но вот по какой причине, вспомнить так и не смогли.
Нет, встретили гостей душевно. Пировали, как и полагалось в таких случа?ях три дня. Головы после торжества у колхозников трещали ещё неделю, у местного начальства месяц, а у гостей заморских и по сей день похмелье. А чего вы ожидали? Пусть спасибо скажут, что после самогона деда Никифора живы остались.
Сам же дед Никифор пребывал в тоске и печали, да каждый день бранил дочку:
– Люсинда! Что б тебя, баба чумная! Накой лях ты такую рекламную акцию забахала, что весь колхоз до следующего урожая свёклы сухим оставила. Эти заморские мистеры и их мадамы выжрали все мои запасы. Даже то, что я себе на похороны заначил.
– Ничё, папаня! – колотя заморской статуэткой орехи, мечтательно вздыхала Люсинда. – Зато в наш колхоз теперь экскурсии из райцентра и области возют. Меня показывают, клуб и руины колхозной столовой, где Оскар гулял. Эх, хорошо посидели. Жаль мало. Надо бы как-нибудь повторить! Или ещё чего замутить. Как мыслишь, папаня?