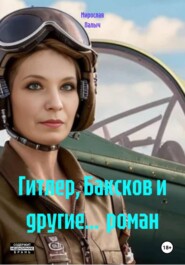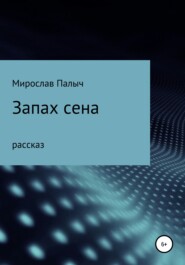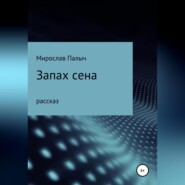По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
F63.9 или Луганск 001
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
…Может, мы были, «иночкины», те, кто меньше сидели дома под опекой бабушек и родителей и не ходили в садики и дома пионеров, а больше слонялись или отирались (слово «тусовка» тогда было не в ходу) по укромным закоулкам дворов и привлекательным для подростков пейзажам советских долгостроев. Те, кто приноровились больше жить сами по себе, что означало – слушать «Can’t Buy Me Love» под принесенное в полиэтиленовом пакете добытое в давке очереди разливное «Жигулевское» с друзьями, когда нет дома предков; тереться с гитарами по подъездам, пробуя закуривать горькие бычки в то время, когда надо было собирать металлолом и макулатуру, сдавать «ленинские зачеты», ходить во внеклассные кружки; готовиться к советским праздникам – учить стихи о партии по случаю дней Шахтера, Строителя, Металлурга… Когда надо было, не дай бог, не пропускать постоянных чествований старых большевиков, ветеранов войны, Героев Соц. Труда или ударников пятилеток. …Может мы были больше из тех, кто якшался не со сверстниками, а с блатноватыми старшими товарищами, которые могли с первого выстрела сбить из рогатки сидящего на проводах стрижа. В таких «товарищах», по детской жестокости и, вероятно, из врожденного чувства протеста против стереотипства, нам виделся пример для подражания более притягательный, чем в Феликсе Дзержинском, Павлике Морозове или примерном коммунисте – каком-нибудь партийски верноподданном капитане атомного ледокола.
Но как бы, однако, мы ни топорщились, все равно, как и вся страна, ходили все в тюбетейках и «семейных» трусах.
…До сих пор не могу понять: как можно было мириться с таким количеством семейных трусов и тюбетеек? Сейчас удивительно, что в каком бы регионе ни жил человек, он имел синие «семейные» трусы, а часто к ним и тюбетейку. Именно в таком виде советские граждане и ходили по учреждениям торговли и быта требовать «жалобную книгу» …Нет, оговорюсь для рожденных в веке двадцать первом, не подумайте буквально: трусы граждан были, разумеется, под брюками, все было запущено не до такой степени.
Наверное, неуклюжесть легкой промышленности была неотъемлемой чертой тоталитаризма, а такой, в каких-то местах всегда бывает смешон. Но смешон совсем не в том его абсурдном кретинизме, преподнесенном менталитету больше западного читателя романом Оруэлла. …Сейчас же мне представляется: если по-сегодня еще нигде такой же логичный абсурд капитализма достаточно не описан, то дождется своего оруэлла – вот-вот…
Как рождалась романтика
…Еще не могу до конца сегодня понять – это куда же так быстро исчезла нерушимая дружба народов СССР; где гора из «золота партии» и откуда вдруг сразу в стране взялось такое множество попов и проповедников вместо «уголков атеиста»?.. И еще вот эти, наряду с попами, тьмы морочащих себя же всяческими методиками, психологов…
Еще в перестроечное время во мне родилось подозрение, что попы, психологи, как и многочисленные историки КПСС – и, как и я, разумеется, просто любители быть лентяями, а эти профессии в стране, где бутылка спиртного при необходимости тут же превращает в «психолога» (а то и в «психиатра-академика») любого, с кем выпиваешь, повод, чтобы и лентяям было на хлеб. Хотя, все ли работающие – не лентяи. А если их работа как убегание от себя – работа ли она… И только ли та работа по-настоящему, «работа», или деятельность по-настоящему, «деятельность» – если оплачиваемы…
Когда Пател, индиец-студент, бывавший моим переводчиком на встречах со Shri Kuchakt, принес мне переводы новых терминов из психологики Учителя, то, как оказалось, «самой большой на земле работой»* Бхагваном было названо просто – постоянное осмысление происходящего.
…И, помню, что значительно позднее в сексуальном нашем воспитании принял участие фильм от более раскрепощенных тогда, чем мы, поляков «Анатомия любви», который очень ругали письма ветеранов-пенсионеров, говоривших со страниц тогдашних газет, что «не за то они проливали кровь, чтобы их дети и внуки смотрели…». Что именно «смотрели», не помню, и спросить теперь не у кого: многим из еще тогда пожилых уважаемых ветеранов, что писали в газеты, не могло достаться болезненной ломки стереотипов об нынешнее, от отечественного кинопроизводителя, крутейшее порно в краснозвездных серпасто-молоткастых и с героическим революционным крейсером, интерьерах…
Думаю, или, точнее, помню, что романтика начинает просачиваться в человеческие души не только из песен и фильмов. Вот раньше, обиженный однажды не понявшей его зимней вечерней порой одноклассницей, какой-нибудь восьмиклассник-романтик мог сесть в большущий разгоряченный от мотора автобус и просто ехать по маршруту от кольца до кольца, пригревшись в самом уголке на задних сидениях.
Вот так вот, окунувшись посреди городской обыденщины и озабоченного решением последних Пленумов многолюдья, в свое горемычное одиночество; вдоволь наглядевшись в окно и обмечтав предмет своего обожания, придя домой, он писал вместо уроков назавтра стихи или прозу. Или же стихи в прозе, примерно такие: «Ночь. За окном зима. Стайки лохматых снежинок кружа, садятся на твою, так мне знакомую, непокорную русую челку, и на ресницы, скрывающие волшебную голубизну твоих глаз, которые так и не видят мою печаль…». А восьмиклассник, способностей ко стихослаганию не имевший, в подобной ситуации теребил в своем воспаленном первой любовью, уме готовые песенные строки:
«…А я смотрю в твое окно,
тебе, быть может, все равно…»,
или:
«…летним зноем вдруг станет стужа
и поймешь, что тебе я нужен…».
«Не вернется вновь, не вернется вновь, не вернется вновь это лето к нам», – повторял себе в уме один из учеников самых безнадежно влюбленных, подрастающий будущий БАМовец. Так бывает у романтиков, – они мечтают о лете, которого и не было, но которое не вернется…
В светлом прошлом…
…Сейчас вместо больших трудяг-автобусов по улицам городов резво снуют в конкурентной борьбе за пассажира куцые маломерки-маршрутки. Ехать от кольца до кольца в таких – романтика уже не та. Да и многое мне сегодня, может, уже по-старости, но видится все больше таким же поверхностным, обмельченным и «куцым»… Да…, «…столько усталости ранней в душе напласталось, что, видимо, это уже называется – старость». … Мог ли знать поэт, написавший во времена «брежневского безвременья» (которого не было, потому что не могло быть) эти замечательные строчки, ту от Бхагвана истину, что усталость в человеке бывает только оттого, что делает не свое дело; не то, что следует делать в данный момент. И только…
В той жизни многое за нас решала власть, или, как говорится теперь, «система», бывшая однопартийной, совершенно нам не дававшая в каких-то направлениях тужиться самостоятельно. И хотелось напрячься, не давали – вот где была заморочка. Всяческий напряг, и в особенности творческий, в то время требовался идеологически выдержанный, и результат его, за редким исключением, когда нельзя было замолчать произведение творчества нечиновничьего, был тут же искусственно представляем бдительными идеологическими фронтовиками от литературы, как взлелеянный политикой партии.
Актеры, как жертвы двойной морали, лгали самым ужасным образом и играли в отечественных фильмах о героике тех или иных дней персонажей, каких, ими сыгранных, в действительности никогда не могло быть. …Многие из нас ведали, что «свободное» театральное искусство ютилось вроде как на «Таганке», но это было для узейшего круга столичного зрителя, и мы больше обсуждали постановки понаслышке, каких «живьем» не видели.
В многих, того времени, современных киновыдумках о партии, положительные герои много курили. Видимо, построители фильмов рассчитывали, что когда такой герой курит, то зритель должен понимать: в этот момент его голова занята самоотверженными высокопартийными мыслями, недоступными «неарийским» головам беспартийных. …Значительно позже в «Словаре» Shri Kuchakt я прочел: «Курение дано человеку для возможности жить нечестно»…
Редкое поэтство, писательство и художничество хоть иногда не запускало в своем творчестве «прооднопартийного петуха».
Нам же, молодым, жадным к жизни, изобилующей еще непознанными будто бы свободами, «чувакам», верноподданническая однопартии «система» так набила своей идеологией оскомину и виделась настолько отвратно навязчивой, что, в конце концов, нам скоро и навсегда расхотелось быть передовиками производств, знатными китобоями, космонавтами и совсем не хотелось хоть раз победить в соцсоревновании. Огромное партийно-хозяйственное сердце загроможденной пятилетками и съездами страны для незаболевших построительством светлого будущего билось повсюду, но как бы где-то параллельно. И страна, словно бы где-то в стороне, всегда была занята каким-то большим делом: метала в небо космические корабли, строила заводы-гиганты, БАМ, поднимала целину и несла потери в «битвах за урожай», или доставала с отколовшегося куска льда очередную героическую или нерадивую экспедицию.
А мы все хотели от этого как-нибудь – да сбежать. Сбегали по-всякому: кто-то надевал неудобные наушники величиной с пару самокатных колес, давивших на кумпол как звуком, так и собственным весом и, прихлебывая из горлышка «три семерки», предлагал свои уши Оззи Осборну для сеанса сатанения мозгов или раскалывал себе голову, – чем другим, тем, что было задолго до «Рамштайна» и «Металлики»; …до засилья «легкой» или «тяжелой» наркоты.
…Мне, думается, больше повезло тем, кто мог сбежать от действительности, огороженной невидимым «железным занавесом», вдруг «въехав» во что-то из музыкальной классики или ненароком натолкнувшись на несоциальные поэтические строки, дающие хлебнуть свежести иного порядка, как то:
«Шел я вдоль русла какой-то речушки, /грустью гонимый. Когда же очухался,/ время стемнело. Слышались листья: /мы – мысли! /Пар понимался с притоков речушки: / «мы – чувства!»…
В жизни той было нелегко не поддаться постоянно давящей – то завуалированной, то хамски прямолинейной – идеологической навязке, и не реагировать на спускаемые сверху циркуляры, требующие идеологического обрамления того или иного творчества; по сути, вынуждающие творческую братву принимать все меры к тому, чтобы ни в коем случае, вдруг случайно, не снять с глаз многочисленного населения огромной страны шоры, без которых можно было бы рассмотреть какие-то преимущества иного общественного строя. Таких книг, как «Мастер и Маргарита», казалось, было штук полсотни на весь Союз, за ними, чтобы прочесть, выстраивались очереди. Книги давались на одну-две ночи, не больше, и горе было их задерживающим.
Конечно, мы не только читали – и телевизор смотрели, который политически малограмотным, вроде меня, пацанам, требовался для «футболов», «Новогоднего огонька», КВНов… Был еще «Кабачок 13 стульев», но нас, имеющих примерно один на десятерых «Sharp» – приемник с КВ-диапазонами, по случаю по дешевке выдуренный у желающего опохмелиться моряка на суррогатный польско-советский песенный репертуар, было не купить.
Тогда же настоящим мерилом степени «талантливости» литературного произведения в читающей стране было его полное отсутствие на прилавках, в библиотеках или присутствие хоть где в отвратительно изданном или до непригодности затасканном виде. …Хотя, впоследствии, после бесед с Бхагваном, мне стало предельно ясно, что существенной разницы между большой и мелкой литературой нет; смотреть и видеть – две разницы: смотря как на каких тончайших мотивациях и энергиях осмысливается читаемое.
…Однако вряд ли стоит упоминать все – добрые и недобрые особенности жизни той, канувшей в лету, доперестроечной. Достаточно бы и какой-то незначительной приметы, в которой в одной, малой, возможно всегда разглядеть что-то обобщающее большое. Это было давно, это было и недавно. Но в той жизни моя родина-страна была столь великой и могучей в своем разнообразном единстве и широченности, что на чем-то одном остановиться, пожалуй, мне сложно, …и, по-моему, чтобы отразить столь могучее «безвременье» в немногословной мелочи требуется недюжинный талант художника – с буквы пребольшущей.
Сегодня
Сегодня, в этой жизни, фильмы не менее отвратительны, актеры, не ради идеологии, но заработка – врут многосерийно и свободно, хотя и врать-то, как следует, еще не научились. Книги поверхностнейшей тематики мерзят на прилавках примитивными названиями.
В той жизни, у нас романтиков были Джек Лондон, Фенимор Купер, Дюма… Сегодня, у «девяностников» Берроуз и «Чужие -3». …А из всех искусств для нас важнейшим стали замораживающие рассудок, но будто бы повышающие пресловутый «IQ», – а на деле трамбующие подростковую тупорылость компьютерные игры… И, тогда, в полное отсутствие тамагоччи-покемонизации страны, нам – студентам, еще пока не морочимым Мак Лаудом Бессмертным и Гарри Потером Превосходным, потомственно владеющими возможностями ради демонстрации возможностей, и спасающими наряду с Брюсом Уиллисом, ущербленное техногенизацией человечество, в свободное время вечерами оставалось читать Чехова или Олешу… И в жизни той для нас, подростков, вместо компьютеров были голубятни. …Хотя, вру, запамятовал, голубятни – это было у наших отцов, это они, в убегании от довлеющего сталинизма больше таращились на умеющих подняться над крышами птиц. А у нас, вместо нетворческого сидения перед дисплеями с мелькающими на них стреляющими рэйнджерами, и бьющимися автомобилями были стояния, с гитарами, в подворотнях, так не приветствуемые властью, считавшей, что все зло в социализме от патлатых гитаристов-самоучек, лабающих вечерами в подъездах и закоулках. «Мы влюблялись, смеясь была жизнь! Были силы хоть в бурю, хоть в драку! Нам хотелось спешить и грешить и, порою, хотелось в атаку…», – писали мы, семидесятники, наверное, надеясь этим убить резиновую двустандартную общественную мораль, забывая, что сами мы, затерянное поколение, живущее отдельно от чаяний страны, ничем не лучше или не хуже лишних людей печориных, которым просто не суждено…
Конечно же, все выношенное семидесятниками-романтиками на самых лучших энергиях, когда-нибудь придет в мир в полном объеме в виде другом, удобоваримом для использования и осмысления поколением нынешним. Когда-то и сердечно делаемое нами будет востребовано, как и то, что сегодня, может, еще невидимо творят сердечными мышцами и девяностники. Во мне жива уверенность, что какое-то значительное качество из семидесятых не пропадет. Не зря именно тогда-то и возник «знак качества».
…Девяностники сегодня пока зримо пишут все больше криминальные да женские романы и SMS-ки своим же, умеющим колбаситься, собратьям, что секут в рэпе, экстриме или коротают время в малоумном изнуряющем зависании в зомбирующих поверхностностью чатах.
До недавнего времени мне казалось, что я не столь уж одряхлел хоть внутренней сутью своей: способен где-то понять и молодых, тупо режущихся в «Doom», или читающих в метро Лермонтова с экранчиков мобилок. Но вот книга для меня, росшего в читающей стране, всегда была предметом значительным, и, может, поэтому сегодня тихо «охреневаю», другого слова не подберу, когда попадается на глаза в добротном переплете примитивнейшего, дальше некуда, пошиба мозготупящее мыло или же жлобская кинобандитская сага в надписи на обложке: «Это должен прочитать каждый». А то, «ново- заумственное», что считает себя обязанным прочесть каждый, кто «не каждый», птичим языком пелевиных писаное, по сути, – прелестеобразно, поверхностно; никаково. …Ловлю себя на том, что сталкиваясь с явлением такой неприкрытой, удручающе наступательной мурластости, – хочется, подобно иным, бесповоротно состарившимся, – говорить о конце Света. …Если только не вспомнить слова Shri Kuchakt: «Конец Света у каждого свой, личный».
Мы многое могли. Но многое и не смели, и на это многое, что не смели, просто не имели права, согласно условий и условностей той жизни. Достававший нас «масскульт» и «массимидж», от которых даже в недалеком будущем мало что остается, – существует во все времена. И девяностники, жующие отбеливающий зубы теперь недефицитный разносортный «чуингам» и постигающие литературу с электронных носителей, тоже, наверное, живут вопреки чему-то. Они также, видимо, живут вопреки тому, на что не имеют права, и этим самым «вопреки» и двигают по-настоящему свой «девяностнический» прогресс. И мы, многие, уже отупорылившиеся от утрамбованных в себе по возрасту стереотипов, семидесятники, зачастую не понимаем, что девяностники нам не «чужие», а всего-навсего – другие.
Наверное, имеют также и они, «девяностники», сегодня в чем-то с в о ю неповторимую романтику, которая лавирует между простецко-дурацкими фильмами; среди множества пестрящих дебильных обложек и хитроумных кампаний по выбору в депутаты или президенты очередных кандидатов, от клик бандитствующих или уже олигархствующих прохвостов…
Сегодня мне, пережившему перестройку (а может, как знать, «переломайку»), когда искусства, как им и положено в такие времена, стали катиться вниз, нагло акцентируемые примитивными «измами», видится естественным и закономерным: на сломах эпох многие деятели этих самых искусств некоторое время особенно акробатически-изощренно начинают кувыркаться в своем творчестве, прикрываясь примитивной ширмой новейшества. Это потом становится ясно, что никакого вечного искусства с угловато- наступательной биркой «авангардизм» нет и быть не может. А есть от еще непобежденных творчеством заскорузлых комплексов; от нетерпения и желания быстроты действия, какие по Shri Kuchakt зовутся «энергиями жадности», нежелание копнуть глубже, чтобы осмыслить и творить на лучших человеческих энергиях то, что выше хиппизма и, во многом, направления авангардного.
Хорошо, я не особо писательствовал в то время, а то вдруг бы тоже «напетушил» и теперь было бы «мучительно больно» за понаписанное. А «напетушил» бы чего-нибудь точно: ведь с самого желторотого детства был очарован отовсюду слышимым про таинственную Цикаку Пэ-эсэс. Кто такой, такое, такая «Цикака», я еще не мог знать, но уже был автоматически призомбирован значительностью и загадочностью звучного вездесущего сочетания звуков.
Об армагеддоне, Сталине, о нас…
Став чуть старше, я уже смутно и отдаленно представлял себе, что есть на свете ЦК однопартии. И тогда же, помню, в какой бы эйфории ни пребывало балдеющее от хрущевской оттепели население Великой Социалистической Державы, мы своими детскими загорелыми носами тонко чувствовали еще исходящий от стариков, едва уловимый, не до конца улетучившийся запах страха когдатошней тотальной слежки. Страха, что могут ночью прийти «кто нужно» и увезти «кого нужно» и «куда нужно».
…Задрочь и смур. Вот чего уже почти нет в нынешней жизни, в искусстве. Нет когда-то присталой ко всему советскому люду тяжело отрабатываемой сталинского времени кармы в виде смура, какой уже не присущ поколению нынешнему. Нет и задрочи, непрерывно испарявшейся в социалистическое ментальное пространство от рев. настроенных вожаков, самих задроченных делом и временем всемирной рев. суеты, еще коснувшейся времени и брежневского. Только на старых фотографиях еще можно просмотреть эту задрочь и видеть этот смур, эту покорность тяжелейшей неподъемной судьбе, когда время было иное; карма страны в целом была иная. С желтых фотографий глядят лица, на которых написано: «Жить нам в коллективе все „лучше, все веселей“ … Но мы готовы страдать еще больше, если так надо Сталину, родной партии, делу победы революции во всем мире….».
…А сегодня… Какими незамученными бытом чертовски неоправданно красивыми и бесстрашными молодыми людьми пополнилась земля! В их глазах уже нет ни смура, ни задрочи. Они с совершенно другой кармой – без печати слишком уж гнобивших человека времен. Видимо, очищается она, земля, от грязи, что и отражается на людях. Раньше молодых людей старшему поколению приходилось лишь поучать, а этими, живущими уже на совершенно других энергиях, остается только любоваться. … (Прошлой осенью в одну из наших с ним, ставших ежегодной традицией встреч, Бхагван проговорился; совсем между прочим, невзначай, поставил меня в известность, что Армагеддон уже закончился, еще – 1 мая 2005года. И выходит: живем мы в эпоху развитого Апокалипсиса…*). …А может сейчас меньше смура, задрочи, и наполненности, а больше пустоты и похеризма оттого, что всякий идейный и безидейный смысл завтрашнего дня размылся?.. И люди красивы – от простой раскрепощенности?.. Не к «последним» ли векам приближаемся и рождаемся в энергиях красивых внешне, но внутренне «гоблинов», что более всего нуждаются в трансмутации, в переделке, какая возможна только в теле, только здесь на земле…
…Неужели и правда «последние века» отрабатываем на грешной, точнее, на уже почти очищенной от грехов планете… …И вот еще сегодня явление: как бы не сатанински устремленные в безэмоциональные знания своенравные, генетически не знакомые с жалостью, прагматики – Индиго-дети, мультиплеты*, которые …не читают, но иногда дают понять, что родились уже с прочитанной классикой голове и в книжном виде она им не требуется… И не вижу, что эти дети способны глубоко во что-либо устремиться. Кажется, что только и выжидают они своего часа, чтобы получить способность к солнцеедению, телепортации или чтению мыслей на расстоянии…
…А о временах былой тотальной слежки отдаленно «напоминают» спланированные, наверное, чекистами, стоящие по российским и украинским деревням домишки по обеим сторонам улиц, – постройки образца времен культа личности с вытаращенными друг на друга окнами. Хотя, может быть, архитекторы-чекисты здесь и не причем: сами хозяева-застройщики, затурканные революциями, чувствовали, что не на виду, за забором, вполне может окопаться враг народа. …Но когда я уже родился и мог вдыхать влажный неиссякаемый воздух, пропитанный запахом каштанов, то жили все так, будто этого страха никогда в истории и не существовало вовсе. Словно и самих репрессий и «культа личности» не бывало… Невозможность жить вне двойной морали была нам подсунута страной с детства. …«Раздвоенного времени приметы я чувствую мучительно в себе», – как великолепнейше посреди «безвременья» изречено аварским Мудрецом, так и не ставшим кандидатом филологических наук…
…Когда мне было лет десять, я стал проявлять склонность к рифмованию коверкаемых мною же слов, что забавляло и взрослых. «Ехали мудаконяки – это люди-коммуняки», – ляпнул как-то при гостях, невесть что пришедшее в голову, да так, что услышали все. В то время я много чего нарифмовал из всяческих исковерканных словес, но запомнил только это. Запомнил оттого, что потом мое ухо от отцовой оплеухи очень долго было похоже на фиолетовый капустный лист.
Вопреки распространенно бытующему мнению, что натуры романтические ранимы до болезненности, и по ушам их лупить нельзя, полагаю все же, что романтик – в конечном итоге – оказывается более сильным, а слаб он, точнее не слаб, а уязвим тогда, когда на своей романтической волне напрочь забывает, что в заземленном и «яростном» социуме иной раз следует защищаться от попадающихся на жизненной стезе воинствующих «неромантиков». …А вот есть ли воинствующие романтики, каких, «воинствующих», я не могу считать романтиками полноценными? …Может, таких большинство и было из «шестидесятников», что в свое время из тайги, у костров с гитарами демонстративно и отчаянно пытались навязывать «совковой» Системе мотив иной и дать понять, что кроме «Дома восходящего солнца» и «Черного кота за углом» – может быть еще что-то?..
…Что тут поделаешь, если гости могли не понять, а отцу, ушедшему на фронт добровольцем, доводилось кричать: «За Родину! За Сталина!» и «Коммунисты, вперед!». …А сегодня я даже и не знаю, какие лозунги могли бы вытолкнуть меня из окопа под пули. Сегодня-то физически воевать я не буду ни с кем, потому как сегодня твердо знаю: те, кто «враг у ворот», – тоже всегда люди. А тогда, в период уже допризывной зрелости, но, может быть, недозрелости человеческой многие из нас ринулись бы в атаку на «реваншистов» с возгласом: «За битлов!». Или: «За Макаревича!», оттого, что любили его тогдашний хит «Новый поворот», который своей утонченной мелодийной четкостью и притягательной социально-роковой простотой перекликался с песнями «Битлз».