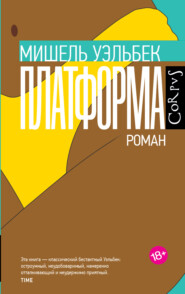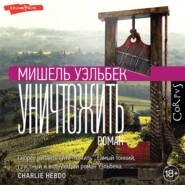По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Элементарные частицы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мишель с тех пор хранил фотографию, сделанную в саду родителей Аннабель во время пасхальных каникул 1971 года; ее отец спрятал шоколадные яйца в кустах и на цветочных клумбах. На снимке Аннабель стоит в гуще форзиций; увлеченная поисками, она с детской серьезностью раздвигает ветки. Черты ее лица уже тогда становились все утонченнее, и можно было догадаться, что она вырастет необыкновенной красавицей. Свитер слегка обтягивает ей грудь. Шоколадных яиц на Пасху ей больше не достанется; на следующий год они станут слишком взрослыми для подобных забав.
К тринадцати годам под влиянием прогестерона и эстрадиола, секретируемых яичниками, у девочек накапливаются жировые отложения в области груди и ягодиц. Если повезет, означенные части тела приобретут гармоничную полноту и округлость; эта картина пробуждает в мужчинах бешеное вожделение. Как и ее мать в том же возрасте, Аннабель могла похвастаться прекрасной фигурой. Но лицо ее матери было приятным и милым, не более того.
Никто не ожидал, что Аннабель вырастет такой невероятной красавицей, матери даже делалось за нее страшно. Огромные голубые глаза и фантастическую копну белокурых волос Аннабель наверняка унаследовала от отца и вообще от голландской ветви их семейства; но только неслыханной морфогенетической случайностью можно объяснить пронзительную чистоту ее черт. Обделенная красотой девушка несчастна, у нее нет шансов быть любимой. Пусть ее никто и не подкалывает, никто не язвит, но все смотрят словно сквозь нее и не оборачиваются ей вслед. В присутствии дурнушки окружающим становится неловко, и ее предпочитают просто не замечать. Феноменальная красота, выходящая далеко за рамки обычной девической обольстительной свежести, производит, напротив, какое-то сверхъестественное действие, и кажется, что неминуемо сулит трагическую судьбу. В пятнадцать лет Аннабель была одной из тех редких красавиц, на которых западают все мужчины подряд, независимо от возраста и общественного положения; таким девушкам стоит всего лишь пройтись по торговой улице небольшого городка, как у мужчин – молодых и не очень – учащается сердцебиение, а старики кряхтят от досады. Вскоре она обратила внимание, что при ее появлении, будь то в кафе или в учебной аудитории, воцаряется тишина, но ей потребовались годы, чтобы понять причину. В общеобразовательном коллеже Креси-ан-Бри все знали, что она “с Мишелем”; но и без того, по правде говоря, ни один мальчик не решился бы к ней подвалить. Это один из главных недостатков феноменальной красоты: только опытные, прожженные и бессовестные бабники чувствуют себя на высоте, поэтому сокровище девственности достается, как правило, самым отвратным типам – с этого начинается необратимая деградация девушек.
В сентябре 1972-го Мишель поступил в десятый класс лицея в Мо. Аннабель перешла в девятый; ей оставался еще один год в коллеже. Из лицея он возвращался на поезде, пересаживаясь в Эсбли в автовагон[14 - Автовагон — моторный самоходный железнодорожный вагон для перевозки пассажиров.]. В Креси он обычно приезжал в 18.33; Аннабель ждала его на станции. Они вместе гуляли вдоль каналов. Иногда – довольно редко – заходили в кафе. Аннабель твердо знала, что рано или поздно Мишель захочет ее целовать и ласкать ее тело, она уже сама ощущала, как оно меняется. Она ждала этого момента, не испытывая ни особого нетерпения, ни страха, она ему доверяла.
Притом что фундаментальные аспекты полового поведения являются врожденными, история первых лет жизни играет важную роль в запускающих его механизмах, особенно у птиц и млекопитающих. Ранний тактильный контакт с представителями своего вида, по-видимому, жизненно важен у собак, кошек, крыс, морских свинок и макак-резусов (Macaco, mulatto). Отсутствие таких контактов с матерью в детстве приводит к серьезным нарушениям полового поведения у самцов крыс, в частности к подавлению брачного ритуала. Даже если бы от этого зависела его жизнь (а в значительной степени так оно и было), Мишель все равно не смог бы поцеловать Аннабель. Часто, увидев, как он выходит из вагона с портфелем в руках, она ощущала такой прилив счастья, что буквально бросалась ему на шею. Несколько секунд они стояли обнявшись, в состоянии блаженного паралича, и только потом уже заговаривали друг с другом.
Брюно тоже учился в лицее Мо, но в параллельном десятом классе; он знал, что у его матери есть сын от другого отца, не более того. С матерью он виделся редко. Дважды проводил каникулы на вилле в Кассисе, где она жила. У нее зависали многочисленные молодые люди, забредавшие в те края по пути куда-то дальше. Этих молодых людей в популярных журналах называли хиппи. Они чаще всего не работали и у Жанин, сменившей имя на Джейн, жили на всем готовом. То есть на доходы от клиники пластической хирургии ее бывшего мужа, а значит, и за счет желания некоторых обеспеченных дам побороть неминуемое увядание или исправить природные недостатки внешности. Хиппи купались голышом в каланках[15 - Каланки – небольшие узкие бухты в западной части Средиземноморья.]. Брюно наотрез отказывался снимать плавки. Он чувствовал себя белесым, крохотным, противным, жирным. Мать то и дело укладывала какого-нибудь юнца к себе в постель. Ей исполнилось сорок пять, ее вульва похудела и слегка обвисла, но лицо не утратило былого великолепия. Брюно дрочил по три раза в день. Вульвы разных девушек находились иногда на расстоянии вытянутой руки, но при всей их доступности Брюно прекрасно понимал, что путь к ним ему заказан: другие парни выше и сильнее его, да и загар у них красивее. Много лет спустя Брюно осознает, что мелкобуржуазный мир, мир госслужащих и менеджеров среднего звена, более терпим, гостеприимен и открыт, чем мир молодых маргиналов, представленный в то время хиппи. “Если я правильно выряжусь, респектабельные чиновники меня примут, – любил повторять Брюно. – Мне только и потребуется, что купить костюм, галстук и рубашку – в C&A на распродажах эти шмотки мне обойдутся в каких-нибудь 800 франков; на самом деле мне просто надо научиться завязывать галстук. Отсутствие машины – это, конечно, проблема и, по сути, единственная трудность, подстерегающая менеджера среднего звена; но и с ней можно справиться, взять кредит, поработать несколько лет – и готово. А вот косить под маргинала не вижу смысла: я недостаточно молод, недостаточно красив, недостаточно крут. У меня редеют волосы, я склонен к полноте, с возрастом становлюсь все тревожнее и уязвимее, так что отторжение и презрение окружающих больнее задевают меня. Одним словом, мне не хватает естественности, то есть животного начала, – и это непоправимый дефект: что бы я ни говорил, что бы ни делал, что бы ни покупал, я никогда не смогу от него избавиться, потому что он таит в себе всю безнадежность врожденного изъяна”. В первые же каникулы, проведенные у матери, Брюно понял, что для хиппи он никогда не станет своим; он не был и никогда не будет роскошным животным. По ночам ему снились распахнутые вульвы. Примерно в то же время он начал читать Кафку. При первом чтении его словно холодом обдало, стужей замедленного действия, и в течение нескольких часов после того, как он закончил “Процесс”, его не покидало какое-то ватное оцепенение. Он сразу же понял, что этот заторможенный, скованный стыдом мир, где люди сталкиваются в космической пустоте и никакие отношения между ними вовек невозможны, в точности совпадает с его ментальным миром. Миром неспешным и холодным. В этом мире имелось, правда, и кое-что горячее – то, что у женщин между ног, но в это кое-что Брюно был не вхож.
Становилось все очевиднее, что Брюно плохо, что у него нет друзей, что он до ужаса боится девочек, что его юные годы – это одно сплошное фиаско. Его отец осознавал это с растущим чувством вины. На Рождество 1972 года он потребовал встречи с бывшей женой, чтобы обсудить ситуацию. В разговоре выяснилось, что единоутробный брат Брюно учится в том же лицее и тоже в десятом классе (правда, в параллельном), но мальчики даже не знакомы; эта новость потрясла его, он усмотрел в ней символ чудовищного распада семьи, в котором повинны они оба. Впервые проявив настойчивость, он велел Жанин связаться со вторым сыном и спасти то, что еще можно спасти.
Жанин не питала особых иллюзий по поводу отношения к ней бабушки Мишеля, но все оказалось еще хуже, чем она себе представляла. В тот момент, когда она припарковала свой “порше” у их домика в Креси-ан-Бри, старушка как раз вышла с хозяйственной сумкой в руках.
– Я не могу запретить вам видеться с ним, это ваш сын, – сухо сказала она. – Я иду за покупками, буду через два часа, и мне бы очень хотелось, чтобы к этому времени вас тут не было. – И отвернулась.
Мишель сидел в своей комнате; она толкнула дверь и вошла. Она решила поцеловать его и уже было подалась к нему, но он отпрыгнул от нее на метр, не меньше. С возрастом он стал поразительно похож на отца: те же светлые тонкие волосы, то же угловатое лицо с высокими скулами. Она привезла ему проигрыватель и несколько альбомов “Роллинг Стоунз”. Он молча принял подарок (проигрыватель оставил себе, пластинки уничтожил через несколько дней). В его скромно обставленной комнате на стенах не было никаких плакатов. На откинутой крышке секретера лежал раскрытый учебник математики. “Что это?” – спросила она. “Дифференциальные уравнения”, – неохотно ответил он. Она собиралась поговорить с ним о жизни, пригласить к себе на каникулы, но куда там. Она просто сообщила, что скоро он познакомится с братом, он кивнул. Они просидели так уже почти час, паузы затягивались, как вдруг снаружи раздался голос Аннабель. Мишель бросился к окну и крикнул ей, чтобы она вошла. Жанин взглянула на девушку, когда та открывала садовую калитку. “Какая хорошенькая у тебя подружка…” – заметила она, скривившись. Мишель отпрянул, словно от удара наотмашь, его лицо исказилось. Подойдя к своему “порше”, Жанин столкнулась с Аннабель и посмотрела ей прямо в глаза; в ее взгляде читалась ненависть.
Бабушка Мишеля не питала никакой неприязни к Брюно: он тоже жертва их общей матери, которой чуждо все человеческое, – таков был ее взгляд на вещи – поверхностный, но в целом верный. Так Брюно взял в привычку навещать Мишеля каждый четверг после обеда. Из Креси-ла-Шапель он ехал в автовагоне. Когда представлялся удобный случай (а он представлялся практически всегда), он пристраивался напротив какой-нибудь одинокой девушки. В большинстве своем девушки носили прозрачные блузки или что-то в этом роде и сидели нога на ногу. И не то чтобы даже напротив, скорее наискосок, а бывало, и на той же скамейке, на расстоянии метров двух от них, никак не дальше. Завидев длинные светлые или каштановые волосы, он мгновенно возбуждался; выискивая себе место, он шел между рядами и чувствовал, как все сильнее пульсирует боль в штанах. Он садился, вынув заранее носовой платок. Главное, успеть раскрыть папку и положить ее на колени; а там уж раз-раз – и готово. А если девушка вдруг раздвигала ноги в ту минуту, когда он доставал член, то необязательно даже было к нему прикасаться – Брюно кончал мгновенно, стоило ему увидеть ее трусы. Носовой платок служил больше для подстраховки: обычно он кончал прямо на листы в папке: на квадратные уравнения, схемы строения насекомых, на график добычи угля в СССР. Девушка спокойно читала журнал.
Годы спустя Брюно не узнавал себя в этом мальчике. Все эти вещи происходили на самом деле; они имели непосредственное отношение к пугливому толстому подростку с его детских фотографий. Этот подросток имел некоторое отношение к сексуально озабоченному взрослому мужчине, в которого он превратился. Его детство было болезненным, юность – ужасной; ему сорок два года, и, объективно говоря, до смерти жить и жить. Что ему предстоит еще испытать? Ну, допустим, сколько-то фелляций, и за них, понятное дело, он будет платить все охотнее. Жизнь, направленная на достижение цели, выкраивает мало места для воспоминаний. По мере того как его эрекции становились все затруднительнее и короче, Брюно впадал в какую-то тоскливую апатию. Главная цель его жизни – секс, и тут уже ничего изменишь, теперь он это понимал. В этом смысле Брюно был типичным представителем своего времени. В его юности жесткая экономическая конкуренция, которую переживало французское общество на протяжении двух столетий, несколько ослабла. В общественном мнении все больше утверждалась мысль, что экономические условия должны тяготеть к определенному равенству. Политики и руководители предприятий часто ссылались на модель шведской социал-демократии. В связи с чем Брюно не слишком стремился превзойти своих современников за счет экономических успехов. В профессиональном плане его единственной целью было – и вполне обоснованно – раствориться в “огромной аморфной массе среднего класса”, описанной позже президентом Жискаром д’Эстеном. Но человека хлебом не корми, дай установить какую-нибудь иерархию, главное же – почувствовать свое превосходство над себе подобными. Дания и Швеция, послужившие образцом для европейских демократий на пути к экономическому равенству, подали пример также и в области сексуальной свободы. Совершенно неожиданно внутри этого среднего класса, в который постепенно вливались рабочие и топ-менеджеры, а вернее, для детей этого среднего класса открылось новое поле нарциссического соперничества. В июле 1972 года, на летних языковых курсах в Траунштайне, небольшом баварском городке недалеко от австрийской границы, Патрик Кастелли, юный француз из его группы, умудрился за три недели переспать с тридцатью семью девицами. Брюно за отчетный период даже не размочил счет. В конце концов он показал член продавщице в супермаркете, которая, спасибо ей, расхохоталась и не стала подавать на него жалобу. Патрик Кастелли, как и Брюно, происходил из буржуазной семьи и хорошо учился; их судьбы обещали быть сопоставимыми в финансовом отношении. Практически все юношеские воспоминания Брюно были того же рода.
Впоследствии глобализация экономики повлекла за собой куда более жесткую конкуренцию, так рухнули мечты об интеграции всего населения в обобщенный средний класс с неуклонно растущей покупательной способностью; самые широкие социальные слои скатывались в бедность и безработицу. При этом ожесточенность сексуальной конкуренции не уменьшалась, скорее наоборот.
С тех пор как Брюно познакомился с Мишелем, прошло уже двадцать пять лет. За этот пугающий промежуток времени он, как ему казалось, почти не изменился; гипотеза тождества личности с неизменным ядром основных характеристик представлялась ему самоочевидной. И все же немалые пласты его собственной истории бесследно исчезли из памяти. У него создавалось ощущение, что он как бы и не прожил целые месяцы и годы. Чего не скажешь о последних двух годах юности, столь богатых воспоминаниями и определяющим жизненным опытом. Память человеческой жизни, объяснял ему много позже его брат, похожа на последовательные истории Гриффитса. Тем майским вечером они сидели в квартире Мишеля и пили кампари. Они редко заговаривали о прошлом, обычно их беседы касались текущей политической или социальной повестки, но в тот вечер они изменили этому правилу.
– У тебя сохранились воспоминания о некоторых моментах твоей жизни, – рассуждал Мишель, – и эти воспоминания принимают самые разнообразные формы: ты вспоминаешь мысли, мотивации и лица. Иногда всплывает только имя, вроде этой Патрисии Ховилер, о которой ты сейчас рассказывал, хотя сегодня ты бы ее даже не узнал. Иногда видишь чье-то лицо, но не умеешь привязать к нему воспоминание. В случае с Каролиной Есаян все, что ты о ней знаешь, укладывается в те несколько секунд, запечатленных в памяти с невообразимой точностью, когда твоя рука лежала на ее ляжке. Гриффитс ввел понятие последовательных историй в 1984 году, для того чтобы связать между собой квантовые измерения в правдоподобные повествования. История Гриффитса строится из последовательности более или менее произвольных измерений, выполненных в разные моменты времени. Каждое измерение выражает тот факт, что некоторая физическая величина, возможно отличающаяся от одного измерения к другому, находится в данный момент времени в определенном интервале значений. Например, в момент времени ti электрон имеет такую-то скорость, определяемую с некоторым приближением, зависящим от способа измерения; в момент времени t2 он находится в такой-то области пространства; в момент времени ty имеет такое-то значение спина. Исходя из подмножества результатов измерений, можно построить логически непротиворечивую историю, но нельзя сказать, что она истинна; ее просто допустимо отстаивать, не впадая в противоречие. Некоторые из жизненных историй, возможных в рамках данного эксперимента, могут быть записаны в нормализованной форме Гриффитса; тогда они называются последовательными историями Гриффитса, и все происходит так, будто мир состоит из отдельных объектов с внутренне присущими им неизменными свойствами. Однако число последовательных историй Гриффитса, которые можно записать исходя из серии измерений, обычно значительно больше единицы. Ты осознаешь свое “я”; это осознание позволяет тебе выдвинуть гипотезу: история, которую ты способен восстановить из собственных воспоминаний, является последовательной историей, оправданной в рамках принципа недвусмысленного повествования. Поскольку ты являешься отдельным индивидом, продолжающим свое существование в течение определенного отрезка времени и подчиняющимся некоей онтологии объектов и свойств, будь уверен – с тобой, безусловно, можно связать некоторую последовательную историю Гриффитса. Только эту априорную гипотезу ты принимаешь для сферы реальной жизни, но не для сферы сновидений.
– Мне хотелось бы думать, что мое “я” – это иллюзия, хотя и болезненная иллюзия… – тихо сказал Брюно; но Мишель не знал, что ответить, он совсем не разбирался в буддизме. Разговор давался им нелегко, они виделись от силы два раза в год. В молодости им случалось вести бурные дискуссии, но те времена давно миновали. В сентябре 1973-го они вместе перешли в одиннадцатый “C” с математическим уклоном; в течение двух лет вместе изучали математику и физику. Мишель был гораздо талантливее своих одноклассников. Мир людей, начинал он понимать, не оправдывает надежд, он полон тревоги и горечи. Математические уравнения приносили ему безмятежную, живую радость. Он продвигался на ощупь в полумраке и вдруг находил просвет: несколько формул, несколько дерзких факторизаций, и он достигал уровня счастливой безмятежности. Первое уравнение в доказательстве было самым волнующим, потому что истине, мерцающей на полпути, не хватало еще достоверности; последнее уравнение оказывалось самым ослепительным, самым радостным. В том же году Аннабель перешла в десятый класс лицея Мо. Они часто проводили время втроем после занятий. Потом Брюно возвращался в интернат, Аннабель и Мишель отправлялись на вокзал. Ситуация принимала странный и печальный оборот. В начале 1974 года Мишель ушел с головой в гильбертовы пространства; затем ознакомился с теорией меры, открыл для себя интегралы Римана, Лебега и Стилтьеса. Брюно меж тем читал Кафку и мастурбировал в автовагоне. Как-то в мае, зайдя днем в бассейн, недавно открывшийся в Ла-Шапель-сюр-Креси, он с превеликим удовольствием распахнул полотенце и показал член двум девочкам лет двенадцати; удовольствие возросло, когда девочки принялись пихать друг друга, проявив живой интерес к неожиданному зрелищу; он обменялся долгим взглядом с одной из них, брюнеточкой в очках. Брюно хоть и был слишком несчастен и фрустрирован, чтобы интересоваться чужой психологией, все же отдавал себе отчет, что его брат находится в еще более тяжелом положении, чем он сам. Они часто заходили вместе в кафе; Мишель носил анораки и дурацкие шапки и не умел играть в настольный футбол; говорил в основном Брюно. Мишель сидел не шелохнувшись, говорил все меньше и меньше; на Аннабель смотрел внимательно и безучастно. Аннабель не сдавалась; порой Мишель казался ей существом из другого мира. Незадолго до того она прочитала “Крейцерову сонату” и подумала было, что благодаря этой книге она его поняла. Двадцать пять лет спустя Брюно стало ясно, что они попали тогда в несуразную, ненормальную ситуацию, не имеющую будущего; обдумывая прошлое, постоянно испытываешь ощущение – возможно, ложное – некоей предопределенности.
12. Своим чередом
В эпоху революций те, кто так странно кичится, приписывая себе невеликую заслугу пробуждения в своих современниках анархических страстей, не осознают, что их кажущийся и достойный сожаления триумф обусловлен в основном спонтанной предрасположенностью, определяемой соответствующей общественной ситуацией во всей ее полноте.
Огюст Конт. Курс позитивной философии. Урок 48
Середина семидесятых во Франции ознаменовалась скандальным успехом “Призрака рая”, “Заводного апельсина” и “Вальсирующих”, трех совершенно непохожих фильмов, массовый успех которых тем не менее утвердил коммерческую целесообразность “молодежной” культуры, основанной, по сути, на сексе и насилии, которая неуклонно завоевывала рынок в течение последующих десятилетий. Что касается молодежи шестидесятых, разбогатевших тридцатилетних, то они легко узнавали себя в “Эмманюэль”, вышедшей на экраны в 1974-м: приятное времяпрепровождение, экзотические места, разнообразные фантазмы – фильм Жюста Жакена уже сам по себе, в контексте по-прежнему глубоко укорененной иудео-христианской культуры, стал манифестом вступления в цивилизацию развлечений.
В целом же движение, способствовавшее свободе нравов, достигло в 1974-м значительных успехов. Двадцатого марта в Париже открылся клуб “Витатоп”, сыгравший роль первопроходца в области физического развития и культа тела. Пятого июля приняли закон о снижении возраста совершеннолетия до 18 лет, 11 июля – о разводе по обоюдному согласию, исключив адюльтер из Уголовного кодекса. Наконец, 28 ноября благодаря поддержке левых и после бурных дебатов, “исторических” по мнению большинства экспертов, был принят “закон Вейль”, разрешающий аборты. Христианская антропология, и правда долгое время преобладавшая в странах Запада, придавала огромное значение любой человеческой жизни, от зачатия до смерти; эта значимость обусловлена верой христиан в существование души внутри человеческого тела – души, по определению бессмертной, которой рано или поздно суждено возвратиться к Богу. Под влиянием достижений биологии в XIX–XX веках постепенно сформировалась материалистическая антропология, радикально отличная по своим постулатам и гораздо более умеренная в этических рекомендациях. С одной стороны, эмбрион – небольшое скопление клеток, находящихся в состоянии прогрессирующего развития, – получал право на автономное индивидуальное существование только при соблюдении определенного социального консенсуса (отсутствие инвалидизирующего генетического дефекта, согласие родителей). С другой стороны, старик, представляющий собой скопление органов в состоянии беспрерывного разложения, мог реально заявить о своем праве на выживание лишь при условии удовлетворительного отправления своих физиологических потребностей – так появилось понятие человеческого достоинства. То есть этические проблемы, связанные с диаметрально противоположными стадиями жизни (аборт, а через несколько десятилетий – эвтаназия), отныне стали полем непреодолимого противостояния двух разных взглядов на мир, двух, по сути, антагонистических антропологических концепций.
Принципиальный агностицизм, лежащий в основе общественного устройства Французской республики, способствовал лицемерному и даже в чем-то зловещему торжеству материалистической антропологии. Вопрос ценности человеческой жизни, хоть никогда и не обсуждался открыто, неизменно будоражил умы, и можно с уверенностью сказать, что в последние десятилетия существования западной цивилизации он отчасти обусловил возникновение депрессивной и чуть ли не мазохистской атмосферы в обществе.
Для Брюно, которому недавно исполнилось восемнадцать, лето 1974 года стало важным, более того, переломным периодом. Решив много лет спустя все же обратиться к психиатру, он не раз возвращался к рассказу о том времени, чтобы скорректировать те или иные детали, – и психиатр, судя по всему, высоко оценил его повествование. Вот каноническая версия событий, которой Брюно отдавал предпочтение:
– Дело было в конце июля. Я уехал на неделю к матери, на Лазурный Берег. У нее дома вечно кто-то жил. В то лето она спала с одним канадцем – мускулистым парнем с внешностью лесоруба. Утром в день отъезда я проснулся очень рано. Солнце уже пригревало. Я вошел в их комнату, они оба еще спали. Я замешкался на несколько секунд и откинул простыню. Мать пошевелилась, и на мгновение мне показалось, что она сейчас откроет глаза; она слегка раздвинула ноги. Я опустился на колени перед ее промежностью. Я протянул руку, но остановился в паре сантиметров, не посмев ее потрогать. Потом вышел подрочить. Она подкармливала кучу кошек, в основном бродячих. Я подошел к черному котенку, который грелся на валуне. Земля вокруг дома была каменистая, совершенно белая, беспощадно белая. Кот несколько раз взглянул на меня, пока я дрочил, но зажмурился до того, как я кончил. Я нагнулся, подобрал с земли увесистый булыжник. Кошачий череп раскололся, мозги брызнули наружу. Я забросал его труп камнями и вернулся в дом – все еще спали. Утром мама отвезла меня к отцу, он жил километрах в пятидесяти от нее. В машине она впервые заговорила со мной о ди Меоле. Он тоже уехал из Калифорнии четыре года назад и купил большое поместье недалеко от Авиньона, на склонах горы Ванту. Летом к нему съезжалась молодежь со всей Европы, и Северной Америки тоже. Она подумала, что мне бы не вредно как-нибудь провести у него лето, мол, там мне откроются новые горизонты. Учение ди Меолы опиралось в основном на брахманическую традицию, но, по ее словам, без фанатизма и сектантства. К тому же он отдавал должное достижениям кибернетики, НЛП и технике депрограммирования, разработанной в Эсалене. Прежде всего речь шла об освобождении личности и ее глубинного творческого потенциала.
– Мы используем всего лишь 10 % наших нейронов. Более того, – добавила Джейн (они ехали по сосновому лесу), – там ты сможешь подружиться со своими сверстниками. За то время, что ты у нас прожил, мы все пришли к выводу, что у тебя проблемы с сексом. На Западе подход к сексу, – продолжала она, – совершенно исковеркан и извращен. Во многих примитивных обществах сексуальная инициация происходит естественным путем, в раннем подростковом возрасте, под присмотром взрослых членов племени. Я твоя мать, – сочла нужным напомнить она, но умолчала о том, что сама в 1963 году “инициировала” Дэвида, сына ди Меолы. Дэвиду тогда было тринадцать лет. В первый день она разделась перед ним и велела ему подрочить. На второй она уже сама ему дрочила и сосала. Наконец, на третий день позволила ему войти в нее. Приятно вспомнить – член мальчика был несгибаемо тверд и стоял наготове даже после того, как он несколько раз кончил; с тех пор она, похоже, окончательно переключилась на юношей. – Однако, – добавила Джейн, – инициация должна происходить за пределами ближайшего семейного круга. Это необходимо, чтобы открыть подростку мир.
Брюно вздрогнул, гадая, уж не проснулась ли она тем утром, когда он впился взглядом в ее промежность. Впрочем, замечанию его матери удивляться не приходится: табу на инцест у серых гусей и мандрилов было научно доказано. Они подъезжали к Сент-Максиму.
– Приехав к отцу, – продолжал Брюно, – я понял, что с ним что-то не так. Тем летом он смог взять отпуск всего на две недели. Тогда я не отдавал себе отчета, но у него впервые начались проблемы с деньгами, дела его шли не очень хорошо. Позже он все мне рассказал. Он совершенно упустил из виду растущий спрос на силиконовые груди. Посчитал, что это мимолетное увлечение, которое не выйдет за пределы американского рынка. Сглупил, короче. Не было еще такого случая, чтобы мода, зародившаяся в США, не охватила через несколько лет всю Западную Европу, ни единого. А вот его молодой компаньон не зевал, он открыл собственную фирму и переманил большую часть его клиенток, используя силиконовую грудь в качестве товара-приманки.
На момент этой исповеди отцу Брюно было уже семьдесят, и вскоре он скончался от цирроза печени.
– История повторяется, – мрачно добавлял он, позвякивая кубиками льда в стакане. – Этот мудак Понсе (он имел в виду лихого молодого хирурга, из-за которого он разорился двадцать лет назад), этот мудак Понсе решил не вкладываться сейчас в удлинение члена. Говорит, это отдает колбасной лавкой, и вообще он сомневается, что в Европе мужики клюнут. Мудак. Такой же мудак, как я в свое время. Будь мне сегодня тридцать, о да, я бы точно занялся удлинением членов! – Выпалив это, он погружался в мрачную задумчивость и клевал носом. В таком возрасте разговор неизбежно слегка буксует.
В то лето, в июле 1974-го, отец Брюно находился еще в самой начальной стадии старения. После обеда он запирался у себя со стопкой детективов Сан-Антонио и бутылкой бурбона. Выходил около семи вечера, чтобы разогреть готовые блюда, руки у него дрожали. Он не то чтобы напрочь отказался от разговоров с сыном, у него просто не получалось, правда не получалось. На третьи сутки атмосфера сделалась совсем гнетущей. Брюно стал уходить из дому на всю вторую половину дня; тупо отправлялся на пляж.
Следующая часть истории психиатру нравилась меньше, но Брюно она была важна, и ему совсем не хотелось обходить ее молчанием. В конце концов, этот хрен тут торчит, чтобы его выслушать; он ведь платит ему, не так ли?
– Она всегда приходила одна, – упорно продолжал Брюно, – и одиноко сидела на пляже до самого вечера. Бедняжка, ребенок богатых родителей, как и я; семнадцатилетняя толстуха, пышка с застенчивым лицом, слишком бледной кожей и вся в прыщах. На четвертый день, накануне отъезда, я взял полотенце и подсел к ней. Она лежала на животе, расстегнув лифчик от купальника. Помню, я спросил: “Ты тут на каникулах?” – ничего лучше не придумал. Она подняла на меня глаза: конечно, она вряд ли ожидала чего-то искрометного, но, может, все-таки не такой хрени. Потом мы представились друг другу, ее звали Анник. Рано или поздно ей придется встать, и я задумался, что она сделает – попытается застегнуть лифчик на спине или, наоборот, покажет мне грудь? Она выбрала промежуточный вариант: перевернулась, придерживая лифчик с боков. В итоге чашки слегка съехали, прикрывая ее только наполовину. У нее и в самом деле оказалась огромная грудь, уже немного обвисшая, и, наверное, со временем эта обвислость усугубится. Да уж, сказал я себе, отваги ей не занимать. Я протянул руку и засунул ее под лифчик, постепенно оголяя ее грудь. Она не шелохнулась, лишь напряглась слегка и закрыла глаза. Я осторожно продвинулся, ее соски затвердели. Я и по сей день считаю, что пережил тогда один из самых прекрасных моментов своей жизни.
Потом начались трудности. Я отвез ее к себе, и мы сразу поднялись в мою комнату. Я боялся, что отец увидит ее; у него-то в жизни хватало настоящих красоток. Но он спал, более того, в тот день он перепил и очнулся только к десяти вечера. Как ни странно, она не дала мне снять с нее трусы. У нее еще никогда ничего не было, призналась она, вообще с мальчиками ничего не было. Но дрочила она мне довольно уверенно, с большим энтузиазмом; помню, как она улыбалась. Потом я поднес член к ее губам; она немного пососала его, но ей это не слишком понравилось. Я решил не настаивать и просто сел на нее верхом. Я просунул член между ее грудей и почувствовал, что ей очень приятно, она тихо застонала. Я ужасно возбудился, встал и спустил с нее трусы. На этот раз она не возражала, даже подняла ноги, чтобы мне помочь. Да, она была далеко не красавица, но вульва ее манила, как у любой женщины. Она закрыла глаза. Стоило мне просунуть руки ей под попу, как она широко раздвинула ноги. Это так на меня подействовало, что я тут же кончил, еще не успев толком ей вставить. Немного спермы попало ей на лобок. Я страшно расстроился, но она сказала, ничего страшного, ей хорошо.
Времени на разговоры у нас не оставалось, было уже восемь, и Анник заторопилась домой, к родителям. И почему-то сообщила мне, что она единственный ребенок. Она выглядела такой счастливой, так гордилась, что у нее появилась уважительная причина опоздать к ужину, что я чуть не расплакался. Мы долго целовались в палисаднике перед домом. На следующее утро я вернулся в Париж.
Изложив свою зарисовку, Брюно делал паузу. Доктор сдержанно фыркал, а затем обычно говорил: “Ну, ладно”. В зависимости от того, как долго они просидели, он либо произносил какую-нибудь фразу, запускающую новый виток беседы, либо, наоборот, завершал ее: “Что ж, на сегодня хватит?” – он чуть повышал голос на последнем слоге, чтобы подчеркнуть вопросительную интонацию. Его улыбка при этом отличалась изысканной непринужденностью.
13
Тем же летом 1974 года Аннабель позволила поцеловать себя мальчику на дискотеке в Сен-Пале. Она как раз прочитала в журнале “Стефани” подборку статей о дружбе между мальчиками и девочками. Обращаясь к теме друга детства, журнал выдвигал следующий, на редкость отвратительный тезис: друг детства крайне редко превращается в бойфренда; судьба уготовила ему скорее участь приятеля, верного товарища, ему частенько можно излить душу и обратиться за поддержкой в минуты эмоциональных потрясений, вызванных первым флиртом.
Через несколько секунд после первого поцелуя, вопреки утверждениям вышеупомянутого периодического издания, на Аннабель нахлынула ужасная тоска. Что-то мучительное, неизведанное теснило ей грудь. Она вышла из “Катманду”, не разрешив мальчику себя проводить. Пока она снимала противоугонный замок со своего мопеда, ее била мелкая дрожь. В тот вечер она надела свое самое красивое платье. Дом ее брата стоял всего в километре оттуда, и когда она вернулась, было еще только начало двенадцатого, в гостиной горел свет; завидев свет, она расплакалась. Вот при таких обстоятельствах, в ту июльскую ночь 1974 года, к Аннабель пришло болезненное и бесповоротное осознание своего индивидуального бытия. Индивидуальное бытие впервые открывается животному в виде физической боли, в человеческом же обществе оно полностью осознается, когда возникает потребность во лжи, с которой его, в принципе, можно спутать. До шестнадцати лет Аннабель не имела секретов от родителей; не имела она секретов – что, как она теперь догадывалась, большая редкость и удача – и от Мишеля. За несколько часов в ту ночь Аннабель осознала, что человеческая жизнь – не что иное, как непрерывная череда лжи. Одновременно с этим к ней пришло осознание собственной красоты.
Индивидуальное бытие и вытекающее из него чувство свободы составляют естественную основу демократии. В демократическом обществе отношения между людьми традиционно регулируются договором. Договор, не учитывающий естественные права одной из сторон или не содержащий четких условий расторжения, признается тем самым недействительным.
Если о лете 1974 года Брюно с удовольствием рассказывал в мельчайших подробностях, то о последовавшем за ним учебном годе, от которого у него остались, честно говоря, лишь воспоминания о нарастающем дискомфорте, он особо не распространялся. Некий неопределенный отрезок времени в довольно мрачных тонах. Он так же часто виделся с Аннабель и Мишелем, и в принципе они по-прежнему были очень близки, но впереди маячили выпускные экзамены, и в конце учебного года им неизбежно предстояло расстаться. Мишель изменился: он слушал Джими Хендрикса, самозабвенно катаясь по ковру;
гораздо позже всех остальных у него начали проявляться явные признаки переходного возраста. Между ним и Аннабель ощущалась какая-то неловкость, они не так охотно, как раньше, брались за руки. Короче, как Брюно однажды сказал своему психиатру, “все у них пиздой накрылось”.
Благодаря эпизоду с Анник, который Брюно был склонен приукрашивать в своих воспоминаниях (ему, кстати, хватило ума ей не перезвонить), он почувствовал себя немного увереннее. Однако за этой первой победой других не последовало, он получил грубый отпор, попытавшись поцеловать Сильви, симпатичную брюнетку, такую прям зайку, одноклассницу Аннабель. Но ведь если одна девочка его захотела, то и другие найдутся; так что к Мишелю он начал относиться в чем-то даже покровительственно. В конце концов, это его брат, к тому же младше на два года.
– Тебе пора уже что-то предпринять с Аннабель, – повторял он, – она только того и ждет, она влюблена в тебя, и она самая красивая девочка в лицее.
Мишель ерзал на стуле и отвечал: “Ага”. Шли недели, а он все колебался, на пороге взрослой жизни. Поцелуй он Аннабель, они оба сумели бы, возможно, избежать трудностей этого перехода, другого способа не было, но он не понимал этого; он позволил себя убаюкать обманчивому ощущению, что впереди у него вечность. В апреле он привел в ярость своих учителей, забыв заполнить анкету для поступления на подготовительные курсы. Хотя у него, как ни у кого другого, были все шансы попасть в какую-нибудь высшую школу. До начала экзаменов на бакалавра оставалось месяца полтора, а он все чаще витал в эмпиреях. Сидя в классе, смотрел через зарешеченные окна на облака, на деревья в школьном дворе или на других учеников; казалось, что дела человеческие его уже совсем не волнуют.
Брюно, напротив, решил записаться на филологический факультет: ему поднадоели ряды Тейлора-Маклорена, а главное, на филфаке водятся девушки, много девушек. Отец не возражал. Как все старые распутники, он на склоне лет стал сентиментален и горько упрекал себя за то, что своим эгоизмом испортил сыну жизнь, что было не так уж далеко от истины. В начале мая он расстался с Жюли, своей последней любовницей, великолепной женщиной, надо сказать; Жюли Ламур в повседневной жизни, она взяла сценический псевдоним – Джулия Лав. Она снималась в первых, давно уже позабытых порнофильмах французского образца – у Берда Транбаре и Франсиса Леруа. Внешне она чем-то напоминала Жанин, только та все же не была такой дурой. “Опять на те же грабли”, – буркнул отец Брюно, когда обнаружил их сходство, наткнувшись на девичью фотографию бывшей жены. На званом ужине у Беназерафа она познакомилась с Делёзом и с тех пор регулярно пускалась в интеллектуальные оправдания порнографии, и вот тут уж его терпение лопнуло. Кроме того, она влетала ему в копеечку, привыкнув на съемках к арендованным “роллсам”, шубам и всяким эротическим фишкам, а ему с возрастом все это совсем опротивело. В конце 1974 года ему пришлось продать дом в Сент-Максиме. Через несколько месяцев он купил сыну студию неподалеку от Обсерватории: очень хорошую студию, светлую, тихую, с открытым видом. Когда он привел туда Брюно, у него вовсе не возникло ощущения, что он делает ему какой-то невероятный подарок, скорее, он пытался по мере сил загладить свою вину; в любом случае эта студия явно досталась ему по дешевке. Обведя взглядом квартиру, он слегка оживился. “Сможешь водить сюда девочек!” – неосторожно воскликнул он. Увидев лицо сына, он тут же пожалел о своих словах.
В конце концов Мишель записался в Орсе на физмат; его привлекла прежде всего близость кампуса – именно так он и рассуждал.
Неудивительно, что оба брата успешно получили свой “бак”. Аннабель пошла с ними узнать результаты, вид у нее был серьезный, она очень повзрослела за этот год. Немного похудевшая, с какой-то затаенной улыбкой, она стала, увы, еще красивее. Брюно решил проявить инициативу: летнего дома в Сент-Максиме больше нет, зато он может провести каникулы в поместье ди Меолы, как посоветовала ему мать. Он предложил им поехать вместе. Они отправились туда через месяц, в конце июля.
14. Лето семьдесят пятого
Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали.
Книга пророка Осии, 5:4
К тринадцати годам под влиянием прогестерона и эстрадиола, секретируемых яичниками, у девочек накапливаются жировые отложения в области груди и ягодиц. Если повезет, означенные части тела приобретут гармоничную полноту и округлость; эта картина пробуждает в мужчинах бешеное вожделение. Как и ее мать в том же возрасте, Аннабель могла похвастаться прекрасной фигурой. Но лицо ее матери было приятным и милым, не более того.
Никто не ожидал, что Аннабель вырастет такой невероятной красавицей, матери даже делалось за нее страшно. Огромные голубые глаза и фантастическую копну белокурых волос Аннабель наверняка унаследовала от отца и вообще от голландской ветви их семейства; но только неслыханной морфогенетической случайностью можно объяснить пронзительную чистоту ее черт. Обделенная красотой девушка несчастна, у нее нет шансов быть любимой. Пусть ее никто и не подкалывает, никто не язвит, но все смотрят словно сквозь нее и не оборачиваются ей вслед. В присутствии дурнушки окружающим становится неловко, и ее предпочитают просто не замечать. Феноменальная красота, выходящая далеко за рамки обычной девической обольстительной свежести, производит, напротив, какое-то сверхъестественное действие, и кажется, что неминуемо сулит трагическую судьбу. В пятнадцать лет Аннабель была одной из тех редких красавиц, на которых западают все мужчины подряд, независимо от возраста и общественного положения; таким девушкам стоит всего лишь пройтись по торговой улице небольшого городка, как у мужчин – молодых и не очень – учащается сердцебиение, а старики кряхтят от досады. Вскоре она обратила внимание, что при ее появлении, будь то в кафе или в учебной аудитории, воцаряется тишина, но ей потребовались годы, чтобы понять причину. В общеобразовательном коллеже Креси-ан-Бри все знали, что она “с Мишелем”; но и без того, по правде говоря, ни один мальчик не решился бы к ней подвалить. Это один из главных недостатков феноменальной красоты: только опытные, прожженные и бессовестные бабники чувствуют себя на высоте, поэтому сокровище девственности достается, как правило, самым отвратным типам – с этого начинается необратимая деградация девушек.
В сентябре 1972-го Мишель поступил в десятый класс лицея в Мо. Аннабель перешла в девятый; ей оставался еще один год в коллеже. Из лицея он возвращался на поезде, пересаживаясь в Эсбли в автовагон[14 - Автовагон — моторный самоходный железнодорожный вагон для перевозки пассажиров.]. В Креси он обычно приезжал в 18.33; Аннабель ждала его на станции. Они вместе гуляли вдоль каналов. Иногда – довольно редко – заходили в кафе. Аннабель твердо знала, что рано или поздно Мишель захочет ее целовать и ласкать ее тело, она уже сама ощущала, как оно меняется. Она ждала этого момента, не испытывая ни особого нетерпения, ни страха, она ему доверяла.
Притом что фундаментальные аспекты полового поведения являются врожденными, история первых лет жизни играет важную роль в запускающих его механизмах, особенно у птиц и млекопитающих. Ранний тактильный контакт с представителями своего вида, по-видимому, жизненно важен у собак, кошек, крыс, морских свинок и макак-резусов (Macaco, mulatto). Отсутствие таких контактов с матерью в детстве приводит к серьезным нарушениям полового поведения у самцов крыс, в частности к подавлению брачного ритуала. Даже если бы от этого зависела его жизнь (а в значительной степени так оно и было), Мишель все равно не смог бы поцеловать Аннабель. Часто, увидев, как он выходит из вагона с портфелем в руках, она ощущала такой прилив счастья, что буквально бросалась ему на шею. Несколько секунд они стояли обнявшись, в состоянии блаженного паралича, и только потом уже заговаривали друг с другом.
Брюно тоже учился в лицее Мо, но в параллельном десятом классе; он знал, что у его матери есть сын от другого отца, не более того. С матерью он виделся редко. Дважды проводил каникулы на вилле в Кассисе, где она жила. У нее зависали многочисленные молодые люди, забредавшие в те края по пути куда-то дальше. Этих молодых людей в популярных журналах называли хиппи. Они чаще всего не работали и у Жанин, сменившей имя на Джейн, жили на всем готовом. То есть на доходы от клиники пластической хирургии ее бывшего мужа, а значит, и за счет желания некоторых обеспеченных дам побороть неминуемое увядание или исправить природные недостатки внешности. Хиппи купались голышом в каланках[15 - Каланки – небольшие узкие бухты в западной части Средиземноморья.]. Брюно наотрез отказывался снимать плавки. Он чувствовал себя белесым, крохотным, противным, жирным. Мать то и дело укладывала какого-нибудь юнца к себе в постель. Ей исполнилось сорок пять, ее вульва похудела и слегка обвисла, но лицо не утратило былого великолепия. Брюно дрочил по три раза в день. Вульвы разных девушек находились иногда на расстоянии вытянутой руки, но при всей их доступности Брюно прекрасно понимал, что путь к ним ему заказан: другие парни выше и сильнее его, да и загар у них красивее. Много лет спустя Брюно осознает, что мелкобуржуазный мир, мир госслужащих и менеджеров среднего звена, более терпим, гостеприимен и открыт, чем мир молодых маргиналов, представленный в то время хиппи. “Если я правильно выряжусь, респектабельные чиновники меня примут, – любил повторять Брюно. – Мне только и потребуется, что купить костюм, галстук и рубашку – в C&A на распродажах эти шмотки мне обойдутся в каких-нибудь 800 франков; на самом деле мне просто надо научиться завязывать галстук. Отсутствие машины – это, конечно, проблема и, по сути, единственная трудность, подстерегающая менеджера среднего звена; но и с ней можно справиться, взять кредит, поработать несколько лет – и готово. А вот косить под маргинала не вижу смысла: я недостаточно молод, недостаточно красив, недостаточно крут. У меня редеют волосы, я склонен к полноте, с возрастом становлюсь все тревожнее и уязвимее, так что отторжение и презрение окружающих больнее задевают меня. Одним словом, мне не хватает естественности, то есть животного начала, – и это непоправимый дефект: что бы я ни говорил, что бы ни делал, что бы ни покупал, я никогда не смогу от него избавиться, потому что он таит в себе всю безнадежность врожденного изъяна”. В первые же каникулы, проведенные у матери, Брюно понял, что для хиппи он никогда не станет своим; он не был и никогда не будет роскошным животным. По ночам ему снились распахнутые вульвы. Примерно в то же время он начал читать Кафку. При первом чтении его словно холодом обдало, стужей замедленного действия, и в течение нескольких часов после того, как он закончил “Процесс”, его не покидало какое-то ватное оцепенение. Он сразу же понял, что этот заторможенный, скованный стыдом мир, где люди сталкиваются в космической пустоте и никакие отношения между ними вовек невозможны, в точности совпадает с его ментальным миром. Миром неспешным и холодным. В этом мире имелось, правда, и кое-что горячее – то, что у женщин между ног, но в это кое-что Брюно был не вхож.
Становилось все очевиднее, что Брюно плохо, что у него нет друзей, что он до ужаса боится девочек, что его юные годы – это одно сплошное фиаско. Его отец осознавал это с растущим чувством вины. На Рождество 1972 года он потребовал встречи с бывшей женой, чтобы обсудить ситуацию. В разговоре выяснилось, что единоутробный брат Брюно учится в том же лицее и тоже в десятом классе (правда, в параллельном), но мальчики даже не знакомы; эта новость потрясла его, он усмотрел в ней символ чудовищного распада семьи, в котором повинны они оба. Впервые проявив настойчивость, он велел Жанин связаться со вторым сыном и спасти то, что еще можно спасти.
Жанин не питала особых иллюзий по поводу отношения к ней бабушки Мишеля, но все оказалось еще хуже, чем она себе представляла. В тот момент, когда она припарковала свой “порше” у их домика в Креси-ан-Бри, старушка как раз вышла с хозяйственной сумкой в руках.
– Я не могу запретить вам видеться с ним, это ваш сын, – сухо сказала она. – Я иду за покупками, буду через два часа, и мне бы очень хотелось, чтобы к этому времени вас тут не было. – И отвернулась.
Мишель сидел в своей комнате; она толкнула дверь и вошла. Она решила поцеловать его и уже было подалась к нему, но он отпрыгнул от нее на метр, не меньше. С возрастом он стал поразительно похож на отца: те же светлые тонкие волосы, то же угловатое лицо с высокими скулами. Она привезла ему проигрыватель и несколько альбомов “Роллинг Стоунз”. Он молча принял подарок (проигрыватель оставил себе, пластинки уничтожил через несколько дней). В его скромно обставленной комнате на стенах не было никаких плакатов. На откинутой крышке секретера лежал раскрытый учебник математики. “Что это?” – спросила она. “Дифференциальные уравнения”, – неохотно ответил он. Она собиралась поговорить с ним о жизни, пригласить к себе на каникулы, но куда там. Она просто сообщила, что скоро он познакомится с братом, он кивнул. Они просидели так уже почти час, паузы затягивались, как вдруг снаружи раздался голос Аннабель. Мишель бросился к окну и крикнул ей, чтобы она вошла. Жанин взглянула на девушку, когда та открывала садовую калитку. “Какая хорошенькая у тебя подружка…” – заметила она, скривившись. Мишель отпрянул, словно от удара наотмашь, его лицо исказилось. Подойдя к своему “порше”, Жанин столкнулась с Аннабель и посмотрела ей прямо в глаза; в ее взгляде читалась ненависть.
Бабушка Мишеля не питала никакой неприязни к Брюно: он тоже жертва их общей матери, которой чуждо все человеческое, – таков был ее взгляд на вещи – поверхностный, но в целом верный. Так Брюно взял в привычку навещать Мишеля каждый четверг после обеда. Из Креси-ла-Шапель он ехал в автовагоне. Когда представлялся удобный случай (а он представлялся практически всегда), он пристраивался напротив какой-нибудь одинокой девушки. В большинстве своем девушки носили прозрачные блузки или что-то в этом роде и сидели нога на ногу. И не то чтобы даже напротив, скорее наискосок, а бывало, и на той же скамейке, на расстоянии метров двух от них, никак не дальше. Завидев длинные светлые или каштановые волосы, он мгновенно возбуждался; выискивая себе место, он шел между рядами и чувствовал, как все сильнее пульсирует боль в штанах. Он садился, вынув заранее носовой платок. Главное, успеть раскрыть папку и положить ее на колени; а там уж раз-раз – и готово. А если девушка вдруг раздвигала ноги в ту минуту, когда он доставал член, то необязательно даже было к нему прикасаться – Брюно кончал мгновенно, стоило ему увидеть ее трусы. Носовой платок служил больше для подстраховки: обычно он кончал прямо на листы в папке: на квадратные уравнения, схемы строения насекомых, на график добычи угля в СССР. Девушка спокойно читала журнал.
Годы спустя Брюно не узнавал себя в этом мальчике. Все эти вещи происходили на самом деле; они имели непосредственное отношение к пугливому толстому подростку с его детских фотографий. Этот подросток имел некоторое отношение к сексуально озабоченному взрослому мужчине, в которого он превратился. Его детство было болезненным, юность – ужасной; ему сорок два года, и, объективно говоря, до смерти жить и жить. Что ему предстоит еще испытать? Ну, допустим, сколько-то фелляций, и за них, понятное дело, он будет платить все охотнее. Жизнь, направленная на достижение цели, выкраивает мало места для воспоминаний. По мере того как его эрекции становились все затруднительнее и короче, Брюно впадал в какую-то тоскливую апатию. Главная цель его жизни – секс, и тут уже ничего изменишь, теперь он это понимал. В этом смысле Брюно был типичным представителем своего времени. В его юности жесткая экономическая конкуренция, которую переживало французское общество на протяжении двух столетий, несколько ослабла. В общественном мнении все больше утверждалась мысль, что экономические условия должны тяготеть к определенному равенству. Политики и руководители предприятий часто ссылались на модель шведской социал-демократии. В связи с чем Брюно не слишком стремился превзойти своих современников за счет экономических успехов. В профессиональном плане его единственной целью было – и вполне обоснованно – раствориться в “огромной аморфной массе среднего класса”, описанной позже президентом Жискаром д’Эстеном. Но человека хлебом не корми, дай установить какую-нибудь иерархию, главное же – почувствовать свое превосходство над себе подобными. Дания и Швеция, послужившие образцом для европейских демократий на пути к экономическому равенству, подали пример также и в области сексуальной свободы. Совершенно неожиданно внутри этого среднего класса, в который постепенно вливались рабочие и топ-менеджеры, а вернее, для детей этого среднего класса открылось новое поле нарциссического соперничества. В июле 1972 года, на летних языковых курсах в Траунштайне, небольшом баварском городке недалеко от австрийской границы, Патрик Кастелли, юный француз из его группы, умудрился за три недели переспать с тридцатью семью девицами. Брюно за отчетный период даже не размочил счет. В конце концов он показал член продавщице в супермаркете, которая, спасибо ей, расхохоталась и не стала подавать на него жалобу. Патрик Кастелли, как и Брюно, происходил из буржуазной семьи и хорошо учился; их судьбы обещали быть сопоставимыми в финансовом отношении. Практически все юношеские воспоминания Брюно были того же рода.
Впоследствии глобализация экономики повлекла за собой куда более жесткую конкуренцию, так рухнули мечты об интеграции всего населения в обобщенный средний класс с неуклонно растущей покупательной способностью; самые широкие социальные слои скатывались в бедность и безработицу. При этом ожесточенность сексуальной конкуренции не уменьшалась, скорее наоборот.
С тех пор как Брюно познакомился с Мишелем, прошло уже двадцать пять лет. За этот пугающий промежуток времени он, как ему казалось, почти не изменился; гипотеза тождества личности с неизменным ядром основных характеристик представлялась ему самоочевидной. И все же немалые пласты его собственной истории бесследно исчезли из памяти. У него создавалось ощущение, что он как бы и не прожил целые месяцы и годы. Чего не скажешь о последних двух годах юности, столь богатых воспоминаниями и определяющим жизненным опытом. Память человеческой жизни, объяснял ему много позже его брат, похожа на последовательные истории Гриффитса. Тем майским вечером они сидели в квартире Мишеля и пили кампари. Они редко заговаривали о прошлом, обычно их беседы касались текущей политической или социальной повестки, но в тот вечер они изменили этому правилу.
– У тебя сохранились воспоминания о некоторых моментах твоей жизни, – рассуждал Мишель, – и эти воспоминания принимают самые разнообразные формы: ты вспоминаешь мысли, мотивации и лица. Иногда всплывает только имя, вроде этой Патрисии Ховилер, о которой ты сейчас рассказывал, хотя сегодня ты бы ее даже не узнал. Иногда видишь чье-то лицо, но не умеешь привязать к нему воспоминание. В случае с Каролиной Есаян все, что ты о ней знаешь, укладывается в те несколько секунд, запечатленных в памяти с невообразимой точностью, когда твоя рука лежала на ее ляжке. Гриффитс ввел понятие последовательных историй в 1984 году, для того чтобы связать между собой квантовые измерения в правдоподобные повествования. История Гриффитса строится из последовательности более или менее произвольных измерений, выполненных в разные моменты времени. Каждое измерение выражает тот факт, что некоторая физическая величина, возможно отличающаяся от одного измерения к другому, находится в данный момент времени в определенном интервале значений. Например, в момент времени ti электрон имеет такую-то скорость, определяемую с некоторым приближением, зависящим от способа измерения; в момент времени t2 он находится в такой-то области пространства; в момент времени ty имеет такое-то значение спина. Исходя из подмножества результатов измерений, можно построить логически непротиворечивую историю, но нельзя сказать, что она истинна; ее просто допустимо отстаивать, не впадая в противоречие. Некоторые из жизненных историй, возможных в рамках данного эксперимента, могут быть записаны в нормализованной форме Гриффитса; тогда они называются последовательными историями Гриффитса, и все происходит так, будто мир состоит из отдельных объектов с внутренне присущими им неизменными свойствами. Однако число последовательных историй Гриффитса, которые можно записать исходя из серии измерений, обычно значительно больше единицы. Ты осознаешь свое “я”; это осознание позволяет тебе выдвинуть гипотезу: история, которую ты способен восстановить из собственных воспоминаний, является последовательной историей, оправданной в рамках принципа недвусмысленного повествования. Поскольку ты являешься отдельным индивидом, продолжающим свое существование в течение определенного отрезка времени и подчиняющимся некоей онтологии объектов и свойств, будь уверен – с тобой, безусловно, можно связать некоторую последовательную историю Гриффитса. Только эту априорную гипотезу ты принимаешь для сферы реальной жизни, но не для сферы сновидений.
– Мне хотелось бы думать, что мое “я” – это иллюзия, хотя и болезненная иллюзия… – тихо сказал Брюно; но Мишель не знал, что ответить, он совсем не разбирался в буддизме. Разговор давался им нелегко, они виделись от силы два раза в год. В молодости им случалось вести бурные дискуссии, но те времена давно миновали. В сентябре 1973-го они вместе перешли в одиннадцатый “C” с математическим уклоном; в течение двух лет вместе изучали математику и физику. Мишель был гораздо талантливее своих одноклассников. Мир людей, начинал он понимать, не оправдывает надежд, он полон тревоги и горечи. Математические уравнения приносили ему безмятежную, живую радость. Он продвигался на ощупь в полумраке и вдруг находил просвет: несколько формул, несколько дерзких факторизаций, и он достигал уровня счастливой безмятежности. Первое уравнение в доказательстве было самым волнующим, потому что истине, мерцающей на полпути, не хватало еще достоверности; последнее уравнение оказывалось самым ослепительным, самым радостным. В том же году Аннабель перешла в десятый класс лицея Мо. Они часто проводили время втроем после занятий. Потом Брюно возвращался в интернат, Аннабель и Мишель отправлялись на вокзал. Ситуация принимала странный и печальный оборот. В начале 1974 года Мишель ушел с головой в гильбертовы пространства; затем ознакомился с теорией меры, открыл для себя интегралы Римана, Лебега и Стилтьеса. Брюно меж тем читал Кафку и мастурбировал в автовагоне. Как-то в мае, зайдя днем в бассейн, недавно открывшийся в Ла-Шапель-сюр-Креси, он с превеликим удовольствием распахнул полотенце и показал член двум девочкам лет двенадцати; удовольствие возросло, когда девочки принялись пихать друг друга, проявив живой интерес к неожиданному зрелищу; он обменялся долгим взглядом с одной из них, брюнеточкой в очках. Брюно хоть и был слишком несчастен и фрустрирован, чтобы интересоваться чужой психологией, все же отдавал себе отчет, что его брат находится в еще более тяжелом положении, чем он сам. Они часто заходили вместе в кафе; Мишель носил анораки и дурацкие шапки и не умел играть в настольный футбол; говорил в основном Брюно. Мишель сидел не шелохнувшись, говорил все меньше и меньше; на Аннабель смотрел внимательно и безучастно. Аннабель не сдавалась; порой Мишель казался ей существом из другого мира. Незадолго до того она прочитала “Крейцерову сонату” и подумала было, что благодаря этой книге она его поняла. Двадцать пять лет спустя Брюно стало ясно, что они попали тогда в несуразную, ненормальную ситуацию, не имеющую будущего; обдумывая прошлое, постоянно испытываешь ощущение – возможно, ложное – некоей предопределенности.
12. Своим чередом
В эпоху революций те, кто так странно кичится, приписывая себе невеликую заслугу пробуждения в своих современниках анархических страстей, не осознают, что их кажущийся и достойный сожаления триумф обусловлен в основном спонтанной предрасположенностью, определяемой соответствующей общественной ситуацией во всей ее полноте.
Огюст Конт. Курс позитивной философии. Урок 48
Середина семидесятых во Франции ознаменовалась скандальным успехом “Призрака рая”, “Заводного апельсина” и “Вальсирующих”, трех совершенно непохожих фильмов, массовый успех которых тем не менее утвердил коммерческую целесообразность “молодежной” культуры, основанной, по сути, на сексе и насилии, которая неуклонно завоевывала рынок в течение последующих десятилетий. Что касается молодежи шестидесятых, разбогатевших тридцатилетних, то они легко узнавали себя в “Эмманюэль”, вышедшей на экраны в 1974-м: приятное времяпрепровождение, экзотические места, разнообразные фантазмы – фильм Жюста Жакена уже сам по себе, в контексте по-прежнему глубоко укорененной иудео-христианской культуры, стал манифестом вступления в цивилизацию развлечений.
В целом же движение, способствовавшее свободе нравов, достигло в 1974-м значительных успехов. Двадцатого марта в Париже открылся клуб “Витатоп”, сыгравший роль первопроходца в области физического развития и культа тела. Пятого июля приняли закон о снижении возраста совершеннолетия до 18 лет, 11 июля – о разводе по обоюдному согласию, исключив адюльтер из Уголовного кодекса. Наконец, 28 ноября благодаря поддержке левых и после бурных дебатов, “исторических” по мнению большинства экспертов, был принят “закон Вейль”, разрешающий аборты. Христианская антропология, и правда долгое время преобладавшая в странах Запада, придавала огромное значение любой человеческой жизни, от зачатия до смерти; эта значимость обусловлена верой христиан в существование души внутри человеческого тела – души, по определению бессмертной, которой рано или поздно суждено возвратиться к Богу. Под влиянием достижений биологии в XIX–XX веках постепенно сформировалась материалистическая антропология, радикально отличная по своим постулатам и гораздо более умеренная в этических рекомендациях. С одной стороны, эмбрион – небольшое скопление клеток, находящихся в состоянии прогрессирующего развития, – получал право на автономное индивидуальное существование только при соблюдении определенного социального консенсуса (отсутствие инвалидизирующего генетического дефекта, согласие родителей). С другой стороны, старик, представляющий собой скопление органов в состоянии беспрерывного разложения, мог реально заявить о своем праве на выживание лишь при условии удовлетворительного отправления своих физиологических потребностей – так появилось понятие человеческого достоинства. То есть этические проблемы, связанные с диаметрально противоположными стадиями жизни (аборт, а через несколько десятилетий – эвтаназия), отныне стали полем непреодолимого противостояния двух разных взглядов на мир, двух, по сути, антагонистических антропологических концепций.
Принципиальный агностицизм, лежащий в основе общественного устройства Французской республики, способствовал лицемерному и даже в чем-то зловещему торжеству материалистической антропологии. Вопрос ценности человеческой жизни, хоть никогда и не обсуждался открыто, неизменно будоражил умы, и можно с уверенностью сказать, что в последние десятилетия существования западной цивилизации он отчасти обусловил возникновение депрессивной и чуть ли не мазохистской атмосферы в обществе.
Для Брюно, которому недавно исполнилось восемнадцать, лето 1974 года стало важным, более того, переломным периодом. Решив много лет спустя все же обратиться к психиатру, он не раз возвращался к рассказу о том времени, чтобы скорректировать те или иные детали, – и психиатр, судя по всему, высоко оценил его повествование. Вот каноническая версия событий, которой Брюно отдавал предпочтение:
– Дело было в конце июля. Я уехал на неделю к матери, на Лазурный Берег. У нее дома вечно кто-то жил. В то лето она спала с одним канадцем – мускулистым парнем с внешностью лесоруба. Утром в день отъезда я проснулся очень рано. Солнце уже пригревало. Я вошел в их комнату, они оба еще спали. Я замешкался на несколько секунд и откинул простыню. Мать пошевелилась, и на мгновение мне показалось, что она сейчас откроет глаза; она слегка раздвинула ноги. Я опустился на колени перед ее промежностью. Я протянул руку, но остановился в паре сантиметров, не посмев ее потрогать. Потом вышел подрочить. Она подкармливала кучу кошек, в основном бродячих. Я подошел к черному котенку, который грелся на валуне. Земля вокруг дома была каменистая, совершенно белая, беспощадно белая. Кот несколько раз взглянул на меня, пока я дрочил, но зажмурился до того, как я кончил. Я нагнулся, подобрал с земли увесистый булыжник. Кошачий череп раскололся, мозги брызнули наружу. Я забросал его труп камнями и вернулся в дом – все еще спали. Утром мама отвезла меня к отцу, он жил километрах в пятидесяти от нее. В машине она впервые заговорила со мной о ди Меоле. Он тоже уехал из Калифорнии четыре года назад и купил большое поместье недалеко от Авиньона, на склонах горы Ванту. Летом к нему съезжалась молодежь со всей Европы, и Северной Америки тоже. Она подумала, что мне бы не вредно как-нибудь провести у него лето, мол, там мне откроются новые горизонты. Учение ди Меолы опиралось в основном на брахманическую традицию, но, по ее словам, без фанатизма и сектантства. К тому же он отдавал должное достижениям кибернетики, НЛП и технике депрограммирования, разработанной в Эсалене. Прежде всего речь шла об освобождении личности и ее глубинного творческого потенциала.
– Мы используем всего лишь 10 % наших нейронов. Более того, – добавила Джейн (они ехали по сосновому лесу), – там ты сможешь подружиться со своими сверстниками. За то время, что ты у нас прожил, мы все пришли к выводу, что у тебя проблемы с сексом. На Западе подход к сексу, – продолжала она, – совершенно исковеркан и извращен. Во многих примитивных обществах сексуальная инициация происходит естественным путем, в раннем подростковом возрасте, под присмотром взрослых членов племени. Я твоя мать, – сочла нужным напомнить она, но умолчала о том, что сама в 1963 году “инициировала” Дэвида, сына ди Меолы. Дэвиду тогда было тринадцать лет. В первый день она разделась перед ним и велела ему подрочить. На второй она уже сама ему дрочила и сосала. Наконец, на третий день позволила ему войти в нее. Приятно вспомнить – член мальчика был несгибаемо тверд и стоял наготове даже после того, как он несколько раз кончил; с тех пор она, похоже, окончательно переключилась на юношей. – Однако, – добавила Джейн, – инициация должна происходить за пределами ближайшего семейного круга. Это необходимо, чтобы открыть подростку мир.
Брюно вздрогнул, гадая, уж не проснулась ли она тем утром, когда он впился взглядом в ее промежность. Впрочем, замечанию его матери удивляться не приходится: табу на инцест у серых гусей и мандрилов было научно доказано. Они подъезжали к Сент-Максиму.
– Приехав к отцу, – продолжал Брюно, – я понял, что с ним что-то не так. Тем летом он смог взять отпуск всего на две недели. Тогда я не отдавал себе отчета, но у него впервые начались проблемы с деньгами, дела его шли не очень хорошо. Позже он все мне рассказал. Он совершенно упустил из виду растущий спрос на силиконовые груди. Посчитал, что это мимолетное увлечение, которое не выйдет за пределы американского рынка. Сглупил, короче. Не было еще такого случая, чтобы мода, зародившаяся в США, не охватила через несколько лет всю Западную Европу, ни единого. А вот его молодой компаньон не зевал, он открыл собственную фирму и переманил большую часть его клиенток, используя силиконовую грудь в качестве товара-приманки.
На момент этой исповеди отцу Брюно было уже семьдесят, и вскоре он скончался от цирроза печени.
– История повторяется, – мрачно добавлял он, позвякивая кубиками льда в стакане. – Этот мудак Понсе (он имел в виду лихого молодого хирурга, из-за которого он разорился двадцать лет назад), этот мудак Понсе решил не вкладываться сейчас в удлинение члена. Говорит, это отдает колбасной лавкой, и вообще он сомневается, что в Европе мужики клюнут. Мудак. Такой же мудак, как я в свое время. Будь мне сегодня тридцать, о да, я бы точно занялся удлинением членов! – Выпалив это, он погружался в мрачную задумчивость и клевал носом. В таком возрасте разговор неизбежно слегка буксует.
В то лето, в июле 1974-го, отец Брюно находился еще в самой начальной стадии старения. После обеда он запирался у себя со стопкой детективов Сан-Антонио и бутылкой бурбона. Выходил около семи вечера, чтобы разогреть готовые блюда, руки у него дрожали. Он не то чтобы напрочь отказался от разговоров с сыном, у него просто не получалось, правда не получалось. На третьи сутки атмосфера сделалась совсем гнетущей. Брюно стал уходить из дому на всю вторую половину дня; тупо отправлялся на пляж.
Следующая часть истории психиатру нравилась меньше, но Брюно она была важна, и ему совсем не хотелось обходить ее молчанием. В конце концов, этот хрен тут торчит, чтобы его выслушать; он ведь платит ему, не так ли?
– Она всегда приходила одна, – упорно продолжал Брюно, – и одиноко сидела на пляже до самого вечера. Бедняжка, ребенок богатых родителей, как и я; семнадцатилетняя толстуха, пышка с застенчивым лицом, слишком бледной кожей и вся в прыщах. На четвертый день, накануне отъезда, я взял полотенце и подсел к ней. Она лежала на животе, расстегнув лифчик от купальника. Помню, я спросил: “Ты тут на каникулах?” – ничего лучше не придумал. Она подняла на меня глаза: конечно, она вряд ли ожидала чего-то искрометного, но, может, все-таки не такой хрени. Потом мы представились друг другу, ее звали Анник. Рано или поздно ей придется встать, и я задумался, что она сделает – попытается застегнуть лифчик на спине или, наоборот, покажет мне грудь? Она выбрала промежуточный вариант: перевернулась, придерживая лифчик с боков. В итоге чашки слегка съехали, прикрывая ее только наполовину. У нее и в самом деле оказалась огромная грудь, уже немного обвисшая, и, наверное, со временем эта обвислость усугубится. Да уж, сказал я себе, отваги ей не занимать. Я протянул руку и засунул ее под лифчик, постепенно оголяя ее грудь. Она не шелохнулась, лишь напряглась слегка и закрыла глаза. Я осторожно продвинулся, ее соски затвердели. Я и по сей день считаю, что пережил тогда один из самых прекрасных моментов своей жизни.
Потом начались трудности. Я отвез ее к себе, и мы сразу поднялись в мою комнату. Я боялся, что отец увидит ее; у него-то в жизни хватало настоящих красоток. Но он спал, более того, в тот день он перепил и очнулся только к десяти вечера. Как ни странно, она не дала мне снять с нее трусы. У нее еще никогда ничего не было, призналась она, вообще с мальчиками ничего не было. Но дрочила она мне довольно уверенно, с большим энтузиазмом; помню, как она улыбалась. Потом я поднес член к ее губам; она немного пососала его, но ей это не слишком понравилось. Я решил не настаивать и просто сел на нее верхом. Я просунул член между ее грудей и почувствовал, что ей очень приятно, она тихо застонала. Я ужасно возбудился, встал и спустил с нее трусы. На этот раз она не возражала, даже подняла ноги, чтобы мне помочь. Да, она была далеко не красавица, но вульва ее манила, как у любой женщины. Она закрыла глаза. Стоило мне просунуть руки ей под попу, как она широко раздвинула ноги. Это так на меня подействовало, что я тут же кончил, еще не успев толком ей вставить. Немного спермы попало ей на лобок. Я страшно расстроился, но она сказала, ничего страшного, ей хорошо.
Времени на разговоры у нас не оставалось, было уже восемь, и Анник заторопилась домой, к родителям. И почему-то сообщила мне, что она единственный ребенок. Она выглядела такой счастливой, так гордилась, что у нее появилась уважительная причина опоздать к ужину, что я чуть не расплакался. Мы долго целовались в палисаднике перед домом. На следующее утро я вернулся в Париж.
Изложив свою зарисовку, Брюно делал паузу. Доктор сдержанно фыркал, а затем обычно говорил: “Ну, ладно”. В зависимости от того, как долго они просидели, он либо произносил какую-нибудь фразу, запускающую новый виток беседы, либо, наоборот, завершал ее: “Что ж, на сегодня хватит?” – он чуть повышал голос на последнем слоге, чтобы подчеркнуть вопросительную интонацию. Его улыбка при этом отличалась изысканной непринужденностью.
13
Тем же летом 1974 года Аннабель позволила поцеловать себя мальчику на дискотеке в Сен-Пале. Она как раз прочитала в журнале “Стефани” подборку статей о дружбе между мальчиками и девочками. Обращаясь к теме друга детства, журнал выдвигал следующий, на редкость отвратительный тезис: друг детства крайне редко превращается в бойфренда; судьба уготовила ему скорее участь приятеля, верного товарища, ему частенько можно излить душу и обратиться за поддержкой в минуты эмоциональных потрясений, вызванных первым флиртом.
Через несколько секунд после первого поцелуя, вопреки утверждениям вышеупомянутого периодического издания, на Аннабель нахлынула ужасная тоска. Что-то мучительное, неизведанное теснило ей грудь. Она вышла из “Катманду”, не разрешив мальчику себя проводить. Пока она снимала противоугонный замок со своего мопеда, ее била мелкая дрожь. В тот вечер она надела свое самое красивое платье. Дом ее брата стоял всего в километре оттуда, и когда она вернулась, было еще только начало двенадцатого, в гостиной горел свет; завидев свет, она расплакалась. Вот при таких обстоятельствах, в ту июльскую ночь 1974 года, к Аннабель пришло болезненное и бесповоротное осознание своего индивидуального бытия. Индивидуальное бытие впервые открывается животному в виде физической боли, в человеческом же обществе оно полностью осознается, когда возникает потребность во лжи, с которой его, в принципе, можно спутать. До шестнадцати лет Аннабель не имела секретов от родителей; не имела она секретов – что, как она теперь догадывалась, большая редкость и удача – и от Мишеля. За несколько часов в ту ночь Аннабель осознала, что человеческая жизнь – не что иное, как непрерывная череда лжи. Одновременно с этим к ней пришло осознание собственной красоты.
Индивидуальное бытие и вытекающее из него чувство свободы составляют естественную основу демократии. В демократическом обществе отношения между людьми традиционно регулируются договором. Договор, не учитывающий естественные права одной из сторон или не содержащий четких условий расторжения, признается тем самым недействительным.
Если о лете 1974 года Брюно с удовольствием рассказывал в мельчайших подробностях, то о последовавшем за ним учебном годе, от которого у него остались, честно говоря, лишь воспоминания о нарастающем дискомфорте, он особо не распространялся. Некий неопределенный отрезок времени в довольно мрачных тонах. Он так же часто виделся с Аннабель и Мишелем, и в принципе они по-прежнему были очень близки, но впереди маячили выпускные экзамены, и в конце учебного года им неизбежно предстояло расстаться. Мишель изменился: он слушал Джими Хендрикса, самозабвенно катаясь по ковру;
гораздо позже всех остальных у него начали проявляться явные признаки переходного возраста. Между ним и Аннабель ощущалась какая-то неловкость, они не так охотно, как раньше, брались за руки. Короче, как Брюно однажды сказал своему психиатру, “все у них пиздой накрылось”.
Благодаря эпизоду с Анник, который Брюно был склонен приукрашивать в своих воспоминаниях (ему, кстати, хватило ума ей не перезвонить), он почувствовал себя немного увереннее. Однако за этой первой победой других не последовало, он получил грубый отпор, попытавшись поцеловать Сильви, симпатичную брюнетку, такую прям зайку, одноклассницу Аннабель. Но ведь если одна девочка его захотела, то и другие найдутся; так что к Мишелю он начал относиться в чем-то даже покровительственно. В конце концов, это его брат, к тому же младше на два года.
– Тебе пора уже что-то предпринять с Аннабель, – повторял он, – она только того и ждет, она влюблена в тебя, и она самая красивая девочка в лицее.
Мишель ерзал на стуле и отвечал: “Ага”. Шли недели, а он все колебался, на пороге взрослой жизни. Поцелуй он Аннабель, они оба сумели бы, возможно, избежать трудностей этого перехода, другого способа не было, но он не понимал этого; он позволил себя убаюкать обманчивому ощущению, что впереди у него вечность. В апреле он привел в ярость своих учителей, забыв заполнить анкету для поступления на подготовительные курсы. Хотя у него, как ни у кого другого, были все шансы попасть в какую-нибудь высшую школу. До начала экзаменов на бакалавра оставалось месяца полтора, а он все чаще витал в эмпиреях. Сидя в классе, смотрел через зарешеченные окна на облака, на деревья в школьном дворе или на других учеников; казалось, что дела человеческие его уже совсем не волнуют.
Брюно, напротив, решил записаться на филологический факультет: ему поднадоели ряды Тейлора-Маклорена, а главное, на филфаке водятся девушки, много девушек. Отец не возражал. Как все старые распутники, он на склоне лет стал сентиментален и горько упрекал себя за то, что своим эгоизмом испортил сыну жизнь, что было не так уж далеко от истины. В начале мая он расстался с Жюли, своей последней любовницей, великолепной женщиной, надо сказать; Жюли Ламур в повседневной жизни, она взяла сценический псевдоним – Джулия Лав. Она снималась в первых, давно уже позабытых порнофильмах французского образца – у Берда Транбаре и Франсиса Леруа. Внешне она чем-то напоминала Жанин, только та все же не была такой дурой. “Опять на те же грабли”, – буркнул отец Брюно, когда обнаружил их сходство, наткнувшись на девичью фотографию бывшей жены. На званом ужине у Беназерафа она познакомилась с Делёзом и с тех пор регулярно пускалась в интеллектуальные оправдания порнографии, и вот тут уж его терпение лопнуло. Кроме того, она влетала ему в копеечку, привыкнув на съемках к арендованным “роллсам”, шубам и всяким эротическим фишкам, а ему с возрастом все это совсем опротивело. В конце 1974 года ему пришлось продать дом в Сент-Максиме. Через несколько месяцев он купил сыну студию неподалеку от Обсерватории: очень хорошую студию, светлую, тихую, с открытым видом. Когда он привел туда Брюно, у него вовсе не возникло ощущения, что он делает ему какой-то невероятный подарок, скорее, он пытался по мере сил загладить свою вину; в любом случае эта студия явно досталась ему по дешевке. Обведя взглядом квартиру, он слегка оживился. “Сможешь водить сюда девочек!” – неосторожно воскликнул он. Увидев лицо сына, он тут же пожалел о своих словах.
В конце концов Мишель записался в Орсе на физмат; его привлекла прежде всего близость кампуса – именно так он и рассуждал.
Неудивительно, что оба брата успешно получили свой “бак”. Аннабель пошла с ними узнать результаты, вид у нее был серьезный, она очень повзрослела за этот год. Немного похудевшая, с какой-то затаенной улыбкой, она стала, увы, еще красивее. Брюно решил проявить инициативу: летнего дома в Сент-Максиме больше нет, зато он может провести каникулы в поместье ди Меолы, как посоветовала ему мать. Он предложил им поехать вместе. Они отправились туда через месяц, в конце июля.
14. Лето семьдесят пятого
Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали.
Книга пророка Осии, 5:4