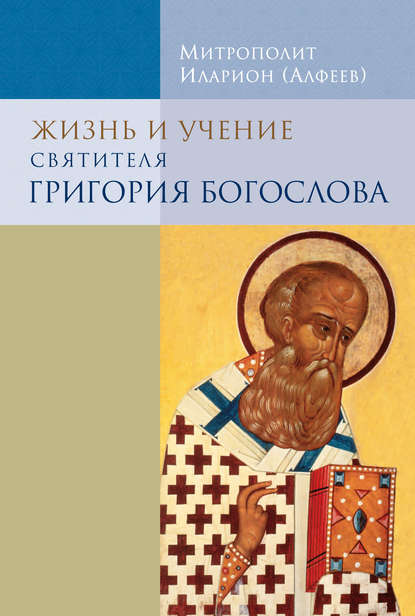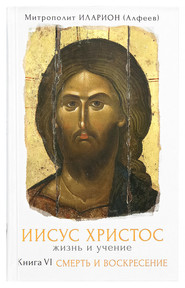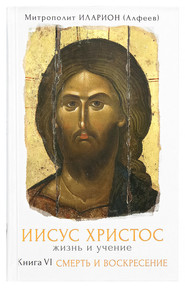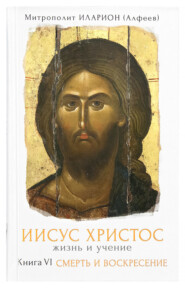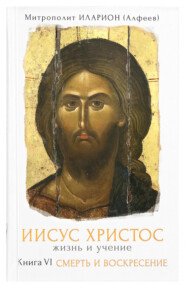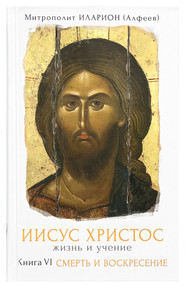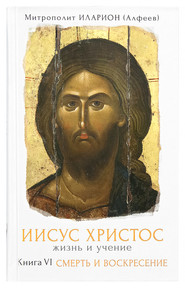По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жизнь и учение святителя Григория Богослова
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Детство Григория было счастливым и благодатным: он рос, окруженный любовью родителей, домашних и слуг. На его христианское воспитание оказало влияние как чтение книг, так и общение с «добродетельными мужами»[18 - PG 37, 1036 = 2.352.]. Но, возможно, решающим для него был его собственный опыт молитвы и мистического соприкосновения с божественной реальностью. Григорий, в частности, повествует о «ночных видениях», при помощи которых Бог вселял в него Божественную любовь к целомудренной жизни[19 - PG 37, 1367 = 2.71.]. Одно из таких видений состояло в том, что во время глубокого сна юному Григорию явились две прекрасные девы – Чистота (??????) и Целомудрие (??????????): они призвали мальчика избрать девственный образ жизни, чтобы приблизиться к «сиянию бессмертной Троицы»[20 - PG 37, 1369-1371 = 2.72.]. Это видение оставило глубокий след в душе Григория и во многом предопределило его жизненный выбор.
Другое подобного же рода событие не только усилило аскетические устремления Григория, но и повлияло на весь строй его богословской мысли. Речь идет о его первом мистическом видении Божественного света, которое было одновременно первым опытным соприкосновением Григория с тайной Святой Троицы (следует отметить, что тема созерцания Троичного света станет центральной в богословии Григория):
С тех пор как впервые, отрешившись от житейского,
Соединил я душу со светлыми небесными помышлениями,
И высокий Ум, подняв меня, поставил вдали от плоти,
Унес отсюда и скрыл в чертогах небесной скинии,
Озарил мои взоры светом (????) нашей Троицы,
Светозарнее (?????????) Которой ничего не мог я и представить,
Которая с высокого престола изливает на всех неизреченное сияние (?????),
Которая есть начало всего, что отделено от высшей
(реальности) временем –
С тех пор умер я для мира, а мир – для меня[21 - PG 37, 984–985 = 2.56.].
Мы не знаем, к какому периоду жизни Григория следует отнести описанное духовное переживание, однако у нас есть все основания предполагать, что глубокая мистическая жизнь началась у него еще в детстве. Он, в частности, пишет о себе: «Когда был я ребенком… я восходил ввысь, к сияющему престолу»[22 - PG 37, 1006 = 2.63.]. О годах своей юности Григорий вспоминает: «Вместо земных стяжаний… у меня перед глазами было сияние Бога…»[23 - PG 37, 992 = 2.59.] На наш взгляд, было бы неправильно воспринимать эти и подобные многочисленные упоминания о Божественном свете лишь в переносном смысле: скорее речь идет именно о пережитых Григорием таинственных «восхищениях», сопровождавшихся мистическим видением света.
Будущий святитель получил блестящее по тем временам образование, начало которому было положено в Назианзе, где Григорий учился вместе с Кесарием[24 - Сл. 7, 6, 1-2; SC 405, 190 = 1.162.]. Затем он посещал школу в «митрополии наук» – Кесарии Каппадокийской, где впервые встретился с Василием[25 - Сл. 43, 13; SC 384, 142-144 = 1.610.]. Риторику Григорий изучал в «процветавших тогда палестинских училищах», то есть в Кесарии Палестинской[26 - Сл. 7, 6, 7-8; SC 405, 192 = 1.162.]. Он также «вкусил нечто из словесности» в Александрии[27 - PG 37, 1038 = 2.353. Ср. Gallay, Vie, 33-35.], которую называл «лабораторией всех наук»[28 - Сл. 7, 6, 10-11; SC 405, 192 = 1.162.]. Как в Александрии, так и ранее в Кесарии Палестинской Григорий мог познакомиться с литературным наследием Оригена, преподававшего в обоих городах; в Александрии Григорий мог встречаться со святым Афанасием, а также слушать лекции знаменитого экзегета Дидима.
За время своего обучения в каппадокийских школах Григорий должен был пройти тот курс, который приблизительно соответствует современным начальной и средней школе. Занятия в начальной («грамматической») школе включали в себя изучение алфавита и арифметики, чтение вслух, письменные упражнения, заучивание наизусть фрагментов из сочинений древних поэтов, прежде всего Гомера, толкование заучиваемых текстов. Курс средней школы (????????? ??????? – «общее образование») включал в себя математику, геометрию, астрономию и теорию музыки, к которым могли добавляться другие предметы, в частности медицина. Риторика и софистика относились к сфере высшего образования[29 - См.: Mango. Byzantium, 125-128.]. Можно, следовательно, предполагать, что в Кесарии Палестинской и Александрии Григорий начал свое университетское образование, которое затем продолжил в Афинах.
Любовь Григория к учености, в особенности к словесным наукам и философии, была не менее горячей, чем его преданность христианской вере. Эта любовь проявилась в нем с детства и не оставляла его до последних дней жизни. В годы юности Григорий приобщался главным образом к сокровищницам языческой учености, однако и христианской литературой был напитан еще прежде, чем достиг зрелости[30 - PG 37, 1115 = 2.337.]. Высоко ценя античную культуру, он тем не менее ставил на первое место «подлинные науки» (то есть христианское учение):
Еще не опушились мои щеки,
а уже пламенная любовь (????)к наукам
Владела мною. И я стремился поставить
Науки ложные на службу подлинным…
Впрочем, никогда не приходило мне на ум
Предпочесть что-либо нашим урокам[31 - PG 37, 1037-1038 = 2.352.].
Курс образования Григория должен был завершиться в Афинах, куда он отправился из Александрии на корабле. Однако на пути его ждало суровое испытание, которое стало переломным моментом в его судьбе. Когда корабль находился в открытом море недалеко от острова Кипр, разразился шторм, продолжавшийся много дней. Описывая происходившее, Григорий проявляет поэтическое мастерство, достойное Гомера[32 - Литературная форма повествования блика к описанию бури в «Одиссее».]:
Ветреный шквал налетел на корабль, и все слилось в одну ночь –
Земля, море, воздух, потемневшее небо.
Громовые раскаты сопровождались полыханиями молний,
Свистели канаты лопавшихся парусов.
Мачта гнулась, штурвал потерял всякую силу,
Ручку руля с силой вырывало из рук.
Толща воды обрушивалась в трюмы.
Крики смешались с плачем
Матросов, штурманов, владельцев корабля и пассажиров,
Единым голосом взывавших ко Христу,
В том числе и тех, кто никогда раньше не знал Бога;
Ибо страх – самый впечатляющий урок.
Но самым ужасным из всех бедствий
Было отсутствие воды на корабле, который от сильного шторма
Получил пробоины: через них вылился в пучину
Весь имевшийся запас сладкой влаги.
Предстояло умереть, борясь с голодом, штормом и ветрами…[33 - PG 37, 1038–1040 = 2.353.]
Запасы воды удалось пополнить благодаря проходившему мимо финикийскому судну, однако шторм не утихал в течение многих дней, и корабль, на котором находился Григорий, окончательно сбился с пути: «Мы не знали, куда плывем, ибо многократно меняли курс, и уже не чаяли никакого спасения от Бога»[34 - PG 37, 1041 = 2.353.].
По обычаю того времени Григорий, хотя и являлся сыном епископа, не был крещен в детстве: Таинство откладывалось до окончания учебы и вступления в зрелый возраст. Оказавшись лицом к лицу с рассвирепевшей стихией, он не столько боялся самой смерти, сколько опасался умереть некрещеным. Его скорбь была так велика, что другие пассажиры утешали его:
Когда же все боялись смерти обыкновенной,
Для меня еще ужаснее была смерть внутренняя.
Ибо очистительных вод, дающих обожение,
Лишали меня воды, убийственные для путешественников.
Об этом было мое рыдание, в этом заключалось мое несчастье,
Об этом я, простирая руки, воссылал вопли,
Заглушавшие даже страшный рев волн;
Разорвав одежду, я лежал простершись, убитый горем.
Но вот что невероятно, однако же это правда:
Все плывшие на корабле, забыв о собственном бедствии,
Соединяли со мной молитвенные стоны,
Сделавшись благочестивыми в общих бедствиях;
Так сострадательны были они к моим мучениям![35 - PG 37, 1041 = 2.353–354.]
В этой критической ситуации Григорий дает обет посвятить себя Богу в случае, если ему будет сохранена жизнь. К обету, данному его матерью, он присоединяет свой собственный, предлагая Богу заключить с ним договор: «Твоим я был прежде, Твой есмь и ныне, – говорит Григорий Богу. – …Для Тебя буду жить, если избегну сугубой опасности! Ты потеряешь Своего служителя, если не спасешь меня! Ученик Твой попал в бурю: оттряси же сон, или приди по водам, и прекрати этот кошмар!»[36 - PG 37, 1043 = 2.354.]
Бог принимает условия договора. Шторм неожиданно прекращается. Вместе с ним заканчивается юность Григория. Хотя пройдут годы, прежде чем он окончит академию, крестится и окончательно посвятит себя служению Богу, тем не менее решение об этом уже принято, и ничто не сможет отвратить Григория от следования к намеченной цели.
Афины. Дружба с Василием
Афинская академия была, несомненно, самым известным и престижным учебным заведением своего времени. Основанная великим Платоном в IV веке до Р.Х., она не утратила своего значения к IV веку по Р.Х., когда в ней учился Григорий. К этому времени господствующей философской школой в академии становится неоплатонизм с ярко выраженной теургической направленностью: Григорий впоследствии упрекал Афины за то, что они «изобилуют худым богатством – идолами, которых там больше, чем во всей Элладе, так что трудно не увлечься за восхваляющими и защищающими их»[37 - Сл. 43, 21, 21–22; SC 384, 168 = 1.617.]. Однако и влияние христиан в академии становилось все более ощутимым. Христиане преподавали там бок о бок с нехристианами: так, наставниками Григория в софистике были язычник Химерий и христианин Прохересий[38 - Сократ. Церк. ист. 4, 26; PG 67, 529 A. Ср. Созомен. Церк. ист. 6, 17; PG 67, 1333 C.]. Среди учеников тоже были как христиане, так и язычники, причем не делалось различия по вероисповедному признаку: каждый мог исповедовать ту или иную религию по своему усмотрению. Академия оставалась светским учебным заведением, и двери в нее были открыты для всякого, кто оказывался способным к учебе и обладал достаточными средствами, чтобы платить за нее.
Академия давала разностороннее, хотя и не энциклопедическое образование. Основными предметами, изучавшимися в ней, были риторика и софистика: в Афинах Григорий приобрел то риторическое мастерство, которое впоследствии стяжало ему бессмертную славу. Основными литературными образцами, применявшимися при изучении риторики, оставались сочинения Гомера, Эврипида и Софокла, памятники аттической прозы и поэзии, преимущественно на мифологические сюжеты. Обширными знаниями в области античной мифологии, которыми Григорий отличался от других отцов Церкви IV века[39 - Ср. Demoen. Pagan and Biblical Exempla, 211–212.], он был в значительной степени обязан своим занятиям в Афинах. Своеобразие его собственного литературного стиля также во многом обусловлено его профессиональными навыками в риторике.
Философии в академии уделялось меньше внимания, чем риторике и софистике. Лишь Платон и Аристотель изучались в подлинниках, причем больше внимания обращалось на их стиль, чем на учение; с прочими философами знакомились по учебникам. Впрочем, те студенты, которые интересовались философией более серьезно, могли поступить к тому или иному из профессоров на постоянное обучение. Григорий, вероятно, не изучал философию на таком уровне: хотя в его сочинениях постоянно упоминаются, помимо Платона и Аристотеля, многие другие античные философы, в основном его ссылки на них носят общий характер и не демонстрируют знакомства с первоисточниками. Характерно также, что Григорий не был близко знаком с неоплатонической литературой, в частности с сочинениями Плотина: те идеи Григория, которые могут быть названы неоплатоническими, заимствованы им, как правило, из сочинений Оригена[40 - Ruether. Gregory, 25–27.].
Одной из традиций академии, делавшей учебный процесс менее формальным и более увлекательным, являлись состязания софистов, проходившие как на уровне преподавателей, так и в среде учеников. Однако дух конкуренции, существовавший между софистами, порождал и свои проблемы, поскольку каждый из них создавал вокруг себя группу последователей: нередко соперничество между подобными группами превращалось в длительное противостояние, в ходе которого представители каждой группы старались перетянуть на свою сторону студентов, в особенности новоприбывших. Вся Эллада, согласно Григорию, была в его время разделена на сферы влияния софистов и риторов:
Софистомания в Афинах свойственна весьма многим из числа молодежи и из числа наиболее неразумных людей – не только тех, что не имеют благородного происхождения и имени, но и знатных и известных, которые образуют беспорядочную толпу юнцов, не контролирующих свои эмоции. То же самое можно видеть на скачках, где страстные поклонники лошадей и состязаний вскакивают, кричат, подбрасывают вверх землю, управляют лошадьми сидя на месте, бьют по воздуху, ударяя лошадей пальцами, словно бичами, запрягают и перезапрягают лошадей, не будучи никоим образом в силах повлиять на ситуацию, охотно меняются наездниками, лошадьми, конюшнями, распорядителями… Такой же страстью обуреваемы афинские юнцы по отношению к своим учителям и к их соперникам. Они прилагают усердие для того, чтобы их группа стала более многочисленной и чтобы их учителя за счет этого обогащались: все это весьма странно и жалко. Заранее захвачены города, пути, пристани, вершины гор, равнины, пустыни: не оставлена в стороне ни одна область Аттики и всей прочей Эллады вместе с большинством их жителей, ибо и эти последние разделены на партии[41 - Сл. 43, 15, 11–30; SC 384, 150–152 = 1.612.].
С первых дней своего пребывания в Афинах Григорий окунулся в бурную атмосферу академической жизни. Однако, как он сам повествует, его мало интересовали обычные студенческие развлечения: всему предпочитал он жизнь тихую и уединенную. Главным его желанием было завоевать пальму первенства в риторике и других науках[42 - PG 37, 1044 = 2.354.]. «Приобрести познания, которые собрали Восток и Запад и гордость Эллады – Афины» – такова была цель Григория[43 - PG 37, 1554 = 2.260.].
В Афинах Григорий приобрел не только обширные познания и риторическое мастерство. Главным приобретением этого периода стала для него дружба с Василием – светлый и счастливый опыт человеческого общения, который он ставил выше всех своих научных достижений. «…Ища познаний, обрел я счастье… испытав то же, что Саул, который в поисках ослов своего отца обрел царство (?????????)», – говорил Григорий по этому поводу[44 - Сл. 43, 14, 9-12; SC 384, 148 = 1.611. Ср. 3 Цар 9, 3. В тексте Григория игра слов между именем Василий и словом «царство» (????????).]. Григорий знал Василия и до того – их пути уже пересекались в Кесарии Каппадокийской – однако именно в Афинах их знакомство переросло в «дружбу», «единодушие» и «родство»[45 - Сл. 43, 14, 21-22; SC 384, 148 = 1.611.], о которых даже на склоне лет Григорий не мог вспоминать без душевного волнения.
Василий прибыл в Афины вскоре после Григория. По неписаной традиции, каждый новоприбывший должен был получить порцию издевательств и насмешек со стороны других студентов: это было своего рода испытание на прочность, которое казалось весьма трудным для тех, кто не был предупрежден заранее о существовании подобного обычая. В один из первых дней новоприбывшего вели в баню, осыпая по дороге насмешками; когда же он подходил к дверям, ему преграждали путь и не позволяли войти; все мероприятие сопровождалось неистовыми криками и плясками. Наконец толпа студентов вместе с новичком вламывалась в двери. Если он все это выдерживал, по выходе из бани его встречали как равного[46 - Сл. 43, 16, 9–28; SC 384, 152–154 = 1.613.]. Обряд посвящения в студенты завершался торжественным облачением новичка в малиновую мантию, которую обычно носили студенты-софисты[47 - Олимпиодор. Схолии к Григорию Назианзину; PG 36, 906 A.].
Григорий, вероятно, прошел через этот ритуал, когда поступил в академию: Василия ждала та же участь. Однако Григорий, узнав заранее о приезде Василия, не только сам встретил его как равного, но и убедил других студентов отнестись к нему с уважением, в результате чего Василий избежал обычной церемонии. «Таково начало нашей дружбы, отсюда первая искра нашего союза; так уязвились мы любовью друг к другу», – говорит Григорий[48 - Сл. 43, 17, 1–3; SC 384, 156 = 1.613.].
Связь между Василием и Григорием упрочилась после того, как группа студентов-армян, придя однажды к Василию, вызвала его на софистическое состязание, в которое вмешался Григорий. Сначала он встал на сторону армян, однако потом, поняв, что их истинным намерением является посрамление Василия, неожиданно «развернул корму» и поддержал последнего. Победа Василия, который «не прекратил поражать их силлогизмами до тех пор, пока совершенно не обратил их в бегство», стала победой обоих. «Этот второй случай, – пишет Григорий, – возжег в нас уже не искру, но светлый и высокий факел дружбы»[49 - Сл. 43, 17, 5–34; SC 384, 156–160 = 1.613–614.].
Григорий подчеркивает, что его взаимоотношения с Василием строились на чисто духовной основе: это была любовь не плотская, но целомудренная и духовная; это был союз двух людей, всецело преданных идеалам философской жизни и учености, влюбленных в Бога и стремящихся к нравственному совершенству. Страницы, которые Григорий посвятил своей дружбе с Василием, являются одним из самых ярких во всей патристической литературе описаний дружбы:
Когда по прошествии времени открыли мы друг другу свое желание (?????) и стремление посвятить жизнь философии, тогда уже стали мы друг для друга все – друзья, сотрапезники, родные; стремясь к одному и тому же, мы непрестанно возгревали друг в друге это желание, делая его все более пламенным и твердым. Ибо плотская любовь (??????)[50 - Букв. «влечения».], поскольку направлена на скоропреходящее, и сама скоро преходит, уподобляясь весенним цветам… А та любовь, что по Богу, и сама целомудренна, и объект ее – непреходящее, а потому она долговечна; и чем большая представляется красота имеющим такую любовь, тем крепче привязывает эта красота к себе и друг к другу влюбленных в одно и то же… Так относясь друг к другу и такими золотыми столпами подперев чертог добростенный, как говорит Пиндар[51 - Олимпийская ода 6, 1-3.], простирались мы вперед, имея сотрудниками Бога и свою любовь (?????). О, как перенесу без слез воспоминание об этом? Равные надежды руководили нами в деле самом завидном – в учебе; впрочем, зависть была далека от нас, ревность же делала еще более усердными. Оба мы боролись не за то, чтобы кому-либо из нас самому стать первым, но за то, чтобы уступить первенство другу, ибо каждый из нас славу друга считал своей собственной. Казалось, одна душа в обоих носит два тела; и хотя не следует верить утверждающим, что все разлито во всем[52 - Ссылка на пантеистическое мировоззрение.], однако нам нужно верить, что мы были один в другом и один возле другого. Одно занятие было у нас обоих – добродетель и жизнь для будущих надежд, отрешаясь от здешнего еще прежде исхода отсюда. Стремясь к этой цели, всю свою жизнь и деятельность направляли мы к ней, руководствуясь в этом заповедью и поощряя друг друга к добродетели; и если не дерзко для меня так выразиться, мы были друг для друга и правилом и отвесом, с помощью которых распознается, что прямо, а что – нет…[53 - Сл. 43, 19, 1–20, 19; SC 384, 162–166 = 1.615–616.]
В этих строках можно увидеть ностальгическую идеализацию юношеской дружбы, особенно если учесть, что написаны они много лет спустя, когда Василия уже не было в живых. Тем не менее нет никаких оснований не верить искренности Григория. Несомненно, он идеализировал как своего друга, так и само понятие дружбы. Очевидно также, что он был больше привязан к Василию, чем Василий – к нему. Отношения между Василием и Григорием строились на основе взаимной преданности друг другу и равенства в правах; в то же время Григорий всегда воспринимал Василия как старшего и главного. Это был тот случай, когда дружба в каком-то смысле перерастала в ученичество: «Мое дело – следовать за ним, словно тень за телом», – говорил Григорий[54 - Письмо 16 / Ed. Gallay, p.18 = 2.422.]. Он искренне считал Василия «в жизни, слове и нравственности превосходящим всех», кого он когда-либо знал[55 - Там же.].
Другое подобного же рода событие не только усилило аскетические устремления Григория, но и повлияло на весь строй его богословской мысли. Речь идет о его первом мистическом видении Божественного света, которое было одновременно первым опытным соприкосновением Григория с тайной Святой Троицы (следует отметить, что тема созерцания Троичного света станет центральной в богословии Григория):
С тех пор как впервые, отрешившись от житейского,
Соединил я душу со светлыми небесными помышлениями,
И высокий Ум, подняв меня, поставил вдали от плоти,
Унес отсюда и скрыл в чертогах небесной скинии,
Озарил мои взоры светом (????) нашей Троицы,
Светозарнее (?????????) Которой ничего не мог я и представить,
Которая с высокого престола изливает на всех неизреченное сияние (?????),
Которая есть начало всего, что отделено от высшей
(реальности) временем –
С тех пор умер я для мира, а мир – для меня[21 - PG 37, 984–985 = 2.56.].
Мы не знаем, к какому периоду жизни Григория следует отнести описанное духовное переживание, однако у нас есть все основания предполагать, что глубокая мистическая жизнь началась у него еще в детстве. Он, в частности, пишет о себе: «Когда был я ребенком… я восходил ввысь, к сияющему престолу»[22 - PG 37, 1006 = 2.63.]. О годах своей юности Григорий вспоминает: «Вместо земных стяжаний… у меня перед глазами было сияние Бога…»[23 - PG 37, 992 = 2.59.] На наш взгляд, было бы неправильно воспринимать эти и подобные многочисленные упоминания о Божественном свете лишь в переносном смысле: скорее речь идет именно о пережитых Григорием таинственных «восхищениях», сопровождавшихся мистическим видением света.
Будущий святитель получил блестящее по тем временам образование, начало которому было положено в Назианзе, где Григорий учился вместе с Кесарием[24 - Сл. 7, 6, 1-2; SC 405, 190 = 1.162.]. Затем он посещал школу в «митрополии наук» – Кесарии Каппадокийской, где впервые встретился с Василием[25 - Сл. 43, 13; SC 384, 142-144 = 1.610.]. Риторику Григорий изучал в «процветавших тогда палестинских училищах», то есть в Кесарии Палестинской[26 - Сл. 7, 6, 7-8; SC 405, 192 = 1.162.]. Он также «вкусил нечто из словесности» в Александрии[27 - PG 37, 1038 = 2.353. Ср. Gallay, Vie, 33-35.], которую называл «лабораторией всех наук»[28 - Сл. 7, 6, 10-11; SC 405, 192 = 1.162.]. Как в Александрии, так и ранее в Кесарии Палестинской Григорий мог познакомиться с литературным наследием Оригена, преподававшего в обоих городах; в Александрии Григорий мог встречаться со святым Афанасием, а также слушать лекции знаменитого экзегета Дидима.
За время своего обучения в каппадокийских школах Григорий должен был пройти тот курс, который приблизительно соответствует современным начальной и средней школе. Занятия в начальной («грамматической») школе включали в себя изучение алфавита и арифметики, чтение вслух, письменные упражнения, заучивание наизусть фрагментов из сочинений древних поэтов, прежде всего Гомера, толкование заучиваемых текстов. Курс средней школы (????????? ??????? – «общее образование») включал в себя математику, геометрию, астрономию и теорию музыки, к которым могли добавляться другие предметы, в частности медицина. Риторика и софистика относились к сфере высшего образования[29 - См.: Mango. Byzantium, 125-128.]. Можно, следовательно, предполагать, что в Кесарии Палестинской и Александрии Григорий начал свое университетское образование, которое затем продолжил в Афинах.
Любовь Григория к учености, в особенности к словесным наукам и философии, была не менее горячей, чем его преданность христианской вере. Эта любовь проявилась в нем с детства и не оставляла его до последних дней жизни. В годы юности Григорий приобщался главным образом к сокровищницам языческой учености, однако и христианской литературой был напитан еще прежде, чем достиг зрелости[30 - PG 37, 1115 = 2.337.]. Высоко ценя античную культуру, он тем не менее ставил на первое место «подлинные науки» (то есть христианское учение):
Еще не опушились мои щеки,
а уже пламенная любовь (????)к наукам
Владела мною. И я стремился поставить
Науки ложные на службу подлинным…
Впрочем, никогда не приходило мне на ум
Предпочесть что-либо нашим урокам[31 - PG 37, 1037-1038 = 2.352.].
Курс образования Григория должен был завершиться в Афинах, куда он отправился из Александрии на корабле. Однако на пути его ждало суровое испытание, которое стало переломным моментом в его судьбе. Когда корабль находился в открытом море недалеко от острова Кипр, разразился шторм, продолжавшийся много дней. Описывая происходившее, Григорий проявляет поэтическое мастерство, достойное Гомера[32 - Литературная форма повествования блика к описанию бури в «Одиссее».]:
Ветреный шквал налетел на корабль, и все слилось в одну ночь –
Земля, море, воздух, потемневшее небо.
Громовые раскаты сопровождались полыханиями молний,
Свистели канаты лопавшихся парусов.
Мачта гнулась, штурвал потерял всякую силу,
Ручку руля с силой вырывало из рук.
Толща воды обрушивалась в трюмы.
Крики смешались с плачем
Матросов, штурманов, владельцев корабля и пассажиров,
Единым голосом взывавших ко Христу,
В том числе и тех, кто никогда раньше не знал Бога;
Ибо страх – самый впечатляющий урок.
Но самым ужасным из всех бедствий
Было отсутствие воды на корабле, который от сильного шторма
Получил пробоины: через них вылился в пучину
Весь имевшийся запас сладкой влаги.
Предстояло умереть, борясь с голодом, штормом и ветрами…[33 - PG 37, 1038–1040 = 2.353.]
Запасы воды удалось пополнить благодаря проходившему мимо финикийскому судну, однако шторм не утихал в течение многих дней, и корабль, на котором находился Григорий, окончательно сбился с пути: «Мы не знали, куда плывем, ибо многократно меняли курс, и уже не чаяли никакого спасения от Бога»[34 - PG 37, 1041 = 2.353.].
По обычаю того времени Григорий, хотя и являлся сыном епископа, не был крещен в детстве: Таинство откладывалось до окончания учебы и вступления в зрелый возраст. Оказавшись лицом к лицу с рассвирепевшей стихией, он не столько боялся самой смерти, сколько опасался умереть некрещеным. Его скорбь была так велика, что другие пассажиры утешали его:
Когда же все боялись смерти обыкновенной,
Для меня еще ужаснее была смерть внутренняя.
Ибо очистительных вод, дающих обожение,
Лишали меня воды, убийственные для путешественников.
Об этом было мое рыдание, в этом заключалось мое несчастье,
Об этом я, простирая руки, воссылал вопли,
Заглушавшие даже страшный рев волн;
Разорвав одежду, я лежал простершись, убитый горем.
Но вот что невероятно, однако же это правда:
Все плывшие на корабле, забыв о собственном бедствии,
Соединяли со мной молитвенные стоны,
Сделавшись благочестивыми в общих бедствиях;
Так сострадательны были они к моим мучениям![35 - PG 37, 1041 = 2.353–354.]
В этой критической ситуации Григорий дает обет посвятить себя Богу в случае, если ему будет сохранена жизнь. К обету, данному его матерью, он присоединяет свой собственный, предлагая Богу заключить с ним договор: «Твоим я был прежде, Твой есмь и ныне, – говорит Григорий Богу. – …Для Тебя буду жить, если избегну сугубой опасности! Ты потеряешь Своего служителя, если не спасешь меня! Ученик Твой попал в бурю: оттряси же сон, или приди по водам, и прекрати этот кошмар!»[36 - PG 37, 1043 = 2.354.]
Бог принимает условия договора. Шторм неожиданно прекращается. Вместе с ним заканчивается юность Григория. Хотя пройдут годы, прежде чем он окончит академию, крестится и окончательно посвятит себя служению Богу, тем не менее решение об этом уже принято, и ничто не сможет отвратить Григория от следования к намеченной цели.
Афины. Дружба с Василием
Афинская академия была, несомненно, самым известным и престижным учебным заведением своего времени. Основанная великим Платоном в IV веке до Р.Х., она не утратила своего значения к IV веку по Р.Х., когда в ней учился Григорий. К этому времени господствующей философской школой в академии становится неоплатонизм с ярко выраженной теургической направленностью: Григорий впоследствии упрекал Афины за то, что они «изобилуют худым богатством – идолами, которых там больше, чем во всей Элладе, так что трудно не увлечься за восхваляющими и защищающими их»[37 - Сл. 43, 21, 21–22; SC 384, 168 = 1.617.]. Однако и влияние христиан в академии становилось все более ощутимым. Христиане преподавали там бок о бок с нехристианами: так, наставниками Григория в софистике были язычник Химерий и христианин Прохересий[38 - Сократ. Церк. ист. 4, 26; PG 67, 529 A. Ср. Созомен. Церк. ист. 6, 17; PG 67, 1333 C.]. Среди учеников тоже были как христиане, так и язычники, причем не делалось различия по вероисповедному признаку: каждый мог исповедовать ту или иную религию по своему усмотрению. Академия оставалась светским учебным заведением, и двери в нее были открыты для всякого, кто оказывался способным к учебе и обладал достаточными средствами, чтобы платить за нее.
Академия давала разностороннее, хотя и не энциклопедическое образование. Основными предметами, изучавшимися в ней, были риторика и софистика: в Афинах Григорий приобрел то риторическое мастерство, которое впоследствии стяжало ему бессмертную славу. Основными литературными образцами, применявшимися при изучении риторики, оставались сочинения Гомера, Эврипида и Софокла, памятники аттической прозы и поэзии, преимущественно на мифологические сюжеты. Обширными знаниями в области античной мифологии, которыми Григорий отличался от других отцов Церкви IV века[39 - Ср. Demoen. Pagan and Biblical Exempla, 211–212.], он был в значительной степени обязан своим занятиям в Афинах. Своеобразие его собственного литературного стиля также во многом обусловлено его профессиональными навыками в риторике.
Философии в академии уделялось меньше внимания, чем риторике и софистике. Лишь Платон и Аристотель изучались в подлинниках, причем больше внимания обращалось на их стиль, чем на учение; с прочими философами знакомились по учебникам. Впрочем, те студенты, которые интересовались философией более серьезно, могли поступить к тому или иному из профессоров на постоянное обучение. Григорий, вероятно, не изучал философию на таком уровне: хотя в его сочинениях постоянно упоминаются, помимо Платона и Аристотеля, многие другие античные философы, в основном его ссылки на них носят общий характер и не демонстрируют знакомства с первоисточниками. Характерно также, что Григорий не был близко знаком с неоплатонической литературой, в частности с сочинениями Плотина: те идеи Григория, которые могут быть названы неоплатоническими, заимствованы им, как правило, из сочинений Оригена[40 - Ruether. Gregory, 25–27.].
Одной из традиций академии, делавшей учебный процесс менее формальным и более увлекательным, являлись состязания софистов, проходившие как на уровне преподавателей, так и в среде учеников. Однако дух конкуренции, существовавший между софистами, порождал и свои проблемы, поскольку каждый из них создавал вокруг себя группу последователей: нередко соперничество между подобными группами превращалось в длительное противостояние, в ходе которого представители каждой группы старались перетянуть на свою сторону студентов, в особенности новоприбывших. Вся Эллада, согласно Григорию, была в его время разделена на сферы влияния софистов и риторов:
Софистомания в Афинах свойственна весьма многим из числа молодежи и из числа наиболее неразумных людей – не только тех, что не имеют благородного происхождения и имени, но и знатных и известных, которые образуют беспорядочную толпу юнцов, не контролирующих свои эмоции. То же самое можно видеть на скачках, где страстные поклонники лошадей и состязаний вскакивают, кричат, подбрасывают вверх землю, управляют лошадьми сидя на месте, бьют по воздуху, ударяя лошадей пальцами, словно бичами, запрягают и перезапрягают лошадей, не будучи никоим образом в силах повлиять на ситуацию, охотно меняются наездниками, лошадьми, конюшнями, распорядителями… Такой же страстью обуреваемы афинские юнцы по отношению к своим учителям и к их соперникам. Они прилагают усердие для того, чтобы их группа стала более многочисленной и чтобы их учителя за счет этого обогащались: все это весьма странно и жалко. Заранее захвачены города, пути, пристани, вершины гор, равнины, пустыни: не оставлена в стороне ни одна область Аттики и всей прочей Эллады вместе с большинством их жителей, ибо и эти последние разделены на партии[41 - Сл. 43, 15, 11–30; SC 384, 150–152 = 1.612.].
С первых дней своего пребывания в Афинах Григорий окунулся в бурную атмосферу академической жизни. Однако, как он сам повествует, его мало интересовали обычные студенческие развлечения: всему предпочитал он жизнь тихую и уединенную. Главным его желанием было завоевать пальму первенства в риторике и других науках[42 - PG 37, 1044 = 2.354.]. «Приобрести познания, которые собрали Восток и Запад и гордость Эллады – Афины» – такова была цель Григория[43 - PG 37, 1554 = 2.260.].
В Афинах Григорий приобрел не только обширные познания и риторическое мастерство. Главным приобретением этого периода стала для него дружба с Василием – светлый и счастливый опыт человеческого общения, который он ставил выше всех своих научных достижений. «…Ища познаний, обрел я счастье… испытав то же, что Саул, который в поисках ослов своего отца обрел царство (?????????)», – говорил Григорий по этому поводу[44 - Сл. 43, 14, 9-12; SC 384, 148 = 1.611. Ср. 3 Цар 9, 3. В тексте Григория игра слов между именем Василий и словом «царство» (????????).]. Григорий знал Василия и до того – их пути уже пересекались в Кесарии Каппадокийской – однако именно в Афинах их знакомство переросло в «дружбу», «единодушие» и «родство»[45 - Сл. 43, 14, 21-22; SC 384, 148 = 1.611.], о которых даже на склоне лет Григорий не мог вспоминать без душевного волнения.
Василий прибыл в Афины вскоре после Григория. По неписаной традиции, каждый новоприбывший должен был получить порцию издевательств и насмешек со стороны других студентов: это было своего рода испытание на прочность, которое казалось весьма трудным для тех, кто не был предупрежден заранее о существовании подобного обычая. В один из первых дней новоприбывшего вели в баню, осыпая по дороге насмешками; когда же он подходил к дверям, ему преграждали путь и не позволяли войти; все мероприятие сопровождалось неистовыми криками и плясками. Наконец толпа студентов вместе с новичком вламывалась в двери. Если он все это выдерживал, по выходе из бани его встречали как равного[46 - Сл. 43, 16, 9–28; SC 384, 152–154 = 1.613.]. Обряд посвящения в студенты завершался торжественным облачением новичка в малиновую мантию, которую обычно носили студенты-софисты[47 - Олимпиодор. Схолии к Григорию Назианзину; PG 36, 906 A.].
Григорий, вероятно, прошел через этот ритуал, когда поступил в академию: Василия ждала та же участь. Однако Григорий, узнав заранее о приезде Василия, не только сам встретил его как равного, но и убедил других студентов отнестись к нему с уважением, в результате чего Василий избежал обычной церемонии. «Таково начало нашей дружбы, отсюда первая искра нашего союза; так уязвились мы любовью друг к другу», – говорит Григорий[48 - Сл. 43, 17, 1–3; SC 384, 156 = 1.613.].
Связь между Василием и Григорием упрочилась после того, как группа студентов-армян, придя однажды к Василию, вызвала его на софистическое состязание, в которое вмешался Григорий. Сначала он встал на сторону армян, однако потом, поняв, что их истинным намерением является посрамление Василия, неожиданно «развернул корму» и поддержал последнего. Победа Василия, который «не прекратил поражать их силлогизмами до тех пор, пока совершенно не обратил их в бегство», стала победой обоих. «Этот второй случай, – пишет Григорий, – возжег в нас уже не искру, но светлый и высокий факел дружбы»[49 - Сл. 43, 17, 5–34; SC 384, 156–160 = 1.613–614.].
Григорий подчеркивает, что его взаимоотношения с Василием строились на чисто духовной основе: это была любовь не плотская, но целомудренная и духовная; это был союз двух людей, всецело преданных идеалам философской жизни и учености, влюбленных в Бога и стремящихся к нравственному совершенству. Страницы, которые Григорий посвятил своей дружбе с Василием, являются одним из самых ярких во всей патристической литературе описаний дружбы:
Когда по прошествии времени открыли мы друг другу свое желание (?????) и стремление посвятить жизнь философии, тогда уже стали мы друг для друга все – друзья, сотрапезники, родные; стремясь к одному и тому же, мы непрестанно возгревали друг в друге это желание, делая его все более пламенным и твердым. Ибо плотская любовь (??????)[50 - Букв. «влечения».], поскольку направлена на скоропреходящее, и сама скоро преходит, уподобляясь весенним цветам… А та любовь, что по Богу, и сама целомудренна, и объект ее – непреходящее, а потому она долговечна; и чем большая представляется красота имеющим такую любовь, тем крепче привязывает эта красота к себе и друг к другу влюбленных в одно и то же… Так относясь друг к другу и такими золотыми столпами подперев чертог добростенный, как говорит Пиндар[51 - Олимпийская ода 6, 1-3.], простирались мы вперед, имея сотрудниками Бога и свою любовь (?????). О, как перенесу без слез воспоминание об этом? Равные надежды руководили нами в деле самом завидном – в учебе; впрочем, зависть была далека от нас, ревность же делала еще более усердными. Оба мы боролись не за то, чтобы кому-либо из нас самому стать первым, но за то, чтобы уступить первенство другу, ибо каждый из нас славу друга считал своей собственной. Казалось, одна душа в обоих носит два тела; и хотя не следует верить утверждающим, что все разлито во всем[52 - Ссылка на пантеистическое мировоззрение.], однако нам нужно верить, что мы были один в другом и один возле другого. Одно занятие было у нас обоих – добродетель и жизнь для будущих надежд, отрешаясь от здешнего еще прежде исхода отсюда. Стремясь к этой цели, всю свою жизнь и деятельность направляли мы к ней, руководствуясь в этом заповедью и поощряя друг друга к добродетели; и если не дерзко для меня так выразиться, мы были друг для друга и правилом и отвесом, с помощью которых распознается, что прямо, а что – нет…[53 - Сл. 43, 19, 1–20, 19; SC 384, 162–166 = 1.615–616.]
В этих строках можно увидеть ностальгическую идеализацию юношеской дружбы, особенно если учесть, что написаны они много лет спустя, когда Василия уже не было в живых. Тем не менее нет никаких оснований не верить искренности Григория. Несомненно, он идеализировал как своего друга, так и само понятие дружбы. Очевидно также, что он был больше привязан к Василию, чем Василий – к нему. Отношения между Василием и Григорием строились на основе взаимной преданности друг другу и равенства в правах; в то же время Григорий всегда воспринимал Василия как старшего и главного. Это был тот случай, когда дружба в каком-то смысле перерастала в ученичество: «Мое дело – следовать за ним, словно тень за телом», – говорил Григорий[54 - Письмо 16 / Ed. Gallay, p.18 = 2.422.]. Он искренне считал Василия «в жизни, слове и нравственности превосходящим всех», кого он когда-либо знал[55 - Там же.].