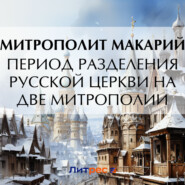По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
История христианства в России до равноапостольного князя Владимира
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В истории: 1) Из всех древних свидетельств нет ни одного, которое бы утверждало, что святые Кирилл и Мефодий перевели Священное Писание или церковные книги на наречие сербское, или словацкое, или моравское, или крайновиндское, между тем как жизнеописатель Климента, архиепископа Болгарского, живший в Х в., прямо говорит, что этот перевод сделан на язык болгарский, — свидетельство тем более важное, что жизнеописатель был учеником Климента, значит, жил при нем в самой Болгарии и, следовательно, мог безошибочно узнать или даже и сам судить о языке перевода солунских братьев. 2) Все прочие свидетельства, которые, по-видимому, неопределенно выражаются, что перевод сделан на язык славянский, могут быть объяснены по преимуществу в пользу наречия болгарского. Ибо известно, что в VIII и IX вв., во дни жизни Кирилла и Мефодия, равно как и впоследствии, страна, занимаемая тогда болгарами, носила два имени: Славинии, по древним своим обитателям, и Болгарии, по новым населенцам, и, следовательно, язык болгар безразлично мог называться и действительно назывался и болгарским, и славянским. Иоанн, экзарх Болгарский, переведший на свое отечественное наречие Богословие святого Иоанна Дамаскина, в предисловии к этому переводу несколько раз называет свой язык славянским и в то же время своим. А древний жизнеописатель Климента, епископа Болгарского, представляет пример еще разительнее, когда повествует: «Поелику народ славянский, или болгарский, не понимал Писания на греческом языке, то святые… молили Утешителя… ниспослать им способность к изобретению письмен, которые бы согласовались с грубостию болгарского языка; молитва их была услышана, и они, изобретши славянские буквы, перевели Богом дарованные Писания с греческого языка на болгарский». 3) И в последующее время между славянами господствовало мнение, что их Библия переведена на язык болгарский. «Сиа ж (Кирилл и Мефодий) преложиста въсе Божественное Писание греческих книг на словенскы язык на болгарскы», – сказано в одном древнеписьменном молитовнике, и, судя по языку, это свидетельство, кажется, справедливо может быть отнесено к XIII в. В XVI столетии (в 1591 г.) один протоиерей, переведши Евангелие на южно-русское, или малороссийское, наречие, говорит, что он сделал свой перевод с болгарского подлинника: так называет он язык церковнославянский. 4) Не без причины, конечно, святые Кирилл и Мефодий доныне живут в устах болгарского народа как болгарские книжники.
В филологии: 1) Язык нашей Библии и богослужебных книг имеет разительное сходство с тем, какой употреблялся в Болгарии в Х в., как можно видеть из переводов Иоанна, экзарха Болгарского. 2) Даже язык нынешних болгар, несмотря на все сторонние влияния, какие потерпел он в продолжение веков, довольно близок к нашему богослужебному языку и языку Священного Писания; в этом можно убедиться чрез сличение употребляемого нашею Церковию Евангелия с Евангелием, недавно переведенным на новый болгарский язык. 3) И не только в книжном, но и в разговорном языке настоящих болгар мы слышим еще слова и выражения древлеславянские, церковные и библейские; болгаре и ныне говорят: аз, семь, еси, есть, есмы, есте, суть, живот (вместо жизнь), град, злато, сынове, единонадесятый, дванадесятый и проч. 4) Буква юс, характеризующая собою древние церковнославянские рукописи, в живом произношении не встречается ныне ни у одного из славянских племен, кроме болгаров.
Причину же, почему святые Кирилл и Мефодий избрали для своего перевода наречие болгарское, а не какое-либо другое, можно искать частию в свойствах этого наречия: не было ли оно в то время образованнейшим из всех славянских наречий и потому способнейшим к выражению высоких истин христианства? А преимущественно – в самых переводчиках: солунские братья естественно могли избрать для своего перевода то наречие, какое сами лучше знали. Но в Солуни и ее окрестностях, равно как во всей Мизии и части Македонии, жили тогда болгаре, смешавшиеся с славянами, и господствующим языком был славяно-болгарский.
Впрочем, надобно заметить, что, принявши в основание своего перевода наречие болгарское, святые переводчики для лучшего выражения новых, высоких и разнообразнейших истин Откровения по необходимости должны были иногда пользоваться словами и других известных им славянских наречий (например моравского), а иногда, может быть, даже составлять новые слова на основании древних славянских корней; с другой же стороны, должны были прибегать нередко не только к терминам, но и к целым оборотам и формам языка греческого, как видно из самого перевода, если только это последнее не было невольным следствием их глубокого знания греческого языка. Таким образом, в переводе славянских апостолов простой язык народа болгарского возведен на некоторую степень искусственного развития, получивши вместе особый отлив от влияния языка греческого, и с тех пор соделался языком книжным и ученым, отличным от простонародных славянских наречий, находясь, впрочем, с ними повсюду, где употреблялся, в постоянном взаимодействии, подвергаясь их влиянию сам и имея на них собственное влияние. А употреблять и понимать этот перевод, кроме болгар, легко могли и все прочие славяне, потому что славянские наречия в то время, без сомнения, не имели еще между собою такой разности, в какой являются ныне, а известно, что даже ныне церковные книги нашей русской редакции и печати понятны еще для славян придунайских, сербов и болгаров.
III. Его последствия.
Следствия перевода Библии и церковных книг на славянский язык были величайшие и благотворнейшие как для славян вообще, так, в особенности, для русских.
Этот перевод имел самое сильное влияние на пробуждение духа народного в славянах и уяснение их народного самосознания. Здесь в первый раз услышали они звуки родного слова в речи стройной, облагороженной, возвышенной и в первый раз начали понимать, как богат, величествен и прекрасен язык их предков, в первый раз заглянули, так сказать, лицом к лицу в собственную душу и увидели все величие и крепость ее природных сил, для выражения которых служит такое могущественное слово. Вот главным образом, почему везде, куда только ни проникал перевод солунских братьев, славяне встречали его с восторгом, как что-то особенно родное и близкое их сердцу, как что-то такое, в чем впервые узрели они самих себя в самом лучшем виде. В то же время, будучи понятен для всех поколений славянских, этот перевод, распространяясь между ними, живее всего напоминал им о их кровном родстве и братстве, а предлагая им истины нового рождения от Бога благодатию Духа Святого, представлял лучшее средство для соединения их еще более крепкими узами родства духовного – во Христе Иисусе.
Этот перевод послужил важнейшею эпохою в истории образования славянского народа. Не будем отвергать, что славяне знакомы были и прежде, более или менее, с просвещением и образованностию, что некоторые из них были по временам знакомы даже с греческими науками и ученостию, но все это составляло лишь удел немногих, все это были как бы исключения из общего правила, а народные массы пребывали в крайнем невежестве и грубости, умы всех были окружены густейшим мраком древних языческих суеверий, были окованы вековыми предрассудками. И вдруг столь бедному, ничего почти не ведающему народу дается книга Божественного Откровения! Книга, которой самое назначение – рассеять мрак языческих заблуждений, освободить людей от вековых предрассудков и просветить всех самыми чистыми понятиями о Боге, мире и человеке, дается такая книга, а вместе с нею и многие другие, ее объясняющие, на языке понятном для всех и каждого! Можно судить, какой великий переворот должен был совершиться тогда в умах славянских поколений! Между тем как в других странах мира, где вера Христова была проповедуема на чуждом для народа языке, ее святые истины могли быть доступны в полной мере одним людям ученым, для славян сии неоцененные сокровища с первого раза соделались общим достоянием. Люди грамотные читали сами Слово Божие и книги церковные, а не умевшие читать с благоговением внимали тому, что было читаемо другими, и поучались или спешили в отверстые храмы и там в священных песнях, чтениях и молитвах изучали высочайшие догматы христианского богословия. Скажете ли, что все эти истины славяне усвояли себе верою, а не разумом? Но важно то, что усвояемы были действительно истины, которые, быв усвоены верою, необходимо уже являлись светом и для разума, прогоняя мрак облегавших его дотоле суеверий и на место их сообщая ему новые, животворные, хотя и непостижимые, понятия; важно то, что многие из сих небесных истин, удобопонятные для самого ума человеческого, естественно пробуждали в нем собственные силы, дотоле спавшие, порождали множество вопросов о великих предметах человеческого ведения, порождали и питали жажду истинного знания. Славяне почувствовали нужду в науках и просвещении вдруг же, как только услышали из уст своих первоучителей Слово Божие на своем родном языке. В Болгарии и Моравии основаны училища еще святыми Кириллом и Мефодием и, сколько позволяли обстоятельства, были поддерживаемы впоследствии. К концу IX в. и в начале Х у славян являются уже ученые мужи, которые не только переводят для своих соотечественников многие полезные и назидательные книги, но пишут даже собственные сочинения на отечественном языке. Народная письменность у славян зачинается прекрасною зарею в такое время, когда в других, ныне просвещеннейших странах Европы: Англии, Франции и Германии – и мысли о том еще не имели. Так-то много сделали святые братья солунские для самого славянского языка своим бесценным переводом, здесь приучили они славянскую речь к гибкости, правильности и благозвучию, соделали ее способною для выражения самых высоких мыслей, самого многообразного сочетания их между собою; здесь оставили они для последующих писателей славянских достойнейший образец, которому подражали целые века.
Но ощутительнее всего было влияние этого перевода на распространение христианской веры между славянами. Мы знаем, что некоторые славянские племена издревле обитали в соседстве с греками и римлянами, просвещенными христианством, что как те, так и другие не раз пытались сообщить святую веру этим дикарям, в числе других варваров, нападавших на всемирную империю, и что римские миссионеры по обычаю своему иногда употребляли для сего даже насилие и меч. И что же, какие были успехи? Самые слабые и почти незаметные. Славяне не понимали Евангельской проповеди, предлагаемой им на иноземном языке, и потому, естественно, не соглашались ее принять; а если и принимали, не могли ее надлежащим образом усвоить и, нося имя христиан, оставались, как и прежде, почти язычниками в своих верованиях и обрядах. Так проходили века за веками, и так прошли бы, без сомнения, новые века, если бы сами славяне, руководимые своим здравым смыслом, не вздумали, наконец, испросить себе у Византии учителей, которые бы возвестили им Евангелие понятною для них речью. Вот с этих пор все изменилось. Получивши перевод Библии и богослужебных книг на родном языке, славяне начали понимать святую веру, увидели все превосходство ее божественных истин пред своими грубыми суевериями и повсюду встречали ее с готовностию и любовию. Отселе, можно сказать, в несколько десятков лет она распространилась между ними гораздо более, нежели прежде в целые столетия. В одежде славянского слова она казалась всем чем-то своим и нечуждым, была принимаема с радостию и делалась необходимою стихиею славянской жизни.
Недолго продолжались все таковые следствия великого труда славянских апостолов между южными славянами – политические волнения, смуты и перевороты, посреди которых едва спаслось в тех странах самое имя славянское, не дали там раскрыться во всей силе и этим благодетельнейшим следствиям. Зато при других, более благоприятных обстоятельствах не переставали раскрываться они в иной стране, столько же славянской, куда вскоре проникли.
Обращаясь здесь к самим себе, можем прямо сказать, что славянский перевод священных книг, кроме общих действий, произведенных им между славянами, т. е. кроме пробуждения и в наших предках народного духа и самосознания, кроме влияния на их образование и распространение между ними христианства, произвел у нас еще особенные действия. Он предохранил нас от исламизма, предохранил и даже отвратил от папизма, привязал к вере православной и дал народу русскому самое святое, религиозное направление.
Известно, что в то время, когда едва возникало наше отечество, учение Магометово делало весьма быстрые успехи по юго-восточной нашей границе между волжскими болгарами, хазарами и буртасами, где в числе прочих племен принимали его и некоторые обитавшие там славяне. Возьмем теперь во внимание, что со всеми этими народами жители внутренних областей России находились тогда в тесных сношениях по азиатской торговле, которая наиболее производилась в Ателе, Булгарах и Буртасе; вспомним самое свойство религии Магометовой, которая, до крайности льстя чувственности человеческой, легко могла прельстить наших предков-язычников, как показал было опыт над самим Владимиром, еще избиравшим веру; вспомним весь фанатизм последователей лжепророка в распространении его учения и особенно то, что такими распространителями могли явиться в Россию из Волжской Болгарии природные славяне, и мы поймем, какая великая опасность угрожала тогда предкам нашим, а чрез них и всему их потомству. Но благодарение Господу, совещавшему о нас благое! В это самое время совершался и почти уже совершен был перевод священных книг святыми Кириллом и Мефодием; славяне отправляли уже богослужение на своем языке; радостная весть о сем, пробежавшая все славянские страны, достигла и России; к нам начали вскоре (как увидим в своем месте) приходить благовестники Христовы с понятною для нас речью и, конечно, приносить с собою славянские книги. Против таких средств внешних, кроме внутренней силы самого христианства, трудно уже было действовать исламизму – и вера Христова действительно восторжествовала над ним и мало-помалу начала озарять обширные страны России.
Здесь же по преимуществу, в этом переводе Слова Божия святых солунских братьев, в этом отправлении богослужения на славянском языке надобно искать главную причину и тому, что не имели у нас, особенно вначале, никакого успеха все попытки пап к распространению своего вероисповедания и власти. Римские миссионеры, приходившие в наше отечество, справедливо казались нам людьми чуждыми. Мы не понимали их образа речи, не понимали и их проповеди, хотя они и благовествовали нам о Христе. Как же могли мы последовать их внушениям, когда у нас в то же время слышалась уже своя проповедь – родная, понятная для всех? Какой выбор, какое сравнение! А когда сии миссионеры начинали еще предлагать отцам нашим, что при обращении к латинству нужно отказаться от славянской Библии и богослужения и на место их принять латинские, чего, кроме явной неприязни, могли ожидать от нас подобные учители?
Явившись к нам на славянском наречии, вера православная с первого раза пришлась сильно по сердцу русскому. Она привязала нас к себе двоякими узами: и внутренним своим достоинством – своими духовными благами и сладостнейшими обетованиями человеку, и внешнею своею одеждою или тем глаголом, которым к нам вещала. Тем более возлюбили ее предки наши, что священные книги ее были первыми и почти единственными их книгами в продолжение многих столетий. Здесь заключалась вся та мудрость, которою питались умы и сердца целых наших родов и поколений. При руководстве этих книг научались они мыслить, научались смотреть на мир, на самих себя и на все обстоятельства своей жизни; к этим книгам обращались они в минуты радостей и благочестивых восторгов, к ним же спешили они за утешениями в годины бед и печалей. И естественно и незаметно воспитывалось и крепло благочестивое направление в умах и сердцах русских: в семействах, родах и целых поколениях, переходя как бы по наследству от отцов к детям; естественно срасталось оно с самою душою нашею и становилось в ней как бы прирожденным и неискоренимым.
Словом, история нашей Церкви и даже всего нашего отечества имела бы совсем другой вид, если бы при самом основании их не был совершен и не был введен в Россию славянский перевод священных книг христианских. Но Промыслу угодно было, чтобы все эти три события стеклись именно вместе, чтобы в то самое время, как только возникло царство Русское, как только окончен был и еще не вполне окончен перевод библейских и богослужебных книг на славянский язык, чтобы в это самое время были положены и первые основы христианства в царстве Русском.
Глава II. Начатки христианства в царстве Русском со времени основания его от великой княгини Ольги.
Известно, как основалось наше отечество. Первый камень ему положен был в России северной, преимущественно в Новгороде; другой – в то же время в России южной, в Киеве. Здесь первыми князьями являются три брата варяго-русса: Рюрик, Синеус и Трувор, по приглашению; там также два мужа варяго-русса: Аскольд и Дир, по праву завоевания. Высокий жребий выпал на долю первым – от них началась Русская держава, и старший из них, Рюрик, соделался родоначальником русских князей на несколько веков. Не менее высокий жребий достался и последним – от них началось в России христианство.
I. Крещение руссов при Аскольде и Дире.
Это первое крещение руссов со всеми его обстоятельствами описывают более десяти византийцев, которых, впрочем, можно разделить на три класса: одни из них говорят только о начале события; другие упоминают вместе и о продолжении события; третьи, наконец, или вовсе умалчивая о начале, а только его предполагая или упоминая об нем весьма кратко, довольно обстоятельно изображают самое совершение и окончание события.
«В царствование греческого императора Михаила III, – так начинают свой рассказ первые, – в то время когда император отправился с войском против агарян, у стен Константинополя явились на двухстах ладиях новые враги империи, скифский народ руссы. С необычайною жестокостию опустошили они всю окрестную страну, ограбили соседственные острова и обители, убивали всех до одного пленников и привели в трепет жителей столицы. Получивши столь горестную весть от Цареградского епарха, император бросил войско и поспешил к осажденным. С трудом пробился он сквозь неприятельские суда в свою столицу и здесь первым долгом счел для себя прибегнуть с молитвою к Богу. Целую ночь молился Михаил вместе с патриархом Фотием и бесчисленным множеством народа в знаменитой Влахернской церкви, где хранилась тогда чудотворная риза Богоматери. Наутро при пении священных гимнов изнесена была эта чудодейственная риза на берег моря, и едва только она коснулась поверхности воды, вдруг море, дотоле тихое и спокойное, покрылось величайшею бурею; суда безбожных руссов были рассеяны ветром, опрокинуты или разбиты о берег; весьма малое число избежало погибели».
«Испытавши таким образом гнев Божий, по молитвам управлявшего в то время Церковию Фотия, – продолжают другие греческие писатели, – руссы возвратились в отечество и спустя немного прислали послов в Константинополь просить себе крещения. Их желание было исполнено – к ним послан был епископ».
«Когда этот епископ прибыл в столицу руссов, – повествуют, наконец, третьи, – царь руссов поспешил собрать вече. Тут присутствовало великое множество простого народа, а председательствовал сам царь со своими вельможами и сенаторами, которые по долгой привычке к язычеству более других были к нему привержены. Начали рассуждать о вере своей и христианской; пригласили архипастыря и спросили его, чему он намерен учить их. Епископ разверз Евангелие и стал благовествовать пред ними о Спасителе и Его чудесах, упоминая вместе о многоразличных знамениях, совершенных Богом в Ветхом Завете. Руссы, слушая благовестника, сказали ему: „Если и мы не увидим чего-либо подобного, особенно подобного тому, что, по словам твоим, случилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить“. Не поколебался служитель Божий, но, вспомнивши слова Христовы: Аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю (Ин. 14, 14); веруяй в Мя, дела, яже Аэ творю, и той сотворит (Ин. 14, 12), разумеется, в том случае, когда это просится не для тщеславия, а для спасения душ, смело отвечал язычникам: «Хотя и не должно искушать Господа, однако, если вы искренно решились обратиться к Нему, просите, чего желаете, и Он все исполнит по вашей вере, как мы ни ничтожны пред Его величием». Они просили, чтобы повергнута была в огонь, нарочито разведенный, самая книга Евангелия, давая обет непременно обратиться к христианскому Богу, если она останется в огне невредимою. Тогда епископ, возведши очи и руки свои горе, воззвал велегласно: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Прослави и ныне святое имя Твое пред очию сего народа», – и вверг священную книгу Завета в пылающий костер. Прошло несколько часов, огонь потребил весь материал, и на пепелище оказалось Евангелие совершенно целое и неповрежденное; сохранились даже ленты, которыми оно было застегнуто. Видя это, варвары, пораженные величием чуда, немедленно начали креститься».
Вот в немногих словах все, что сохранили нам греческие писатели о первом обращении наших предков по основании нашего отечества. Что же скажем мы со своей стороны, выслушавши эти древние свидетельства?
Прежде всего, что самая сущность события и главнейшие его черты изображены здесь как нельзя более ясно и определенно, изображены так, что не остается никакого места сомнению в их подлинности. Достоверно, во-первых, то, что руссы в царствование греческого императора Михаила III (842–867) нападали на Византию, когда об этом говорят двенадцать византийцев и между ними два современника. Достоверно, во-вторых, чудесное поражение этих руссов у стен Византии, которое также подтверждается восемью греческими писателями и одним современником или, справедливее, подтверждается всеми, какие только не мимоходом, а нарочито описали судьбу сего похода. Но, что ближе к нашей цели, не должно подлежать ни малейшему сомнению последовавшее за тем крещение наших предков, когда и в этом уверяют нас семь свидетелей, из которых один был не только современником события (Фотий), но и главнейшим в нем действователем. То же самое, наконец, следует повторить и касательно чуда, которое совершил греческий архипастырь пред глазами наших предков и которое привлекло их к святой вере – об нем упоминают все византийцы, подробно описавшие обращение руссов, а не мимоходом, хотя их числом только пять, и во главе их император Константин Багрянородный, который родился в начале Х в., писал чрез шестьдесят или семьдесят лет после крещения руссов и мог в собственном семействе найти достовернейшие сведения о происшествии, случившемся, по словам его, в царствование и при непосредственном участии его деда – императора Василия Македонянина.
Зато о некоторых других сторонах этого происшествия мы уже не найдем подобной ясности и определенности в показаниях греческих писателей; напротив, тут встречают нас или недомолвки, или даже разноречия, которые справедливо подавали и могут подавать повод к разным недоумениям и вопросам.
Таков первый вопрос: точно ли эти руссы, нападавшие на Константинополь и вскоре затем крестившиеся, были наши руссы, а не какие-либо другие, когда византийцы не только не называют их киевскими, а называют именами общими для многих варварских народов – скифами и тавроскифами, и, следовательно, по праву ли мы думаем усвоить себе то, что, быть может, нам вовсе не принадлежит? Вопрос тем более важный, что, как известно, один знаменитый ученый силился разрешить его не в нашу пользу. Впрочем, все мысли этого ученого давно уже опровергнуты, и нам остается только повторить здесь вкратце готовые опровержения, с некоторыми своими замечаниями. Византийцы, точно, не говорят прямо, чтобы руссы, приходившие в царствование Михаила на Царьград и потом принявшие крещение, приходили именно из Киева, и называют их скифами и тавроскифами, но зато ясно свидетельствуют, что скифы эти приходили по Евксинскому Понту с севера от горы Тавра и были народ воинственный, победоносный, давно известный, а этого уже и довольно. На север от Греции вокруг Понта Евксинского никаких руссов, отличных от руссов киевских, никогда не было известно; об особенном народе – руссах черноморских, которые бы обитали или у Кавказа, или у Азовского моря, или в Тавриде, или между устьями Днепра и Дуная, не упоминает ни один писатель того времени. Откуда ж бы взялись и где девались потом эти храбрые витязи, нападавшие на самую столицу греческую, если бы то были не руссы киевские? Народы не падают с неба, – говорит наш знаменитый историограф, – и не скрываются в землю, как мертвецы по сказкам суеверия. Новое важное замечание: до шести греческих летописцев, упоминающих о нападении руссов на Царьград при Михаиле, описывают и другой поход руссов, приходивших, по словам их, из Киева при великом князе Игоре. Что же? Между теми и другими руссами они не делают ни малейшего различия, тех и других называют одними именами и, очевидно, считают за один народ, который с начала Х в. был уже весьма известен в Константинопсе, где многие руссы киевские служили тогда во флоте. Должно присовокупить, что скифами, таврами, тавроскифами византийцы называли не только руссов Аскольдовых и Игоревых, но и Святославовых, и Владимировых, ведя их также из Киммерийского Боспора; продолжали даже называть руссов тринадцатого и четырнадцатого века, ставя в Скифии самый Киев и называя его иногда скифскою столицею. Невероятным казалось, чтобы Аскольд и Дир, едва утвердясь в Киеве, могли собрать многочисленное войско и идти на самый Константинополь. Но войско их отнюдь не было многочисленно: на двухстах ладиях едва ли могли поместиться около осьми, а много-много десяти тысяч человек. Подобная дружина легко могла составиться из одних киевлян и тех варягов, которые вслед за Аскольдом и Диром пришли к ним из Новгорода, если бы даже и не было справедливо, что первые князья киевские успели уже до похода в Грецию покорить себе некоторые соседственные племена славянские, древлян и угличей. И не без причины, конечно, древнейший наш летописец приписывает этот поход руссов прямо Аскольду и Диру. Он мог узнать о сем из устного предания: в Киеве при жизни преподобного Нестора еще известны были самые могилы Аскольда и Дира. Или не позаимствовал ли наш летописец эти имена из той самой болгарской рукописи Хронографа Амартолова, откуда, как заметили мы, переписал он в свою летопись все сказание о походе? По крайней мере, в списке сей рукописи, сделанном в 1386 г., и сделанном не в России, а в сербском афонском монастыре Хиландаре, стоят имена Аскольда и Дира. Не допустивши, что нападение руссов на Византию, бывшее во время княжения в Киеве Аскольда и Дира и окончившееся, по свидетельству Багрянородного, заключением союза между русскими и греками, принадлежит нашим руссам, мы не поймем, о какой же это приязни и любви, от многих лет существовавшей между христианы и руссы, могли говорить послы Олеговы при заключении нового договора с византийцами в 911 г., когда, кроме мирного договора у греков с руссами Аскольдова времени, прежде 911 г. нет никакого известия. Греческие историки, между прочим, замечают, что, как только прибыл к руссам епископ для проповедания им Евангелия, царь руссов созвал совет (вече), на котором присутствовали его бояре и бесчисленное множество народа и долго рассуждали между собою о перемене веры. Не указывает ли одна эта черта прямо на наших предков? Не так ли точно совещался потом со своими боярами и народом о перемене веры и великий князь Владимир? Не так ли обыкновенно решались тогда у нас и все дела великой важности? Два южнославянских древних писателя, может быть, на основании своих домашних, достовернейших преданий относят это крещение руссов, бывшее, по словам их, при греческом императоре Василии, непосредственно к нашим руссам киевским, а изображение этого крещения, составленное в XIV в. в Болгарии, ясно указывает на самую местность Киева.
Разрешивши одно недоумение, перейдем к другому. Ни один из греческих писателей не определяет, в каком именно году последовало первое крещение наших предков; нельзя ли определить этого хоть приблизительно? Можно. По словам Симеона Логофета, или вернее его Сократигеля, нападение руссов на Константинополь случилось с 864 на 865 г., т.е. в последних числах первого и начале последнего, а из других свидетельств мы знаем, что руссы прислали в Грецию послов просить крещения уже немного спустя по возвращении в отечество после неудачного своего похода, и потом эти послы отправились обратно в Киев с епископом, который и крестил киевлян. Взявши во внимание количество времени, употребленное руссами на возвращение из несчастного похода, еще небольшое количество, проведенное ими в отечестве по возвращении до отправления послов в Византию, далее – время, употребленное послами на поездку туда и обратно, мы должны согласиться, что крещение никак не могло совершиться прежде 866 г. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы оно случилось и после. Патриарх Фотий в окружном своем послании к восточным патриархам об отступлениях Церкви Римской говорит между прочим: «Россы… недавно еще бывшие нашими врагами, ныне (??? ??? ????) соделались христианами и приняли себе епископа…» – и, таким образом, очевидно, представляет это событие весьма близким к тому времени, когда он писал самое послание. А оно писано в конце 866 или даже в начале 867 г., потому что Фотий приглашает в нем других патриархов на Собор для рассмотрения многих нововведений Римской Церкви и упоминает притом, что некоторые пастыри уже прибыли на Собор, другие же ожидаются в скором времени. Но созвать этот Собор, по словам Никиты Пафлагонянина, Фотий убедил императора Михаила уже после того, как в соправители Михаилу избран был Василий Македонянин, т. е. после 26 мая 866 г., и самый Собор был в присутствии обоих императоров, следовательно, прежде 23 сентября 867 г., когда скончался Михаил. Можно даже полагать, что обращение наших руссов совершилось собственно в последней половине 866 г., после 26 мая, или после избрания в соимператоры Михаилу Василия Македонянина. К такому заключению ведут частик) представленные слова святейшего Фотия: «Россы, еще недавно бывшие нашими врагами, ныне соделались христианами», а еще более то, что некоторые византийские и южнославянские писатели не без основания же относят обращение руссов к царствованию Василия.
Но не о другом ли уже крещении руссов говорят эти писатели, тем более что один из них, Константин Багрянородный упоминает об архиепископе, который послан был в Киев не от Фотия, а от Игнатия и крестил жителей русской столицы? И не два ли было тогда крещения наших предков – одно при Михаиле и Фотии, а другое при Василии и Игнатии, как казалось некоторым? Нет, такого предположения доказать нельзя. Поход руссов на Византию в то время решительно был один, все упоминающие об нем относят его к царствованию Михаила, а о другом подобном походе в царствование Василия не говорит никто. Крещение также одно – стоит только сличить разные свидетельства об нем греческих писателей.
На чем одни из них останавливаются в своем повествовании, с того другие продолжают: неизвестный, написавший по приказанию Багрянородного хронику до царствования императора Василия, говорит только, что руссы спустя немного после несчастного своего похода на Царьград при императоре Михаиле прислали в Грецию послов просить крещения, которое и получили, а сам Багрянородный, описавший жизнь Василия, вовсе не упоминая о походе, прямо начинает речь свою тем, что с русскими послами Василий заключил мир и отправил в Россию архипастыря. Точно так же Кедрин при описании царствования Михайлова упоминает о походе руссов и затем о русских послах, прибывших просить крещения, а при описании дел Василиевых говорит только, что с этими послами Василий заключил мир и послал в Россию епископа. Наконец, Зонара нападение руссов изобразил в истории императора Михаила, вовсе не упоминая здесь даже о их желании креститься, самое же крещение их – в истории императора Василия, не упоминая о походе. Странным может показаться только то, почему же некоторые из этих греческих писателей, равно как и некоторые южнославянские, не относят крещения наших предков ко времени обоих императоров – Михаила и Василия, если оно точно случилось в их соцарствие, а приписывают лишь одному Василию. Но и это понять нетрудно: известно, что, с тех пор как Василий сделался соправителем Михаилу, последний носил только титул императора, а настоящим государем, управлявшим всеми делами империи, был Василий. Это очень хорошо знали и греки, и южные славяне, которым император Василий Македонянин был единоплеменник.
Как же после сего примирить еще то несогласие, что патриарх Фотий усвояет себе посольство к руссам епископа, а Багрянородный – Игнатию? Фотий был современник и главный участник в событии – мог ли он не знать его со всеми подробностями? Фотий говорит об нем в окружном послании своем к восточным патриархам и, следовательно, говорит пред всею Церковию – мог ли он позволить себе неправду? Сам враг Фотия, папа Николай, старавшийся в одном из писем своих опровергнуть все слова этого послания, отнюдь не обличает Фотия, чтобы он несправедливо усвоял себе обращение руссов. И заметим, Фотий говорит решительно, что руссы не желают только принять, но уже приняли и епископа, и пастыря, и христианское богослужение. А Багрянородный? Он писал жизнь деда своего, императора Василия, спустя 60 или 70 лет после – трудно ли ему было несколько смешать подробности события и имя патриарха Игнатия поставить на место имени Фотия? Узнавши, что обращение руссов последовало в самом начале воцарения Василия, когда, собственно, он был только соправителем Михаилу, и также то, что вскоре по воцарении Василия Фотий низведен был с престола и на место его возведен Игнатий, Багрянородный очень естественно мог опустить из внимания небольшой промежуток времени и приписать патриарху Василиева царствования то, что принадлежит, в строгом смысле, патриарху царствования Михайлова. Эта ошибка Багрянородного представится нам несомненною, когда возьмем во внимание следующее обстоятельство. Все четыре последующие летописца: Кедрин, Скилица, Зонара и Глика, которые только описывают, как совершилось обращение руссов, заимствуют это сказание почти слово в слово у Константина Багрянородного. Подобно ему они относят крещение руссов к царствованию Василия, упоминают о посланном к ним епископе, о чуде, совершенном епископом для убеждения язычников по их настоянию. И между тем, никто из этих четырех писателей не повторяет, чтобы епископ послан был в Россию от Игнатия. Отчего же, соглашаясь во всем, только в одном они не согласились с Константином? Без сомнения, оттого, что имели достаточное основание не согласиться: они, вероятно, знали истину из другого источника, может быть, читали самое окружное послание Фотиево, которое Константину почему-либо было неизвестно. Обратимся ли к отечественным нашим преданиям – мы найдем здесь новое подкрепление для своей мысли. В продолжение многих веков у нас всеми единодушно была повторяема весть, что в первый раз Русь крестилась при патриархе Фотии и что от Фотия прислан был к нам первый епископ. Мало того, имя Фотия как первого насадителя святой веры в нашем отечестве до того врезалось в памяти русского народа, что даже все последующие крещения, бывшие при святой Ольге и святом Владимире, обыкновенно были приписываемы у нас, разумеется по ошибке, тому же самому Фотию. Нельзя ли, однако ж, допустить, что Багрянородный говорит не о первом, а уже о втором архипастыре, присланном к нам в то время, и таким образом примирить разноречие? Известно, что Игнатий по восшествии своем на патриарший престол отрешил всех епископов, рукоположенных Фотием, и на места их поставил своих. Неудивительно, если и в Россию послал он тогда своего епископа вместо Фотиева, требуя последнего обратно в Грецию. И не с этою ли-то целию, как пишет Багрянородный, император Василий отправлял к руссам богатые дары, чтобы расположить их к принятию нового архипастыря, хиротонисованного Игнатием, на место прежнего? Но подобного объяснения не допускает вся последующая речь Багрянородного, которая ясно гласит, что до приезда первосвятителя, посланного Игнатием, руссы были еще народ совершенно безбожный, что сей-то архипастырь совершил пред ними чудо несгораемого Евангелия и что теперь только они в первый раз начали обращаться. Достойно замечания, почему писатели Римской Церкви, несмотря на все это, усильно стараются доказать, будто первые семена христианства насадил у нас не Фотий, а Игнатий. На этом они построяют свою любимую мысль, что в Россию с самого начала введено не греческое православное исповедание, а исповедание римское. Но откуда известно, что патриарх Игнатий разделял те нововведения Римской Церкви, которые так справедливо обличал Фотий и уже обличил целый Собор Церкви Восточной? Из одного мирного отношения Игнатия к папе? Да отсюда следовало бы, что и сам Фотий разделял обличенные им римские нововведения, потому что и Фотий имел впоследствии мирные отношения к папе Николаю. Нет, в Царьграде и на всем Востоке не было этих нововведений до Игнатия; иначе Фотий не мог бы и вменить их одной Церкви Римской, а сам Игнатий, если бы и захотел, не мог уже ввести их после осудившего их в 867 г. Собора, который в то время многие на Востоке называли вселенским. Не такими нечистыми побуждениями должен водиться историк при изыскании исторической истины. И если мы говорим, что именно Фотий, а не Игнатий первый насадил у нас христианскую веру, то потому только, что нас удостоверяют в том несомненные свидетельства. А пусть нам основательно докажут, что точно Игнатий прислал к нам первого епископа, а не Фотий; мы с такою же охотою и убеждением примем и это известие, тем более что патриарха Игнатия мы чтим со всею православною Церковию не только как пастыря правоверного, но и как святого.
Сказавши, что по прибытии в Киев епископа руссы держали совет, на котором присутствовали сам князь, вельможи и бесчисленное множество народа, и что, узревши совершенное епископом чудо, они немедленно начали креститься, византийцы не определяют, крестился ли тогда русский князь или, точнее, оба князя. Но могло ли это быть иначе? Аскольд и Дир были сами очевидцами чудесной бури у стен Константинополя, которая возбудила в них мысль о величии Бога христианского и первое желание креститься. От них потом зависело по возвращении в отечество отправить посольство в Константинополь и просить христианского наставника; это показывает уже, что желание креститься было в них очень твердо. В противном случае, что могло бы расположить их к такому предприятию? Когда прибыл в Киев епископ, Аскольд и Дир сами приказали созвать вече, сами присутствовали на нем и, подобно другим, видели чудо несгоревшего Евангелия – кому же прежде всего, как не им, естественно было и последовать гласу Евангелия? Они были главными действователями во всем и, очевидно, с искренним усердием искали истины, без которого ничто не могло бы заставить их действовать – как же они могли отказаться от нее, когда она открыла себя их взору? И если бы они не крестились, то, можно сказать, и никто бы в Киеве не крестился. Народ и вельможи не решились бы открыто на такое предприятие без примера князей из одного уже страха. Как на более прямое доказательство крещения Аскольдова справедливо указывают на то, что первые наши христиане над могилою сего князя имели церковь святого Николая, быть не может, чтобы они согласились построить христианский храм над могилою язычника. Вероятна и та догадка, что Аскольд в крещении назван был Николаем, потому что у нас, точно, существовал обычай созидать церкви над могилами князей в честь святых, им соименных. Слова летописи Иоакимовой, называющей Аскольда блаженным, могут служить новым доказательством его крещения для признающих подлинность этой летописи.
Не оставили нам византийские писатели почти никаких сведений и о епископе, крестившем наших предков. В наших домашних известиях он постоянно называется Михаилом. Откуда заимствовано это имя? Оно встречается не только в сочинениях или изданиях позднейшего времени, как то: в печатной Кормчей книге, в предисловии к Киево-Печерскому Патерику и в Чети-Минеи (июля 15), но, по словам одного историка, имевшего у себя много древнейших рукописей, оставшихся для нас неизвестными, оно встречается и в некоторых древних русских списках, находится также в летописи Иоакимовой. Что ж думать о его происхождении? Не перешло ли это имя в наши древние рукописи из устного предания, сохранявшегося целые века, или из хроники какого-либо летописца греческого или болгарского, еще неизвестного нам, как долго оставался неизвестным болгарский список хроники Амартоловой, который один только и упоминает об именах Аскольда и Дира при описании нападения руссов на Константинополь в царствование Михаила? По крайней мере, отвергать помянутые свидетельства о нашем первом епископе мы не имеем никакого основания. Нельзя поверить Багрянородному, чтобы это был не простой епископ, а архиепископ, епископом называет его сам патриарх Фотий, который отправил его к нам, только епископом или общим именем архиерея назвали его и все последующие писатели, видимо заимствовавшие у Багрянородного все сказание об обращении руссов и, однако ж, не хотевшие согласиться с ним в настоящем случае, как не согласились они с ним и в том, чтобы этот иерарх послан был от Игнатия. Да и на что было присылать в Россию архиепископа, когда здесь только еще основывалась Церковь и, конечно, не могло же явиться вдруг несколько епархий, которые бы надлежало подчинить столь высокому саном иерарху. Родом этот архипастырь, равно как и присланный с ним пресвитер, упоминаемый Фотием, а может быть, и другие, вскоре пришедшие к ним на помощь, могли быть из славян. Простое благоразумие требовало избрать на проповедь руссам таких людей, которые были бы способны беседовать с язычниками понятною для них речью, а в Византийской империи, где немало уже было славян-христиан, найти подобных людей было очень легко. Вероятность сего предположения увеличивается, когда вспомним, что почти в то же время или незадолго пред тем к другому славянскому племени, моравам, посланы были из Константинополя проповедники, искусные в языке славянском, если даже не природные славяне; еще более увеличивается, когда обратим внимание на два свидетельства, представляющие тогдашнее обращение наших предков к христианству в связи с обращением славян подунайских. Польский историк Стредовский передает нам одно древнее сказание, что святые Кирилл и Мефодий, занимаясь сами обращением болгар и моравов, посылали от себя к другим окрестным славянам миссионеров и что при этом в Россию отправлен был некто Наврок, – сказание совершенно правдоподобное и само по себе, и вместе потому, что истинность его начинают подкреплять некоторые новейшие исследования. Для нашей цели в нем замечательно особенно то, что время отправления к нам Наврока резко совпадает со временем обращения наших предков, когда, как говорит Фотий, приняли они (не определяя откуда: непосредственно ли из Царьграда или посредственно от моравских апостолов по повелению Константинопольского патриарха) епископа и пресвитера (???????) и все христианские обряды. Совпадает, говорим, потому что посольство Наврока приписывается не одному Мефодию, а обоим братьям и, следовательно, должно было случиться до 867 г., т.е. до отправления их в Рим, где, как известно, святой Кирилл скончался. Другое подобного рода сказание представляет нам отрывок, найденный в одной греческой рукописи, в котором, хотя сначала смешиваются обстоятельства двух крещений, Аскольдова и Владимирова, однако вся речь исключительно направлена к изображению первого: ясно говорится, что это крещение случилось при императоре Василии Македонянине, отправившем к нам епископа, и потом описывается, как присланный епископ совершил у нас чудо, ввергши в огонь Евангелие, которое не сгорело, как подействовало чудо на предков наших и как они начали креститься. Вместе с епископом, говорит неизвестный составитель отрывка, присланы были к руссам два знаменитые мужа, Кирилл и Афанасий, которые, видя, что руссы не понимают греческого алфавита, и опасаясь, чтобы за неумением писать и читать они вскоре не отпали от веры, начертали для них тридцать пять букв, которые называются: аз, буки, веди и проч. и при пособии которых руссы доселе остаются непоколебимы в познании христианской веры. Охотно соглашаемся, что в этом отрывке, может быть составленном преимущественно на основании устных преданий, многие подробности дела и самые имена миссионеров как-нибудь искажены; но важна для нас, собственно, основная мысль, здесь выражаемая, – мысль о введении к нам при самом начале у нас христианства славянской азбуки, а чрез нее и славянского богослужения. Естественность и, скажем более, необходимость сего вытекает из тогдашних обстоятельств: в Болгарии и Моравии уже около четырех лет пели богослужение по-славянски и существовали школы для приготовления из природных славян пастырей Церкви; с восторгом, как замечает наш летописец, слушали славяне величие дел Божиих на своем языке, и весть об этом успела пронестись между всеми их соплеменниками. Возможно ли, чтобы наши послы, ходившие в Царьград просить крещения и на пути своем необходимо касавшиеся пределов Болгарии, не испросили себе в Царьграде и того, что сами слышали во время путешествия у своих собратий и чего просить было им так уместно и естественно? Возможно ли, чтобы и епископ, был ли он отправлен к нам из самого Константинополя или от моравских апостолов, проходя страну славян подунайских, не пригласил с собою чтецов и певцов славянских для надежнейшего успеха в своем предприятии? Не забудем также, что в то время, когда был отправлен к нам епископ, соимператором Михаилу, или лучше – настоящим императором, был Василий Македонянин, природный славянин, – мог ли он не позаботиться, чтобы к соплеменникам его отправлены были учители веры, знакомые с языком славянским? Недаром же патриарх Фотий заметил, что руссы христианское богослужение с великим усердием и тщанием прияли, весть об этом он, конечно, успел уже получить от посланных к нам проповедников. Чем же объяснить такое усердие наших предков к богослужению с первого раза, если не тем, что они услышали его на родном языке, чем особенно привлекало оно к себе славян повсюду? Богослужения на греческом языке руссы, без сомнения, не поняли бы, а не понимая, могли ли они принять его с великим усердием и тщанием?
II. Последующая судьба христианства в России до обращения великой княгини Ольги.
Аскольд и Дир после принятия ими святой веры жили еще и управляли Киевом около пятнадцати лет. В такой период под их покровительством она могла довольно утвердиться и распространиться не только в Киеве, но и в окрестностях Киева трудами епископа и пастыря, которых приняли киевские руссы от патриарха, и при содействии, может быть, других проповедников, приходивших из Греции или Болгарии. Но по смерти Аскольда и Дира, которые скончались (в 882 г.), может быть, как мученики за святую веру, в Киеве воцарился язычник Олег. И во все время его княжения (882–912) мы не знаем ничего о состоянии христианства в России, не можем сказать: искоренилось ли оно тогда у нас совершенно или продолжало существовать и даже распространяться. Правда, при договоре Олега с греками в 911 г. в числе послов русских не видно ни одного христианина, и как сам Олег, так и мужи его для подтверждения условий договора клянутся оружием своим и языческими богами – Перуном и Волосом. Но отсюда не следует, будто и между всеми подданными Олега не было уже христиан. Веру Христову, проповедующую смирение и самоотвержение, у нас, как и везде, приняли вначале преимущественно жители мирные, и в царствование князя-язычника по простому благоразумию они могли содержать ее в тишине и даже сокровенно. А что до воинов, составлявших дружину и свиту княжескую, которые большею частик) были из варягов, то неудивительно, если они оставались нерасположенными к вере, которая явно противоречила их отличительным склонностям и привычкам; это ясно видно из последующей истории великого князя Святослава. Правда также, что в статьях договора, заключенного Олегом с греками, не упоминается о христианах и вообще между всеми руссами, напротив, русин прямо противополагается христианину, т. е. греку. Но это значит только, что греки у нас известны были тогда под именем христиан, а вовсе не то, чтобы между самыми руссами христиан не было. Посему-то такое же точно противоположение русина христианину встречается и в договоре Игоревом с греками, когда, как увидим, у нас несомненно уже многие исповедовали святую веру. С другой стороны, известно, что в уставе императора Льва Премудрого (886–912), который был современником нашему князю Олегу, в числе митрополий, подвластных Цареградскому патриарху, упоминается уже на 60 месте митрополия Русская. Но должно сознаться, что она упоминается не во всех списках устава, а только в некоторых, и есть основание думать, что она внесена в некоторые списки этого устава в позднейшее время. А потому несправедливо было бы заключать, будто во дни Олега число христиан у нас увеличилось, так что они составляли особую епархию.
Во дни же преемника Олегова Игоря (912–945) святая вера уже несомненно у нас распространялась. И прежде, еще со времен Аскольдова договора с греками была постоянная связь между греками и нашими предками, так что многие из руссов киевских служили в греческом флоте. Но после договора Олегова, с воцарения Игоря эта связь усилилась: из России ходили в Константинополь целые торговые караваны по Днепру и Черному морю, гости русские оставались жить в Константинополе по нескольку месяцев сряду у монастыря святого Мамы, другие руссы сотнями нанимались в службу греческого императора и провождали в Греции почти всю свою жизнь. Греки, без сомнения, не упускали при этом случая знакомить наших предков со своею верою, как поступили они еще с послами Олеговыми по заключении мира. Между греческими императорами и русскими князьями существовали даже письменные сношения, которые могли служить новым поводом для их подданных к теснейшему сближению в самых понятиях религиозных. Многие руссы, служившие при греческом дворе, действительно принимали там святую веру, и некоторые из них, хотя по временам, возвращаясь в отечество, могли приносить ее и сообщать своим ближним и сродникам. Как бы то ни было, только к концу царствования Игоря, при новом договоре нашем с греками в 944 г. жители России в статьях договора разделяются уже на крещеных и некрещеных, и крещеные везде поставляются даже на первом месте – до такой степени успело возрасти число христиан в нашем отечестве! И летописец, повествуя о присяге великокняжеской дружины по случаю сего договора, замечает, что мнози из самих варягов, обитавших в Киеве, были уже христиане. Еще более: в том же самом месте летописи говорится о киевской церкви святого Илии, где давала присягу христианская Русь, и эта церковь называется соборною. Такое имя заставляет допустить, что в Киеве были тогда и другие церкви, между которыми церковь святого Илии считалась главною, или соборною, предположение, которое, кажется, достаточно подтверждается последующею историею. Дитмар, современник святого Владимира, свидетельствует, что в его время существовало в Киеве более четырехсот храмов, – когда же успели они возникнуть в таком изумительном количестве? Ужели в продолжение каких-нибудь десяти или пятнадцати лет со времени обращения Владимира? Естественнее думать, что они возникали мало-помалу со времен еще Аскольда и Дира или, по крайней мере, Игоря. Существование же храмов и христиан необходимо предполагает существование священнослужителей. Правда, в древнейшей нашей летописи не упоминается ни о каких пастырях у нас до великой княгини Ольги. Но известно, что преподобный Нестор о первых временах нашей истории говорит вообще чрезвычайно кратко и потому нередко умалчивает о таких событиях, которые несомненно были, каково, например, крещение руссов при Аскольде и Дире. Мало того, мы знаем, что преподобный летописец ни слова не сказал и о трех первых наших митрополитах Владимирова княжения, которые были к нему по времени очень близки, ужели ж следует посему усомниться в самом их существовании? Тем неосновательнее заключать из одного только молчания Нестора о событиях, бывших еще до великой княгини Ольги, будто этих событий вовсе не было. Довольно и того одного, если в краткой своей летописи он упомянул, хотя мимоходом, что были тогда в Киеве церкви, между которыми церковь святого Илии считалась соборною: не сказал ли уже он этим, что у нас были тогда и пастыри, по крайней мере пресвитеры и низшее духовенство?
Нельзя здесь оставить без внимания мнения одного ученого, который говорит, будто первые семена христианства посеяли в России варяги, странствовавшие чрез нее из Скандинавии, и, следовательно, не греки, как мы утверждаем. Но это мнение, кроме того что совершенно произвольно, заключает еще в себе несообразность. «Мне кажется, – справедливо заметил другой ученый, – что такие странствующие рыцари столько же мало имели способности, как и желания обращать язычников, и сии последние нигде не показывали столь великой наклонности к христианству, сколь без всякой причины должно предположить в руссах, допуская, что они случайно приняли новую религию от проезжих». Если же в нашей летописи говорится, что многие варяги, обитавшие в Киеве, были христиане, то кто же докажет, что эти варяги принесли святую веру с собою из своего прежнего отечества, а не приняли ее в самом Киеве или Константинополе, где многие из них, служа при дворе императорском, действительно принимали христианство и откуда приносили его потом с собою к нам в Киев.
Много уже было христиан в царстве Русском между древними обитателями страны, между варягами-пришельцами и в самом войске, как видно из договора с греками великого князя Игоря. При всем том. Церковь Христова все еще оставалась у нас как бы в тени и почти незаметною; язычество, по-видимому, покрывало всю Россию и почиталось религиею господствующею, потому что сам великий князь был язычник. Надлежало еще святой вере взойти на великокняжеский престол, стать на этой высокой свещнице, чтобы соделаться видимою от всех и окончательно разогнать мрак идолопоклонства. И вот супруга того же самого великого князя, при котором достигло у нас христианство такой значительной степени, решается сама принять святую веру, посаждает ее с собою на престоле и, если не утверждает ее окончательно в нашем отечестве, зато, по выражению летописца, является в собственном смысле, аки денница пред солнцем, аки заря пред светом.
Глава III. Состояние христианства в царстве Русском при великой княгине Ольге и по смерти ее до обращения великого князя Владимира.
I. Крещение великой княгини Ольги и содействие ее успехам святой веры.
История обращения великой княгини Ольги, весьма простая и общеизвестная сама по себе, немало затемнена разногласиями о ней как древних, так и новейших писателей.
Прежде всего, не соглашаются в мнениях о том, что заставило мудрую княгиню путешествовать в Царьград и там принять святую веру. По словам одних, это случилось потому, что не бяше тогда во стране Рустей благочестию учителя. Но мы видели уже совершенно противное: в Киеве во дни великого князя Игоря существовала соборная церковь святого Илии, указывающая своим именем на существование и других церквей, а при церквах необходимо были и пастыри, из которых каждый мог бы огласить великую княгиню и совершить над нею святое таинство. Теперь заметим, что и Ольга, в частности, имела при себе какого-то папу Григория, без всякого сомнения, лицо духовное – священника или архиерея, который сопутствовал ей в Грецию из России и который сам мог бы крестить ее в Киеве. Столько же неосновательна и другая мысль, будто Ольга, будучи научена вере Христовой от пресвитеров киевских, хотела, но не могла креститься в своей столице, боясь народа, и для того, по данному ей от христиан совету, отправилась в Константинополь. Если в Киеве открыто исповедовали святую веру даже простые жители, имея у себя храмы и пастырей, и народ это терпел, народ не смел восставать на христиан при веротерпимости великого князя, то ужели могла поопасаться народа одна только супруга этого князя? И в какое время? Тогда, когда по смерти Игоря она держала в руках своих самое кормило правления и делала в России все, что хотела; когда своими мудрыми и благодетельными для всего отечества распоряжениями успела уже возбудить к себе всеобщее уважение, любовь и признательность и заставила всех благословлять свое имя. А с другой стороны, если действительно так опасна была партия язычников в Киеве, что самой правительнице государства надлежало идти в чужую землю для принятия крещения, то ужели бы этим опасность предотвратилась? Разве язычники не могли бы восстать против своей княгини по ее возвращении в отечество, узнавши, что она сделалась христианкою? Или зачем бы ей странствовать в отдаленный Царьград, а не креститься в ближайшем христианском городе Херсоне, где также она могла быть безопасною от своего народа? Почему бы не креститься ей и в самом Киеве, только тайно от язычников, что, разумеется, для княгини не составило бы большой трудности? Ольга, говорят третьи, отправлялась в Царьград без всякой мысли о перемене веры, по видам политическим и там уже, пленившись великолепием христианских храмов и христианского богослужения, решилась креститься; или, не определяя с точностию, когда и отчего родилась в ней эта благочестивая решимость, утверждают, будто великая княгиня предпринимала путешествие в Константинополь для одного только внешнего просвещения и образования точно так, как, например, Петр Великий путешествовал в Амстердам, Лондон и Вену. Но обе эти мысли суть произвольные догадки. Какие это были столько важные дела политические (не известные никому), которые могли потребовать личного присутствия великой княгини нашей при дворе византийском? И если они были, разве не могла Ольга послать туда вместо себя сына своего Святослава, достигшего уже совершеннолетия, или отправить послов по примеру супруга своего Игоря, сносившегося с греческими императорами чрез своих полномочных? Если ей самой захотелось побывать в Царьграде из видов политики – зачем было брать ей с собою из Киева папу Григория? Еще страннее, будто женщина в шестьдесят семь лет, всю жизнь свою довольствовавшаяся своим жребием и состоянием, вдруг вздумала искать себе внешнего просвещения и блеска и для этой цели согласилась на путешествие дальнее, трудное и опасное, которое надлежало совершать по Днепру и Черному морю и во время которого нужно было проходить Днепровские пороги, окруженные печенегами. Нет, решиться на такие трудности и самопожертвование могло заставить Ольгу только что-нибудь особенно важное, особенно близкое и священное для ее сердца. Лучше всех других угадал эту особенность и объяснил со своим обычным красноречием наш проницательный историограф. «Ольга, – говорит он, – достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным побуждениям земной деятельности, видит близкий конец ее пред собою и чувствует суетность земного величия. Тогда истинная вера более, нежели когда-нибудь, служит ему опорою или утешением в печальных размышлениях о тленности человека. Ольга была язычница, но имя Бога Вседержителя уже славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность обрядов христианства, могла из любопытства беседовать с церковными пастырями и, будучи одарена умом необыкновенным, увериться в святости их учения. Плененная лучом сего нового света, Ольга захотела быть христианкою и сама отправилась в столицу империи и веры греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике». Прибавим к сему, что у великой княгини был еще ближайший руководитель – папа Григорий. Беседуя с нею об истинах веры и судьбах Церкви Христовой, добрый наставник, может быть, не раз переносил мысли своей духовной питомицы в знаменитый Царьград, где существовало тогда христианство во всем своем величии и блеске, не раз рассказывал ей, как великолепны там храмы Божий, как торжественно в них богослужение, особенно в минуты священнодействий самого патриарха, какое обилие там святых мощей, чудотворных икон и вообще всякой христианской святыни. Подобные беседы естественно и незаметно могли возбудить в душе Ольги благочестивое желание узреть все это собственными очами, желание – потом воспитать мало-помалу в твердое намерение и, наконец, соделать такою потребностию сердца, которой противиться уже невозможно, несмотря ни на какие препятствия. Так и ныне: добрые христиане, при всей дряхлости своих лет, презирая все трудности странствования, предпринимают благочестивые путешествия в самые отдаленные места, драгоценные сердцу их по христианской святыне; по такому же влечению путешествовала в Царьград и престарелая Ольга – еще язычница, но уже оглашенная христианством и глубоко убежденная в его божественности и спасительности.
Другой предмет несогласий в истории обращения великой княгини Ольги – тот, точно ли она приняла крещение в Константинополе. Вопреки всеобщему убеждению, некоторые решительно отвергали это событие или, по крайней мере, сомневались в нем, потому что император Константин Багрянородный, современник Ольги, который сам принимал ее при дворе своем и сам же подробно описал все, даже малейшие, подробности приема, ни слова не сказал о ее крещении, тогда как умолчать о таком важном деле казалось бы совершенно невозможным. Но эти ученые опускали из внимания самое простое обстоятельство – то именно, что Константин Багрянородный описывает в своем сочинении только обряд, употреблявшийся при византийском дворе во время приема иностранных послов и, в частности, повторившийся во время приема нашей великой княгини, и что, следовательно, венценосному бытописателю вовсе не уместно было говорить в своем Обряднике о таком происшествии, которое ни в каком смысле не могло быть отнесено к придворному обряду. Между тем, противная мысль – о крещении великой княгини Ольги в Царьграде – имеет все признаки исторической истины. Она подтверждается, с одной стороны, свидетельством нашего отечественного летописца, который жил спустя не более столетия после равноапостольной княгини, сам видел ее святые мощи в Киеве и достоверно мог узнать о ней по живому еще преданию; с другой – свидетельством летописцев византийских: Кедрина, Иоанна Скилицы Куропалата и Зонары, из которых два первые жили также в XI в., а последний в XII, и, наконец, свидетельством одного франкского летописца, едва ли не современника Ольги.
Третье, гораздо более важное, разногласие касается времени, когда крестилась наша великая княгиня: в каком году, при каком императоре и патриархе. У древних наших писателей было об этом весьма много мнений: одни относили крещение ее ко времени императора Иоанна Цимисхия и патриарха Фотия, другие – ко времени того же императора и патриарха Скомодрена, третьи – ко времени императора Константина Багрянородного и патриарха Феофилакта, четвертые – ко времени того же императора и патриарха Полиевкта, указывая, впрочем, почти единодушно на 955 г. Не менее мнений об этом и у писателей новейших, которые, хотя согласно допускают, что крещение Ольги случилось в царствование императора Константина Багрянородного, не соглашаются, однако ж, касательно имени патриарха, совершившего над нею святое таинство, называя его одни Феофилактом, другие Полиевктом, и касательно года события, указывая то на 946, то на 955, то на 956, то на 957. В настоящее время этот запутанный вопрос можно считать окончательно решенным. Основанием для решения послужили некоторые частности в Обряднике Константина Багрянородного, подробно описавшего сделанный им прием нашей княгине, на которые прежде не могли или не хотели обратить надлежащего внимания. Здесь говорится, что Ольга во время пребывания своего в Царьграде была принимаема императором двукратно – 9 сентября, в среду, и 18 октября, в воскресенье. Но во все царствование Константина Багрянородного (945–959) 9 число сентября в среду и 18 октября в воскресенье могли случиться, по пасхальному кругу, только в 946 и 957 годах. Принять первый из этих годов за эпоху крещения нашей великой княгини нельзя, ибо в том же Обряднике повествуется, что император Константин принимал ее не один, а вместе с соправителем своим Романом и что за столом, на котором после обеда предложены были Ольге плоды, сидели с нею дети обоих императоров. Но Роман II сделался соправителем отцу своему Константину, по свидетельству византийцев, не прежде 948 г. и в 946 г. никак еще не мог иметь детей, потому что он сам был еще семилетним дитятею (родился в 939 г.). Следовательно, пребывание и крещение нашей великой княгини Ольги в Константинополе надобно полагать в 957 г. И значит, совершителем над нею святого таинства был не патриарх Феофилакт, скончавшийся в 956 г. 27 февраля, а знаменитый ученостью и добродетелями преемник его Полиевкт.
Наконец, последний вопрос в истории обращения нашей великой княгини Ольги, доселе еще решаемый различно, есть вопрос о том, точно ли наша княгиня по принятии уже крещения в Константинополе посылала послов своих к немецкому императору Отгону I и просила у него епископа и пресвитера, как рассказывают многие западные летописи. Сущность этого рассказа следующая: «В 959 г. послы ругийской княгини Елены (Helenae, reginae Rugorum), которая при Романе, константинопольском императоре, крещена в Константинополе, пришедши к Отгону, коварно, как после открылось, просили у него епископа и священника для своего народа. Вследствие сего в 960 г. монах Либуций поставлен был епископом для ругийцев. Но он, замедливши по обстоятельствам, еще до отправления своего на место скончался в следующем (961) году. Тогда избран был новый епископ – трирский монах Адальберт, который, будучи щедро снабжен от императора всем нужным, немедленно отправился к ругийскому народу. Однако ж, не успевая ни в чем, за чем был послан, и видя напрасными все свои усилия, он в 962 г. возвратился обратно, будучи изгнан язычниками, причем он едва спасся с величайшим трудом от рук их, а некоторые из спутников его были даже убиты». Одни из ученых относят это событие к нашим руссам и к нашей великой княгине Ольге, другие – к ругийцам, жителям острова Рюгена. Но, по всем соображениям, истина, кажется, на стороне первых. Что яснее слов свидетельства и, не забудем, свидетельства современного: в 959 г. послы Елены, княгини ругов, крестившейся в Константинополе при императоре Романе, приходили к Отгону? У нас в это время действительно была княгиня Елена, которая точно уже была крещена, крещена в Константинополе, крещена при императорах Романе и Константине. Если же она названа княгинею ругов, а не руссов – это, без сомнения, описка, потому что в других точно таких же свидетельствах она называется уже княгинею русскою (Ruscorum), послы ее – послами русского народа и Адальберт – епископом России. А у жителей острова Рюгена была ли тогда подобная княгиня? Вовсе не было – была, говорят, и процветала мудростию (920–985) какая-то игуменья Гандергсгеймского монастыря по имени Rhoswilda, Rosvida, иначе Helena von Rossow, которая происходила из благородной, может быть, княжеской Бранденбургской фамилии, состояла в родстве с Отгоном императором и прежде посетила Константинополь, где научилась греческому языку. Но как мало идут к этой Елене резкие и удивительно определенные черты представленного свидетельства! Она, во-первых, не княгиня ругов; была в Константинополе, но неизвестно когда: при Романе ли императоре или в другое время и там ли крестилась или в другом месте. И почему же не хотят разуметь здесь нашу великую княгиню? На основании молчания о сем отечественных летописей? Но в таком случае пришлось бы исключить из русской истории и многие другие достовернейшие события. Представляется невероятным, чтобы Ольга, принявши православную веру в Греции, вздумала просить себе епископа Римской Церкви, и притом чужестранца, тогда как отпадение Запада от Востока уже состоялось, и Ольга могла испросить себе в Царьграде пастырей соплеменных, хорошо знавших язык русский. Но одну только именно эту невероятность и следовало бы отвергнуть в сказании, а не все сказание. Послы нашей княгини могли быть у Оттона по каким-либо делам политическим, а совсем не по делам веры, и Шафенбургская хроника точно замечает, что к Оттону I, когда он с сыном своим праздновал Пасху в Кведлинбурге, в числе других послов: римских, греческих, венецианских, венгерских, польских, болгарских – представлялись и послы русские. Оттон, известный своею необычайною ревностию в распространении римской веры, а вместе с нею и своей власти, узнавши от них, что великая княгиня наша уже крестилась в Константинополе, не мог, по обычной своей склонности и политике, не вмешаться в это дело. Он поспешил послать к нам своих миссионеров и для благовидности мог распространить слух, что послы русские затем к нему и приходили от своей княгини, тогда как они и мысли о том не имели. Подобные поступки со стороны пап и их поборников повторялись очень нередко и в последующее время: сколько сохранилось посланий Римских первосвященников, в которых они писали к нашим князьям: склоняясь на ваши пламенные желания, или: услышав о готовности вашей покориться кафедре святого Петра и т. п., мы посылаем к вам своего посла, которого просим во всем слушаться, тогда как наши князья не только не просили о том папы, напротив, явно ему сопротивлялись! Да если бы Ольга сама испросила себе немецкого епископа, ужели бы она допустила, чтобы его изгнали из России, и с таким бесчестием? Напротив, сие-то обстоятельство и показывает, что Адальберт прислан был к нам без всякой просьбы, неожиданно и против общего желания. Все прочие недоразумения, по которым не соглашаются отнести это событие к нашим руссам, а приписывают ругийцам, разрешаются уже весьма удобно. «Ни один, – говорят, – из западных летописцев не называет сие посольство от великой княгини Ольги, а от Елены». Но Ольга уже и была в то время (т. е. в 959 г.) Еленою, следовательно, эта точность должна напротив служить новою порукою за то, что дело идет о нашей великой княгине. «Если бы это так случилось, то преподобный Нестор, верно, не преминул бы поместить в своей летописи важное известие об отступничестве руссов от христианской веры и покушении на жизнь первого епископа Русской Церкви». Но отступничества здесь не было никакого: Адальберт не был прошен и не был принят епископом в Россию. «Если бы в самом деле наша Ольга перешла в недра католической Церкви, то ужели отступницу от православия причла бы Восточная Церковь к лику святых?» Но, повторяем, отступничества здесь вовсе не было: Римского епископа Ольга не просила, и не приняла, и до конца жизни оставалась самою ревностною блюстительницею православной веры и благочестия. «Адам Бременский, летописец саксонский, исчисляя епископства ругийского апостола Альберта, им основанные, ограничивается городами и землями саксо-славянскими; ни Киевского, ни Новгородского епископства, которое бы подчинено было Альберту, нигде не приводится». Но Альберта у нас не приняли, он не основал у нас ни Киевского, ни Новгородского епископства, потому они и не могли быть подчинены ему. «Кромер преясно говорит, что Адальберт архиепископ 12 лет проповедовал христианскую веру на Эльбе, а не в России; сам папа, возводя его на Магдебургскую митрополию и исчисляя его подвиги, говорит, что он проповедовал за Лабой и Салой соседним славянам, а Адам Бременский исчисляет основанные Альбертом епископства между Эльбой, Эйдером и рекою Пеною, следовательно, все к западу от реки Одера, – там, где обитали ругийцы». Но все это совершил Альберт уже после того, как от нас был изгнан, что преясно видно из слов самого же Дитмара и частик) папы. Значит, отсюда отнюдь не следует, чтобы он к нам не был посылай. Вообще, как ни маловажно в нашей церковной истории это событие, т. е. посольство к нам немецкого епископа Адальберта, но оно, неоспоримо, принадлежит ей и остается памятником того, как рано начались попытки поборников римской веры к распространению на Руси своего влияния.
Рассмотрим теперь еще некоторые обстоятельства в истории обращения нашей великой княгини и перейдем к остальным делам ее христианской жизни.
Урочным временем для прихода русских в Константинополь, по свидетельству Багрянородного, были конец июня и начало июля – в это время, конечно, прибыла туда и Ольга. Первым делом ее в Царьграде было принятие святого крещения. Сам патриарх совершал над нею великое таинство, и сам император воспринимал ее от купели. Когда новопросвещенная, по выходе из святой купели, радовалась душою и телом, святейший патриарх обратился к ней со словом привета и сказал: «Благословенна ты в женах русских за то, что возлюбила свет и оставила тьму; сыны России не престанут благословлять тебя в роды родов, при самых поздних твоих потомках», – и вслед за тем заповедал ей о церковном уставе, молитве, посте, милостыне, чистоте телесной; а блаженная княгиня стояла, преклонив главу и, подобно губе напояемой, принимала учение. Очень вероятно, что вместе с Ольгою крестились и некоторые из спутников ее, а с нею находились родственники и родственницы ее, в том числе племянник, до 10 знаменитейших жен, 18 почетных служительниц, 22 поверенных от русских князей, 43 купца, до 10 чиновников. После крещения Ольга удостоилась почестей, свойственных ее сану: двукратно принимаема была в императорском дворце со всем своим посольством и в честь ее двукратно дан был обед: в первый раз 9 сентября, во второй – 18 октября. Оставаясь столько времени по крещении своем в Царьграде, Ольга успела показать то великое усердие к истинному благочестию, те знаки искренней веры, о которых не преминули заметить греческие историки. Между прочим, она пожертвовала в Софийский собор «великое служебное блюдо», унизанное жемчугом и имевшее внутри драгоценный камень с изображением Спасителя. Пред возвращением в отечество новопросвещенная сочла долгом испросить себе благословение от крестившего ее патриарха, который, напутствуя свою духовную дщерь благословением и наставлениями, вручил ей святой крест со следующею надписью: «Обновися Русская земля к Богу святым крещением, егоже прияла Ольга, благоверная княгиня». Крест этот долго хранился в Киево-Софийском соборе, созданном правнуком ее Ярославом, и стоял в алтаре на десной стране как живой свидетель о достопамятном событии и как святыня, сугубо драгоценная для русских.
По возвращении в отечество Ольга, принявшая святую веру вследствие глубокого, сердечного убеждения в ее святости и спасительности, до самой кончины своей пребыла верною божественному закону и своею благочестивою жизнию, аки луна в нощи, сияла посреди язычников для их духовного просвещения. Первою заботою ее было обратить ко Христу единственного сына своего Святослава, хотя, к прискорбию, все старания ее остались тщетными. Трогательно изображает эту заботливость наша древняя летопись: «Часто, – повествует она, – говорила Ольга сыну своему: я, сын мой, познала Бога и радуюсь; когда познаешь Его и ты, так же возрадуешься. Но Святослав, не внимая сему, говорил: как мне одному принять новый закон, когда дружина моя станет надо мною смеяться? Ольга отвечала ему: если ты примешь крещение, то и все последуют твоему примеру. Но он не слушался своей матери и оставался в идолопоклонстве; он даже гневался на свою мать… Несмотря на то, Ольга не переставала любить сына своего и повторяла: да будет воля Божия! Если Бог восхощет помиловать род мой в Русской земле, то Он вложит ему в сердце обратиться к истине, как и мне явил Он милость свою. И, говоря таким образом, молилась она день и ночь за сына своего и за свой народ». Кроме Святослава, равноапостольная старалась также наставить на путь истины и прочих жителей Киева, и, надобно думать, не бесплодною оставалась ее проповедь – это можем заключать из слов своей летописи, что, хотя Святослав сам не соглашался принять святую веру, однако ж не возбранял принимать ее другим, хотевшим креститься волею. Не ограничиваясь одними киевлянами, благоверная княгиня желала поделиться бесценным сокровищем веры и с прочими обитателями России. С сею целию обтекала она грады и веси по всей земле Русской, проповедуя Евангелие, яко истинная ученица Христова и единоревнительница апостолом, и почему не согласиться нам, хотя и с позднейшим, свидетелем, что многие, дивясь о глаголех ея, ихже николиже прежде слышаша, любезно принимали от уст ея слово Божие и крестились? Не без причины же православная Церковь издревле обыкла именовать Ольгу равноапостольною. Во время этих благочестивых путешествий, продолжает тот же свидетель, на местах, где прежде стояли кумиры идольские, блаженная княгиня поставила кресты и от тех крестов многа знамения и чудеса содевахуся и до сего дне, — мы опять не в праве не верить словам человека, который сам еще видел кресты, поставленные Ольгою в разных местах, о чем, без сомнения, сохранялась память в местных преданиях. Если вспомним здесь, что святая Ольга по крещении своем жила еще около двенадцати лет, то мы в состоянии будем понять, как много могла познакомить она предков наших с истинною верою и таким образом приблизить и подготовить великую эпоху повсемественного распространения христианства в России. Занимаясь воспитанием внуков своих: Владимира, Олега и Ярополка, в то время как отец их Святослав занимался только войною в отдалении от Киева, равноапостольная посеяла первые семена святой веры и в сердцах этих малолетних князей, хотя крестить их не дерзнула, опасаясь своего непокорливого сына. И это насаждение первых семян благочестия в сердце того, кто вскоре просветил христианством всю землю Русскую, есть новый подвиг, за который должны благословлять блаженную Ольгу все русские роды.
Будучи ревностною христианкою и имея у себя пресвитера, Ольга не могла не иметь и церкви. И летопись Иоакимова, точно, приписывает ей построение в Киеве деревянной церкви святой Софии, для которой иконы и иереев будто бы получила наша княгиня от Константинопольского патриарха. Свидетельство хотя и очень сомнительной в глазах некоторых летописи на этот раз оказывается вероятным. Немецкий историк Дитмар говорит как современник, что в 1017 г. во время страшного пожара киевского сгорела, между прочим, церковь святой Софии. Это не могла быть Софийская церковь, построенная Ярославом, как думал наш историограф, потому что Ярослав в 1017 г. только что еще вступил на престол и, будучи занят войною с польским королем Болеславом, не имел времени заняться ее построением. Ярославова Софийская церковь, каменная и великолепная, по словам некоторых летописей, была в этом году только что заложена, а окончена уже в 1037 г. Кроме того, Дитмар продолжает, что в 1018 г. Киевский архиепископ встречал польского короля Болеслава, овладевшего тогда Киевом, в монастыре святой Софии. Значит, что при церкви Софийской, сгоревшей в 1017 г., был и монастырь, который по сгорении самой церкви оставался цел – когда же Ярослав успел бы уже завести при своем Софийском соборе обитель? Кажется, и составитель Никоновой летописи выражает мысль, что во дни великой княгини Ольги существовала Софийская церковь, посвященная Пресвятой Деве Богородице: Ольга, пишет он, умираючи даде село свое Будутино святей Богородице, а святою Богородицею переносно называлась у нас впоследствии именно церковь Софийская в Киеве, равно как в Новгороде, и другие, посвященные Богоматери. Киевский Синопсис, а вслед за тем многие писатели наши полагают, будто Ольга построила в Киеве и церковь святого Николая на могиле Аскольдовой. Но это ошибка: во всех древних списках летописи говорится, что Аскольд погребен был там, где во дни Нестеровы находился Ольмин двор и что на Аскольдовой могиле поставил церковь святого Николая этот самый Ольма, или Альма, которого переписчики легко могли превратить в Ольгу а Иоакимова летопись дает заметить, что во дни Ольги и Святослава церковь святого Николая, построенная Ольмою, уже существовала. Наконец, Степенная книга и некоторые другие наши позднейшие летописи повествуют, что равноапостольная Ольга послала много злата и сребра на создание церкви святыя Живоначальныя Троицы во Пскове – месте ее родины – известие само по себе весьма вероятное, хотя неизвестно откуда почерпнутое.
Провождая, таким образом, жизнь свою в подвигах благочестия, святая Ольга достигла глубокой старости, и «первая от Руси в Царство Небесное вниде». Блаженную кончину ее (в 969 г.) горько оплакали сын ее Святослав, внуки и весь народ, не только христиане, но и самые язычники. При смерти равноапостольная заповедала «послати злато к патриарху», не совершать над нею языческой тризны и погребсти по закону христианскому, и воля ее свято была исполнена: ее похоронил священник христианский на месте, ею самою предназначенном, в присутствии бесчисленного множества народа, сопровождавшего гроб ее до самой могилы. Весьма несправедливо при этом в некоторых из списков нашей летописи замечено, будто святая Ольга содержала у себя пресвитера тайно, во многих других списках, и притом древнейших, слова тайно нет, а сказано только, что Ольга имела у себя пресвитера, который и похоронил ее. И чего было опасаться великой княгине, от кого скрываться? Не скрывалась она от самого Святослава, которого воле все было тогда покорно в России, напротив, часто уговаривала его самого сделаться христианином. И если Святослав в угождение ей не возбранял даже подданным принимать крещение, мог ли он стеснять свободу совести у своей матери? Не забудем также, что со времени крещения Ольги Святослав почти не жил в Киеве, будучи занят непрерывными войнами, и главною правительницею Киева и всего государства, в руках которой находилась почти вся власть, оставалась сама Ольга. Кто ж дерзнул бы запретить ей открытое исповедание той веры, которую открыто, пред всем светом она приняла в Царьграде и которой с таким пламенным усердием держалась? Гораздо естественнее думать, что во весь этот период до блаженной кончины равноапостольной для святой веры было у нас лучшее время, какого прежде еще не бывало.
II. Последующая судьба христианства в России до обращения великого князя Владимира.
В филологии: 1) Язык нашей Библии и богослужебных книг имеет разительное сходство с тем, какой употреблялся в Болгарии в Х в., как можно видеть из переводов Иоанна, экзарха Болгарского. 2) Даже язык нынешних болгар, несмотря на все сторонние влияния, какие потерпел он в продолжение веков, довольно близок к нашему богослужебному языку и языку Священного Писания; в этом можно убедиться чрез сличение употребляемого нашею Церковию Евангелия с Евангелием, недавно переведенным на новый болгарский язык. 3) И не только в книжном, но и в разговорном языке настоящих болгар мы слышим еще слова и выражения древлеславянские, церковные и библейские; болгаре и ныне говорят: аз, семь, еси, есть, есмы, есте, суть, живот (вместо жизнь), град, злато, сынове, единонадесятый, дванадесятый и проч. 4) Буква юс, характеризующая собою древние церковнославянские рукописи, в живом произношении не встречается ныне ни у одного из славянских племен, кроме болгаров.
Причину же, почему святые Кирилл и Мефодий избрали для своего перевода наречие болгарское, а не какое-либо другое, можно искать частию в свойствах этого наречия: не было ли оно в то время образованнейшим из всех славянских наречий и потому способнейшим к выражению высоких истин христианства? А преимущественно – в самых переводчиках: солунские братья естественно могли избрать для своего перевода то наречие, какое сами лучше знали. Но в Солуни и ее окрестностях, равно как во всей Мизии и части Македонии, жили тогда болгаре, смешавшиеся с славянами, и господствующим языком был славяно-болгарский.
Впрочем, надобно заметить, что, принявши в основание своего перевода наречие болгарское, святые переводчики для лучшего выражения новых, высоких и разнообразнейших истин Откровения по необходимости должны были иногда пользоваться словами и других известных им славянских наречий (например моравского), а иногда, может быть, даже составлять новые слова на основании древних славянских корней; с другой же стороны, должны были прибегать нередко не только к терминам, но и к целым оборотам и формам языка греческого, как видно из самого перевода, если только это последнее не было невольным следствием их глубокого знания греческого языка. Таким образом, в переводе славянских апостолов простой язык народа болгарского возведен на некоторую степень искусственного развития, получивши вместе особый отлив от влияния языка греческого, и с тех пор соделался языком книжным и ученым, отличным от простонародных славянских наречий, находясь, впрочем, с ними повсюду, где употреблялся, в постоянном взаимодействии, подвергаясь их влиянию сам и имея на них собственное влияние. А употреблять и понимать этот перевод, кроме болгар, легко могли и все прочие славяне, потому что славянские наречия в то время, без сомнения, не имели еще между собою такой разности, в какой являются ныне, а известно, что даже ныне церковные книги нашей русской редакции и печати понятны еще для славян придунайских, сербов и болгаров.
III. Его последствия.
Следствия перевода Библии и церковных книг на славянский язык были величайшие и благотворнейшие как для славян вообще, так, в особенности, для русских.
Этот перевод имел самое сильное влияние на пробуждение духа народного в славянах и уяснение их народного самосознания. Здесь в первый раз услышали они звуки родного слова в речи стройной, облагороженной, возвышенной и в первый раз начали понимать, как богат, величествен и прекрасен язык их предков, в первый раз заглянули, так сказать, лицом к лицу в собственную душу и увидели все величие и крепость ее природных сил, для выражения которых служит такое могущественное слово. Вот главным образом, почему везде, куда только ни проникал перевод солунских братьев, славяне встречали его с восторгом, как что-то особенно родное и близкое их сердцу, как что-то такое, в чем впервые узрели они самих себя в самом лучшем виде. В то же время, будучи понятен для всех поколений славянских, этот перевод, распространяясь между ними, живее всего напоминал им о их кровном родстве и братстве, а предлагая им истины нового рождения от Бога благодатию Духа Святого, представлял лучшее средство для соединения их еще более крепкими узами родства духовного – во Христе Иисусе.
Этот перевод послужил важнейшею эпохою в истории образования славянского народа. Не будем отвергать, что славяне знакомы были и прежде, более или менее, с просвещением и образованностию, что некоторые из них были по временам знакомы даже с греческими науками и ученостию, но все это составляло лишь удел немногих, все это были как бы исключения из общего правила, а народные массы пребывали в крайнем невежестве и грубости, умы всех были окружены густейшим мраком древних языческих суеверий, были окованы вековыми предрассудками. И вдруг столь бедному, ничего почти не ведающему народу дается книга Божественного Откровения! Книга, которой самое назначение – рассеять мрак языческих заблуждений, освободить людей от вековых предрассудков и просветить всех самыми чистыми понятиями о Боге, мире и человеке, дается такая книга, а вместе с нею и многие другие, ее объясняющие, на языке понятном для всех и каждого! Можно судить, какой великий переворот должен был совершиться тогда в умах славянских поколений! Между тем как в других странах мира, где вера Христова была проповедуема на чуждом для народа языке, ее святые истины могли быть доступны в полной мере одним людям ученым, для славян сии неоцененные сокровища с первого раза соделались общим достоянием. Люди грамотные читали сами Слово Божие и книги церковные, а не умевшие читать с благоговением внимали тому, что было читаемо другими, и поучались или спешили в отверстые храмы и там в священных песнях, чтениях и молитвах изучали высочайшие догматы христианского богословия. Скажете ли, что все эти истины славяне усвояли себе верою, а не разумом? Но важно то, что усвояемы были действительно истины, которые, быв усвоены верою, необходимо уже являлись светом и для разума, прогоняя мрак облегавших его дотоле суеверий и на место их сообщая ему новые, животворные, хотя и непостижимые, понятия; важно то, что многие из сих небесных истин, удобопонятные для самого ума человеческого, естественно пробуждали в нем собственные силы, дотоле спавшие, порождали множество вопросов о великих предметах человеческого ведения, порождали и питали жажду истинного знания. Славяне почувствовали нужду в науках и просвещении вдруг же, как только услышали из уст своих первоучителей Слово Божие на своем родном языке. В Болгарии и Моравии основаны училища еще святыми Кириллом и Мефодием и, сколько позволяли обстоятельства, были поддерживаемы впоследствии. К концу IX в. и в начале Х у славян являются уже ученые мужи, которые не только переводят для своих соотечественников многие полезные и назидательные книги, но пишут даже собственные сочинения на отечественном языке. Народная письменность у славян зачинается прекрасною зарею в такое время, когда в других, ныне просвещеннейших странах Европы: Англии, Франции и Германии – и мысли о том еще не имели. Так-то много сделали святые братья солунские для самого славянского языка своим бесценным переводом, здесь приучили они славянскую речь к гибкости, правильности и благозвучию, соделали ее способною для выражения самых высоких мыслей, самого многообразного сочетания их между собою; здесь оставили они для последующих писателей славянских достойнейший образец, которому подражали целые века.
Но ощутительнее всего было влияние этого перевода на распространение христианской веры между славянами. Мы знаем, что некоторые славянские племена издревле обитали в соседстве с греками и римлянами, просвещенными христианством, что как те, так и другие не раз пытались сообщить святую веру этим дикарям, в числе других варваров, нападавших на всемирную империю, и что римские миссионеры по обычаю своему иногда употребляли для сего даже насилие и меч. И что же, какие были успехи? Самые слабые и почти незаметные. Славяне не понимали Евангельской проповеди, предлагаемой им на иноземном языке, и потому, естественно, не соглашались ее принять; а если и принимали, не могли ее надлежащим образом усвоить и, нося имя христиан, оставались, как и прежде, почти язычниками в своих верованиях и обрядах. Так проходили века за веками, и так прошли бы, без сомнения, новые века, если бы сами славяне, руководимые своим здравым смыслом, не вздумали, наконец, испросить себе у Византии учителей, которые бы возвестили им Евангелие понятною для них речью. Вот с этих пор все изменилось. Получивши перевод Библии и богослужебных книг на родном языке, славяне начали понимать святую веру, увидели все превосходство ее божественных истин пред своими грубыми суевериями и повсюду встречали ее с готовностию и любовию. Отселе, можно сказать, в несколько десятков лет она распространилась между ними гораздо более, нежели прежде в целые столетия. В одежде славянского слова она казалась всем чем-то своим и нечуждым, была принимаема с радостию и делалась необходимою стихиею славянской жизни.
Недолго продолжались все таковые следствия великого труда славянских апостолов между южными славянами – политические волнения, смуты и перевороты, посреди которых едва спаслось в тех странах самое имя славянское, не дали там раскрыться во всей силе и этим благодетельнейшим следствиям. Зато при других, более благоприятных обстоятельствах не переставали раскрываться они в иной стране, столько же славянской, куда вскоре проникли.
Обращаясь здесь к самим себе, можем прямо сказать, что славянский перевод священных книг, кроме общих действий, произведенных им между славянами, т. е. кроме пробуждения и в наших предках народного духа и самосознания, кроме влияния на их образование и распространение между ними христианства, произвел у нас еще особенные действия. Он предохранил нас от исламизма, предохранил и даже отвратил от папизма, привязал к вере православной и дал народу русскому самое святое, религиозное направление.
Известно, что в то время, когда едва возникало наше отечество, учение Магометово делало весьма быстрые успехи по юго-восточной нашей границе между волжскими болгарами, хазарами и буртасами, где в числе прочих племен принимали его и некоторые обитавшие там славяне. Возьмем теперь во внимание, что со всеми этими народами жители внутренних областей России находились тогда в тесных сношениях по азиатской торговле, которая наиболее производилась в Ателе, Булгарах и Буртасе; вспомним самое свойство религии Магометовой, которая, до крайности льстя чувственности человеческой, легко могла прельстить наших предков-язычников, как показал было опыт над самим Владимиром, еще избиравшим веру; вспомним весь фанатизм последователей лжепророка в распространении его учения и особенно то, что такими распространителями могли явиться в Россию из Волжской Болгарии природные славяне, и мы поймем, какая великая опасность угрожала тогда предкам нашим, а чрез них и всему их потомству. Но благодарение Господу, совещавшему о нас благое! В это самое время совершался и почти уже совершен был перевод священных книг святыми Кириллом и Мефодием; славяне отправляли уже богослужение на своем языке; радостная весть о сем, пробежавшая все славянские страны, достигла и России; к нам начали вскоре (как увидим в своем месте) приходить благовестники Христовы с понятною для нас речью и, конечно, приносить с собою славянские книги. Против таких средств внешних, кроме внутренней силы самого христианства, трудно уже было действовать исламизму – и вера Христова действительно восторжествовала над ним и мало-помалу начала озарять обширные страны России.
Здесь же по преимуществу, в этом переводе Слова Божия святых солунских братьев, в этом отправлении богослужения на славянском языке надобно искать главную причину и тому, что не имели у нас, особенно вначале, никакого успеха все попытки пап к распространению своего вероисповедания и власти. Римские миссионеры, приходившие в наше отечество, справедливо казались нам людьми чуждыми. Мы не понимали их образа речи, не понимали и их проповеди, хотя они и благовествовали нам о Христе. Как же могли мы последовать их внушениям, когда у нас в то же время слышалась уже своя проповедь – родная, понятная для всех? Какой выбор, какое сравнение! А когда сии миссионеры начинали еще предлагать отцам нашим, что при обращении к латинству нужно отказаться от славянской Библии и богослужения и на место их принять латинские, чего, кроме явной неприязни, могли ожидать от нас подобные учители?
Явившись к нам на славянском наречии, вера православная с первого раза пришлась сильно по сердцу русскому. Она привязала нас к себе двоякими узами: и внутренним своим достоинством – своими духовными благами и сладостнейшими обетованиями человеку, и внешнею своею одеждою или тем глаголом, которым к нам вещала. Тем более возлюбили ее предки наши, что священные книги ее были первыми и почти единственными их книгами в продолжение многих столетий. Здесь заключалась вся та мудрость, которою питались умы и сердца целых наших родов и поколений. При руководстве этих книг научались они мыслить, научались смотреть на мир, на самих себя и на все обстоятельства своей жизни; к этим книгам обращались они в минуты радостей и благочестивых восторгов, к ним же спешили они за утешениями в годины бед и печалей. И естественно и незаметно воспитывалось и крепло благочестивое направление в умах и сердцах русских: в семействах, родах и целых поколениях, переходя как бы по наследству от отцов к детям; естественно срасталось оно с самою душою нашею и становилось в ней как бы прирожденным и неискоренимым.
Словом, история нашей Церкви и даже всего нашего отечества имела бы совсем другой вид, если бы при самом основании их не был совершен и не был введен в Россию славянский перевод священных книг христианских. Но Промыслу угодно было, чтобы все эти три события стеклись именно вместе, чтобы в то самое время, как только возникло царство Русское, как только окончен был и еще не вполне окончен перевод библейских и богослужебных книг на славянский язык, чтобы в это самое время были положены и первые основы христианства в царстве Русском.
Глава II. Начатки христианства в царстве Русском со времени основания его от великой княгини Ольги.
Известно, как основалось наше отечество. Первый камень ему положен был в России северной, преимущественно в Новгороде; другой – в то же время в России южной, в Киеве. Здесь первыми князьями являются три брата варяго-русса: Рюрик, Синеус и Трувор, по приглашению; там также два мужа варяго-русса: Аскольд и Дир, по праву завоевания. Высокий жребий выпал на долю первым – от них началась Русская держава, и старший из них, Рюрик, соделался родоначальником русских князей на несколько веков. Не менее высокий жребий достался и последним – от них началось в России христианство.
I. Крещение руссов при Аскольде и Дире.
Это первое крещение руссов со всеми его обстоятельствами описывают более десяти византийцев, которых, впрочем, можно разделить на три класса: одни из них говорят только о начале события; другие упоминают вместе и о продолжении события; третьи, наконец, или вовсе умалчивая о начале, а только его предполагая или упоминая об нем весьма кратко, довольно обстоятельно изображают самое совершение и окончание события.
«В царствование греческого императора Михаила III, – так начинают свой рассказ первые, – в то время когда император отправился с войском против агарян, у стен Константинополя явились на двухстах ладиях новые враги империи, скифский народ руссы. С необычайною жестокостию опустошили они всю окрестную страну, ограбили соседственные острова и обители, убивали всех до одного пленников и привели в трепет жителей столицы. Получивши столь горестную весть от Цареградского епарха, император бросил войско и поспешил к осажденным. С трудом пробился он сквозь неприятельские суда в свою столицу и здесь первым долгом счел для себя прибегнуть с молитвою к Богу. Целую ночь молился Михаил вместе с патриархом Фотием и бесчисленным множеством народа в знаменитой Влахернской церкви, где хранилась тогда чудотворная риза Богоматери. Наутро при пении священных гимнов изнесена была эта чудодейственная риза на берег моря, и едва только она коснулась поверхности воды, вдруг море, дотоле тихое и спокойное, покрылось величайшею бурею; суда безбожных руссов были рассеяны ветром, опрокинуты или разбиты о берег; весьма малое число избежало погибели».
«Испытавши таким образом гнев Божий, по молитвам управлявшего в то время Церковию Фотия, – продолжают другие греческие писатели, – руссы возвратились в отечество и спустя немного прислали послов в Константинополь просить себе крещения. Их желание было исполнено – к ним послан был епископ».
«Когда этот епископ прибыл в столицу руссов, – повествуют, наконец, третьи, – царь руссов поспешил собрать вече. Тут присутствовало великое множество простого народа, а председательствовал сам царь со своими вельможами и сенаторами, которые по долгой привычке к язычеству более других были к нему привержены. Начали рассуждать о вере своей и христианской; пригласили архипастыря и спросили его, чему он намерен учить их. Епископ разверз Евангелие и стал благовествовать пред ними о Спасителе и Его чудесах, упоминая вместе о многоразличных знамениях, совершенных Богом в Ветхом Завете. Руссы, слушая благовестника, сказали ему: „Если и мы не увидим чего-либо подобного, особенно подобного тому, что, по словам твоим, случилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить“. Не поколебался служитель Божий, но, вспомнивши слова Христовы: Аще чесо просите во имя Мое, Аз сотворю (Ин. 14, 14); веруяй в Мя, дела, яже Аэ творю, и той сотворит (Ин. 14, 12), разумеется, в том случае, когда это просится не для тщеславия, а для спасения душ, смело отвечал язычникам: «Хотя и не должно искушать Господа, однако, если вы искренно решились обратиться к Нему, просите, чего желаете, и Он все исполнит по вашей вере, как мы ни ничтожны пред Его величием». Они просили, чтобы повергнута была в огонь, нарочито разведенный, самая книга Евангелия, давая обет непременно обратиться к христианскому Богу, если она останется в огне невредимою. Тогда епископ, возведши очи и руки свои горе, воззвал велегласно: «Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Прослави и ныне святое имя Твое пред очию сего народа», – и вверг священную книгу Завета в пылающий костер. Прошло несколько часов, огонь потребил весь материал, и на пепелище оказалось Евангелие совершенно целое и неповрежденное; сохранились даже ленты, которыми оно было застегнуто. Видя это, варвары, пораженные величием чуда, немедленно начали креститься».
Вот в немногих словах все, что сохранили нам греческие писатели о первом обращении наших предков по основании нашего отечества. Что же скажем мы со своей стороны, выслушавши эти древние свидетельства?
Прежде всего, что самая сущность события и главнейшие его черты изображены здесь как нельзя более ясно и определенно, изображены так, что не остается никакого места сомнению в их подлинности. Достоверно, во-первых, то, что руссы в царствование греческого императора Михаила III (842–867) нападали на Византию, когда об этом говорят двенадцать византийцев и между ними два современника. Достоверно, во-вторых, чудесное поражение этих руссов у стен Византии, которое также подтверждается восемью греческими писателями и одним современником или, справедливее, подтверждается всеми, какие только не мимоходом, а нарочито описали судьбу сего похода. Но, что ближе к нашей цели, не должно подлежать ни малейшему сомнению последовавшее за тем крещение наших предков, когда и в этом уверяют нас семь свидетелей, из которых один был не только современником события (Фотий), но и главнейшим в нем действователем. То же самое, наконец, следует повторить и касательно чуда, которое совершил греческий архипастырь пред глазами наших предков и которое привлекло их к святой вере – об нем упоминают все византийцы, подробно описавшие обращение руссов, а не мимоходом, хотя их числом только пять, и во главе их император Константин Багрянородный, который родился в начале Х в., писал чрез шестьдесят или семьдесят лет после крещения руссов и мог в собственном семействе найти достовернейшие сведения о происшествии, случившемся, по словам его, в царствование и при непосредственном участии его деда – императора Василия Македонянина.
Зато о некоторых других сторонах этого происшествия мы уже не найдем подобной ясности и определенности в показаниях греческих писателей; напротив, тут встречают нас или недомолвки, или даже разноречия, которые справедливо подавали и могут подавать повод к разным недоумениям и вопросам.
Таков первый вопрос: точно ли эти руссы, нападавшие на Константинополь и вскоре затем крестившиеся, были наши руссы, а не какие-либо другие, когда византийцы не только не называют их киевскими, а называют именами общими для многих варварских народов – скифами и тавроскифами, и, следовательно, по праву ли мы думаем усвоить себе то, что, быть может, нам вовсе не принадлежит? Вопрос тем более важный, что, как известно, один знаменитый ученый силился разрешить его не в нашу пользу. Впрочем, все мысли этого ученого давно уже опровергнуты, и нам остается только повторить здесь вкратце готовые опровержения, с некоторыми своими замечаниями. Византийцы, точно, не говорят прямо, чтобы руссы, приходившие в царствование Михаила на Царьград и потом принявшие крещение, приходили именно из Киева, и называют их скифами и тавроскифами, но зато ясно свидетельствуют, что скифы эти приходили по Евксинскому Понту с севера от горы Тавра и были народ воинственный, победоносный, давно известный, а этого уже и довольно. На север от Греции вокруг Понта Евксинского никаких руссов, отличных от руссов киевских, никогда не было известно; об особенном народе – руссах черноморских, которые бы обитали или у Кавказа, или у Азовского моря, или в Тавриде, или между устьями Днепра и Дуная, не упоминает ни один писатель того времени. Откуда ж бы взялись и где девались потом эти храбрые витязи, нападавшие на самую столицу греческую, если бы то были не руссы киевские? Народы не падают с неба, – говорит наш знаменитый историограф, – и не скрываются в землю, как мертвецы по сказкам суеверия. Новое важное замечание: до шести греческих летописцев, упоминающих о нападении руссов на Царьград при Михаиле, описывают и другой поход руссов, приходивших, по словам их, из Киева при великом князе Игоре. Что же? Между теми и другими руссами они не делают ни малейшего различия, тех и других называют одними именами и, очевидно, считают за один народ, который с начала Х в. был уже весьма известен в Константинопсе, где многие руссы киевские служили тогда во флоте. Должно присовокупить, что скифами, таврами, тавроскифами византийцы называли не только руссов Аскольдовых и Игоревых, но и Святославовых, и Владимировых, ведя их также из Киммерийского Боспора; продолжали даже называть руссов тринадцатого и четырнадцатого века, ставя в Скифии самый Киев и называя его иногда скифскою столицею. Невероятным казалось, чтобы Аскольд и Дир, едва утвердясь в Киеве, могли собрать многочисленное войско и идти на самый Константинополь. Но войско их отнюдь не было многочисленно: на двухстах ладиях едва ли могли поместиться около осьми, а много-много десяти тысяч человек. Подобная дружина легко могла составиться из одних киевлян и тех варягов, которые вслед за Аскольдом и Диром пришли к ним из Новгорода, если бы даже и не было справедливо, что первые князья киевские успели уже до похода в Грецию покорить себе некоторые соседственные племена славянские, древлян и угличей. И не без причины, конечно, древнейший наш летописец приписывает этот поход руссов прямо Аскольду и Диру. Он мог узнать о сем из устного предания: в Киеве при жизни преподобного Нестора еще известны были самые могилы Аскольда и Дира. Или не позаимствовал ли наш летописец эти имена из той самой болгарской рукописи Хронографа Амартолова, откуда, как заметили мы, переписал он в свою летопись все сказание о походе? По крайней мере, в списке сей рукописи, сделанном в 1386 г., и сделанном не в России, а в сербском афонском монастыре Хиландаре, стоят имена Аскольда и Дира. Не допустивши, что нападение руссов на Византию, бывшее во время княжения в Киеве Аскольда и Дира и окончившееся, по свидетельству Багрянородного, заключением союза между русскими и греками, принадлежит нашим руссам, мы не поймем, о какой же это приязни и любви, от многих лет существовавшей между христианы и руссы, могли говорить послы Олеговы при заключении нового договора с византийцами в 911 г., когда, кроме мирного договора у греков с руссами Аскольдова времени, прежде 911 г. нет никакого известия. Греческие историки, между прочим, замечают, что, как только прибыл к руссам епископ для проповедания им Евангелия, царь руссов созвал совет (вече), на котором присутствовали его бояре и бесчисленное множество народа и долго рассуждали между собою о перемене веры. Не указывает ли одна эта черта прямо на наших предков? Не так ли точно совещался потом со своими боярами и народом о перемене веры и великий князь Владимир? Не так ли обыкновенно решались тогда у нас и все дела великой важности? Два южнославянских древних писателя, может быть, на основании своих домашних, достовернейших преданий относят это крещение руссов, бывшее, по словам их, при греческом императоре Василии, непосредственно к нашим руссам киевским, а изображение этого крещения, составленное в XIV в. в Болгарии, ясно указывает на самую местность Киева.
Разрешивши одно недоумение, перейдем к другому. Ни один из греческих писателей не определяет, в каком именно году последовало первое крещение наших предков; нельзя ли определить этого хоть приблизительно? Можно. По словам Симеона Логофета, или вернее его Сократигеля, нападение руссов на Константинополь случилось с 864 на 865 г., т.е. в последних числах первого и начале последнего, а из других свидетельств мы знаем, что руссы прислали в Грецию послов просить крещения уже немного спустя по возвращении в отечество после неудачного своего похода, и потом эти послы отправились обратно в Киев с епископом, который и крестил киевлян. Взявши во внимание количество времени, употребленное руссами на возвращение из несчастного похода, еще небольшое количество, проведенное ими в отечестве по возвращении до отправления послов в Византию, далее – время, употребленное послами на поездку туда и обратно, мы должны согласиться, что крещение никак не могло совершиться прежде 866 г. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы оно случилось и после. Патриарх Фотий в окружном своем послании к восточным патриархам об отступлениях Церкви Римской говорит между прочим: «Россы… недавно еще бывшие нашими врагами, ныне (??? ??? ????) соделались христианами и приняли себе епископа…» – и, таким образом, очевидно, представляет это событие весьма близким к тому времени, когда он писал самое послание. А оно писано в конце 866 или даже в начале 867 г., потому что Фотий приглашает в нем других патриархов на Собор для рассмотрения многих нововведений Римской Церкви и упоминает притом, что некоторые пастыри уже прибыли на Собор, другие же ожидаются в скором времени. Но созвать этот Собор, по словам Никиты Пафлагонянина, Фотий убедил императора Михаила уже после того, как в соправители Михаилу избран был Василий Македонянин, т. е. после 26 мая 866 г., и самый Собор был в присутствии обоих императоров, следовательно, прежде 23 сентября 867 г., когда скончался Михаил. Можно даже полагать, что обращение наших руссов совершилось собственно в последней половине 866 г., после 26 мая, или после избрания в соимператоры Михаилу Василия Македонянина. К такому заключению ведут частик) представленные слова святейшего Фотия: «Россы, еще недавно бывшие нашими врагами, ныне соделались христианами», а еще более то, что некоторые византийские и южнославянские писатели не без основания же относят обращение руссов к царствованию Василия.
Но не о другом ли уже крещении руссов говорят эти писатели, тем более что один из них, Константин Багрянородный упоминает об архиепископе, который послан был в Киев не от Фотия, а от Игнатия и крестил жителей русской столицы? И не два ли было тогда крещения наших предков – одно при Михаиле и Фотии, а другое при Василии и Игнатии, как казалось некоторым? Нет, такого предположения доказать нельзя. Поход руссов на Византию в то время решительно был один, все упоминающие об нем относят его к царствованию Михаила, а о другом подобном походе в царствование Василия не говорит никто. Крещение также одно – стоит только сличить разные свидетельства об нем греческих писателей.
На чем одни из них останавливаются в своем повествовании, с того другие продолжают: неизвестный, написавший по приказанию Багрянородного хронику до царствования императора Василия, говорит только, что руссы спустя немного после несчастного своего похода на Царьград при императоре Михаиле прислали в Грецию послов просить крещения, которое и получили, а сам Багрянородный, описавший жизнь Василия, вовсе не упоминая о походе, прямо начинает речь свою тем, что с русскими послами Василий заключил мир и отправил в Россию архипастыря. Точно так же Кедрин при описании царствования Михайлова упоминает о походе руссов и затем о русских послах, прибывших просить крещения, а при описании дел Василиевых говорит только, что с этими послами Василий заключил мир и послал в Россию епископа. Наконец, Зонара нападение руссов изобразил в истории императора Михаила, вовсе не упоминая здесь даже о их желании креститься, самое же крещение их – в истории императора Василия, не упоминая о походе. Странным может показаться только то, почему же некоторые из этих греческих писателей, равно как и некоторые южнославянские, не относят крещения наших предков ко времени обоих императоров – Михаила и Василия, если оно точно случилось в их соцарствие, а приписывают лишь одному Василию. Но и это понять нетрудно: известно, что, с тех пор как Василий сделался соправителем Михаилу, последний носил только титул императора, а настоящим государем, управлявшим всеми делами империи, был Василий. Это очень хорошо знали и греки, и южные славяне, которым император Василий Македонянин был единоплеменник.
Как же после сего примирить еще то несогласие, что патриарх Фотий усвояет себе посольство к руссам епископа, а Багрянородный – Игнатию? Фотий был современник и главный участник в событии – мог ли он не знать его со всеми подробностями? Фотий говорит об нем в окружном послании своем к восточным патриархам и, следовательно, говорит пред всею Церковию – мог ли он позволить себе неправду? Сам враг Фотия, папа Николай, старавшийся в одном из писем своих опровергнуть все слова этого послания, отнюдь не обличает Фотия, чтобы он несправедливо усвоял себе обращение руссов. И заметим, Фотий говорит решительно, что руссы не желают только принять, но уже приняли и епископа, и пастыря, и христианское богослужение. А Багрянородный? Он писал жизнь деда своего, императора Василия, спустя 60 или 70 лет после – трудно ли ему было несколько смешать подробности события и имя патриарха Игнатия поставить на место имени Фотия? Узнавши, что обращение руссов последовало в самом начале воцарения Василия, когда, собственно, он был только соправителем Михаилу, и также то, что вскоре по воцарении Василия Фотий низведен был с престола и на место его возведен Игнатий, Багрянородный очень естественно мог опустить из внимания небольшой промежуток времени и приписать патриарху Василиева царствования то, что принадлежит, в строгом смысле, патриарху царствования Михайлова. Эта ошибка Багрянородного представится нам несомненною, когда возьмем во внимание следующее обстоятельство. Все четыре последующие летописца: Кедрин, Скилица, Зонара и Глика, которые только описывают, как совершилось обращение руссов, заимствуют это сказание почти слово в слово у Константина Багрянородного. Подобно ему они относят крещение руссов к царствованию Василия, упоминают о посланном к ним епископе, о чуде, совершенном епископом для убеждения язычников по их настоянию. И между тем, никто из этих четырех писателей не повторяет, чтобы епископ послан был в Россию от Игнатия. Отчего же, соглашаясь во всем, только в одном они не согласились с Константином? Без сомнения, оттого, что имели достаточное основание не согласиться: они, вероятно, знали истину из другого источника, может быть, читали самое окружное послание Фотиево, которое Константину почему-либо было неизвестно. Обратимся ли к отечественным нашим преданиям – мы найдем здесь новое подкрепление для своей мысли. В продолжение многих веков у нас всеми единодушно была повторяема весть, что в первый раз Русь крестилась при патриархе Фотии и что от Фотия прислан был к нам первый епископ. Мало того, имя Фотия как первого насадителя святой веры в нашем отечестве до того врезалось в памяти русского народа, что даже все последующие крещения, бывшие при святой Ольге и святом Владимире, обыкновенно были приписываемы у нас, разумеется по ошибке, тому же самому Фотию. Нельзя ли, однако ж, допустить, что Багрянородный говорит не о первом, а уже о втором архипастыре, присланном к нам в то время, и таким образом примирить разноречие? Известно, что Игнатий по восшествии своем на патриарший престол отрешил всех епископов, рукоположенных Фотием, и на места их поставил своих. Неудивительно, если и в Россию послал он тогда своего епископа вместо Фотиева, требуя последнего обратно в Грецию. И не с этою ли-то целию, как пишет Багрянородный, император Василий отправлял к руссам богатые дары, чтобы расположить их к принятию нового архипастыря, хиротонисованного Игнатием, на место прежнего? Но подобного объяснения не допускает вся последующая речь Багрянородного, которая ясно гласит, что до приезда первосвятителя, посланного Игнатием, руссы были еще народ совершенно безбожный, что сей-то архипастырь совершил пред ними чудо несгораемого Евангелия и что теперь только они в первый раз начали обращаться. Достойно замечания, почему писатели Римской Церкви, несмотря на все это, усильно стараются доказать, будто первые семена христианства насадил у нас не Фотий, а Игнатий. На этом они построяют свою любимую мысль, что в Россию с самого начала введено не греческое православное исповедание, а исповедание римское. Но откуда известно, что патриарх Игнатий разделял те нововведения Римской Церкви, которые так справедливо обличал Фотий и уже обличил целый Собор Церкви Восточной? Из одного мирного отношения Игнатия к папе? Да отсюда следовало бы, что и сам Фотий разделял обличенные им римские нововведения, потому что и Фотий имел впоследствии мирные отношения к папе Николаю. Нет, в Царьграде и на всем Востоке не было этих нововведений до Игнатия; иначе Фотий не мог бы и вменить их одной Церкви Римской, а сам Игнатий, если бы и захотел, не мог уже ввести их после осудившего их в 867 г. Собора, который в то время многие на Востоке называли вселенским. Не такими нечистыми побуждениями должен водиться историк при изыскании исторической истины. И если мы говорим, что именно Фотий, а не Игнатий первый насадил у нас христианскую веру, то потому только, что нас удостоверяют в том несомненные свидетельства. А пусть нам основательно докажут, что точно Игнатий прислал к нам первого епископа, а не Фотий; мы с такою же охотою и убеждением примем и это известие, тем более что патриарха Игнатия мы чтим со всею православною Церковию не только как пастыря правоверного, но и как святого.
Сказавши, что по прибытии в Киев епископа руссы держали совет, на котором присутствовали сам князь, вельможи и бесчисленное множество народа, и что, узревши совершенное епископом чудо, они немедленно начали креститься, византийцы не определяют, крестился ли тогда русский князь или, точнее, оба князя. Но могло ли это быть иначе? Аскольд и Дир были сами очевидцами чудесной бури у стен Константинополя, которая возбудила в них мысль о величии Бога христианского и первое желание креститься. От них потом зависело по возвращении в отечество отправить посольство в Константинополь и просить христианского наставника; это показывает уже, что желание креститься было в них очень твердо. В противном случае, что могло бы расположить их к такому предприятию? Когда прибыл в Киев епископ, Аскольд и Дир сами приказали созвать вече, сами присутствовали на нем и, подобно другим, видели чудо несгоревшего Евангелия – кому же прежде всего, как не им, естественно было и последовать гласу Евангелия? Они были главными действователями во всем и, очевидно, с искренним усердием искали истины, без которого ничто не могло бы заставить их действовать – как же они могли отказаться от нее, когда она открыла себя их взору? И если бы они не крестились, то, можно сказать, и никто бы в Киеве не крестился. Народ и вельможи не решились бы открыто на такое предприятие без примера князей из одного уже страха. Как на более прямое доказательство крещения Аскольдова справедливо указывают на то, что первые наши христиане над могилою сего князя имели церковь святого Николая, быть не может, чтобы они согласились построить христианский храм над могилою язычника. Вероятна и та догадка, что Аскольд в крещении назван был Николаем, потому что у нас, точно, существовал обычай созидать церкви над могилами князей в честь святых, им соименных. Слова летописи Иоакимовой, называющей Аскольда блаженным, могут служить новым доказательством его крещения для признающих подлинность этой летописи.
Не оставили нам византийские писатели почти никаких сведений и о епископе, крестившем наших предков. В наших домашних известиях он постоянно называется Михаилом. Откуда заимствовано это имя? Оно встречается не только в сочинениях или изданиях позднейшего времени, как то: в печатной Кормчей книге, в предисловии к Киево-Печерскому Патерику и в Чети-Минеи (июля 15), но, по словам одного историка, имевшего у себя много древнейших рукописей, оставшихся для нас неизвестными, оно встречается и в некоторых древних русских списках, находится также в летописи Иоакимовой. Что ж думать о его происхождении? Не перешло ли это имя в наши древние рукописи из устного предания, сохранявшегося целые века, или из хроники какого-либо летописца греческого или болгарского, еще неизвестного нам, как долго оставался неизвестным болгарский список хроники Амартоловой, который один только и упоминает об именах Аскольда и Дира при описании нападения руссов на Константинополь в царствование Михаила? По крайней мере, отвергать помянутые свидетельства о нашем первом епископе мы не имеем никакого основания. Нельзя поверить Багрянородному, чтобы это был не простой епископ, а архиепископ, епископом называет его сам патриарх Фотий, который отправил его к нам, только епископом или общим именем архиерея назвали его и все последующие писатели, видимо заимствовавшие у Багрянородного все сказание об обращении руссов и, однако ж, не хотевшие согласиться с ним в настоящем случае, как не согласились они с ним и в том, чтобы этот иерарх послан был от Игнатия. Да и на что было присылать в Россию архиепископа, когда здесь только еще основывалась Церковь и, конечно, не могло же явиться вдруг несколько епархий, которые бы надлежало подчинить столь высокому саном иерарху. Родом этот архипастырь, равно как и присланный с ним пресвитер, упоминаемый Фотием, а может быть, и другие, вскоре пришедшие к ним на помощь, могли быть из славян. Простое благоразумие требовало избрать на проповедь руссам таких людей, которые были бы способны беседовать с язычниками понятною для них речью, а в Византийской империи, где немало уже было славян-христиан, найти подобных людей было очень легко. Вероятность сего предположения увеличивается, когда вспомним, что почти в то же время или незадолго пред тем к другому славянскому племени, моравам, посланы были из Константинополя проповедники, искусные в языке славянском, если даже не природные славяне; еще более увеличивается, когда обратим внимание на два свидетельства, представляющие тогдашнее обращение наших предков к христианству в связи с обращением славян подунайских. Польский историк Стредовский передает нам одно древнее сказание, что святые Кирилл и Мефодий, занимаясь сами обращением болгар и моравов, посылали от себя к другим окрестным славянам миссионеров и что при этом в Россию отправлен был некто Наврок, – сказание совершенно правдоподобное и само по себе, и вместе потому, что истинность его начинают подкреплять некоторые новейшие исследования. Для нашей цели в нем замечательно особенно то, что время отправления к нам Наврока резко совпадает со временем обращения наших предков, когда, как говорит Фотий, приняли они (не определяя откуда: непосредственно ли из Царьграда или посредственно от моравских апостолов по повелению Константинопольского патриарха) епископа и пресвитера (???????) и все христианские обряды. Совпадает, говорим, потому что посольство Наврока приписывается не одному Мефодию, а обоим братьям и, следовательно, должно было случиться до 867 г., т.е. до отправления их в Рим, где, как известно, святой Кирилл скончался. Другое подобного рода сказание представляет нам отрывок, найденный в одной греческой рукописи, в котором, хотя сначала смешиваются обстоятельства двух крещений, Аскольдова и Владимирова, однако вся речь исключительно направлена к изображению первого: ясно говорится, что это крещение случилось при императоре Василии Македонянине, отправившем к нам епископа, и потом описывается, как присланный епископ совершил у нас чудо, ввергши в огонь Евангелие, которое не сгорело, как подействовало чудо на предков наших и как они начали креститься. Вместе с епископом, говорит неизвестный составитель отрывка, присланы были к руссам два знаменитые мужа, Кирилл и Афанасий, которые, видя, что руссы не понимают греческого алфавита, и опасаясь, чтобы за неумением писать и читать они вскоре не отпали от веры, начертали для них тридцать пять букв, которые называются: аз, буки, веди и проч. и при пособии которых руссы доселе остаются непоколебимы в познании христианской веры. Охотно соглашаемся, что в этом отрывке, может быть составленном преимущественно на основании устных преданий, многие подробности дела и самые имена миссионеров как-нибудь искажены; но важна для нас, собственно, основная мысль, здесь выражаемая, – мысль о введении к нам при самом начале у нас христианства славянской азбуки, а чрез нее и славянского богослужения. Естественность и, скажем более, необходимость сего вытекает из тогдашних обстоятельств: в Болгарии и Моравии уже около четырех лет пели богослужение по-славянски и существовали школы для приготовления из природных славян пастырей Церкви; с восторгом, как замечает наш летописец, слушали славяне величие дел Божиих на своем языке, и весть об этом успела пронестись между всеми их соплеменниками. Возможно ли, чтобы наши послы, ходившие в Царьград просить крещения и на пути своем необходимо касавшиеся пределов Болгарии, не испросили себе в Царьграде и того, что сами слышали во время путешествия у своих собратий и чего просить было им так уместно и естественно? Возможно ли, чтобы и епископ, был ли он отправлен к нам из самого Константинополя или от моравских апостолов, проходя страну славян подунайских, не пригласил с собою чтецов и певцов славянских для надежнейшего успеха в своем предприятии? Не забудем также, что в то время, когда был отправлен к нам епископ, соимператором Михаилу, или лучше – настоящим императором, был Василий Македонянин, природный славянин, – мог ли он не позаботиться, чтобы к соплеменникам его отправлены были учители веры, знакомые с языком славянским? Недаром же патриарх Фотий заметил, что руссы христианское богослужение с великим усердием и тщанием прияли, весть об этом он, конечно, успел уже получить от посланных к нам проповедников. Чем же объяснить такое усердие наших предков к богослужению с первого раза, если не тем, что они услышали его на родном языке, чем особенно привлекало оно к себе славян повсюду? Богослужения на греческом языке руссы, без сомнения, не поняли бы, а не понимая, могли ли они принять его с великим усердием и тщанием?
II. Последующая судьба христианства в России до обращения великой княгини Ольги.
Аскольд и Дир после принятия ими святой веры жили еще и управляли Киевом около пятнадцати лет. В такой период под их покровительством она могла довольно утвердиться и распространиться не только в Киеве, но и в окрестностях Киева трудами епископа и пастыря, которых приняли киевские руссы от патриарха, и при содействии, может быть, других проповедников, приходивших из Греции или Болгарии. Но по смерти Аскольда и Дира, которые скончались (в 882 г.), может быть, как мученики за святую веру, в Киеве воцарился язычник Олег. И во все время его княжения (882–912) мы не знаем ничего о состоянии христианства в России, не можем сказать: искоренилось ли оно тогда у нас совершенно или продолжало существовать и даже распространяться. Правда, при договоре Олега с греками в 911 г. в числе послов русских не видно ни одного христианина, и как сам Олег, так и мужи его для подтверждения условий договора клянутся оружием своим и языческими богами – Перуном и Волосом. Но отсюда не следует, будто и между всеми подданными Олега не было уже христиан. Веру Христову, проповедующую смирение и самоотвержение, у нас, как и везде, приняли вначале преимущественно жители мирные, и в царствование князя-язычника по простому благоразумию они могли содержать ее в тишине и даже сокровенно. А что до воинов, составлявших дружину и свиту княжескую, которые большею частик) были из варягов, то неудивительно, если они оставались нерасположенными к вере, которая явно противоречила их отличительным склонностям и привычкам; это ясно видно из последующей истории великого князя Святослава. Правда также, что в статьях договора, заключенного Олегом с греками, не упоминается о христианах и вообще между всеми руссами, напротив, русин прямо противополагается христианину, т. е. греку. Но это значит только, что греки у нас известны были тогда под именем христиан, а вовсе не то, чтобы между самыми руссами христиан не было. Посему-то такое же точно противоположение русина христианину встречается и в договоре Игоревом с греками, когда, как увидим, у нас несомненно уже многие исповедовали святую веру. С другой стороны, известно, что в уставе императора Льва Премудрого (886–912), который был современником нашему князю Олегу, в числе митрополий, подвластных Цареградскому патриарху, упоминается уже на 60 месте митрополия Русская. Но должно сознаться, что она упоминается не во всех списках устава, а только в некоторых, и есть основание думать, что она внесена в некоторые списки этого устава в позднейшее время. А потому несправедливо было бы заключать, будто во дни Олега число христиан у нас увеличилось, так что они составляли особую епархию.
Во дни же преемника Олегова Игоря (912–945) святая вера уже несомненно у нас распространялась. И прежде, еще со времен Аскольдова договора с греками была постоянная связь между греками и нашими предками, так что многие из руссов киевских служили в греческом флоте. Но после договора Олегова, с воцарения Игоря эта связь усилилась: из России ходили в Константинополь целые торговые караваны по Днепру и Черному морю, гости русские оставались жить в Константинополе по нескольку месяцев сряду у монастыря святого Мамы, другие руссы сотнями нанимались в службу греческого императора и провождали в Греции почти всю свою жизнь. Греки, без сомнения, не упускали при этом случая знакомить наших предков со своею верою, как поступили они еще с послами Олеговыми по заключении мира. Между греческими императорами и русскими князьями существовали даже письменные сношения, которые могли служить новым поводом для их подданных к теснейшему сближению в самых понятиях религиозных. Многие руссы, служившие при греческом дворе, действительно принимали там святую веру, и некоторые из них, хотя по временам, возвращаясь в отечество, могли приносить ее и сообщать своим ближним и сродникам. Как бы то ни было, только к концу царствования Игоря, при новом договоре нашем с греками в 944 г. жители России в статьях договора разделяются уже на крещеных и некрещеных, и крещеные везде поставляются даже на первом месте – до такой степени успело возрасти число христиан в нашем отечестве! И летописец, повествуя о присяге великокняжеской дружины по случаю сего договора, замечает, что мнози из самих варягов, обитавших в Киеве, были уже христиане. Еще более: в том же самом месте летописи говорится о киевской церкви святого Илии, где давала присягу христианская Русь, и эта церковь называется соборною. Такое имя заставляет допустить, что в Киеве были тогда и другие церкви, между которыми церковь святого Илии считалась главною, или соборною, предположение, которое, кажется, достаточно подтверждается последующею историею. Дитмар, современник святого Владимира, свидетельствует, что в его время существовало в Киеве более четырехсот храмов, – когда же успели они возникнуть в таком изумительном количестве? Ужели в продолжение каких-нибудь десяти или пятнадцати лет со времени обращения Владимира? Естественнее думать, что они возникали мало-помалу со времен еще Аскольда и Дира или, по крайней мере, Игоря. Существование же храмов и христиан необходимо предполагает существование священнослужителей. Правда, в древнейшей нашей летописи не упоминается ни о каких пастырях у нас до великой княгини Ольги. Но известно, что преподобный Нестор о первых временах нашей истории говорит вообще чрезвычайно кратко и потому нередко умалчивает о таких событиях, которые несомненно были, каково, например, крещение руссов при Аскольде и Дире. Мало того, мы знаем, что преподобный летописец ни слова не сказал и о трех первых наших митрополитах Владимирова княжения, которые были к нему по времени очень близки, ужели ж следует посему усомниться в самом их существовании? Тем неосновательнее заключать из одного только молчания Нестора о событиях, бывших еще до великой княгини Ольги, будто этих событий вовсе не было. Довольно и того одного, если в краткой своей летописи он упомянул, хотя мимоходом, что были тогда в Киеве церкви, между которыми церковь святого Илии считалась соборною: не сказал ли уже он этим, что у нас были тогда и пастыри, по крайней мере пресвитеры и низшее духовенство?
Нельзя здесь оставить без внимания мнения одного ученого, который говорит, будто первые семена христианства посеяли в России варяги, странствовавшие чрез нее из Скандинавии, и, следовательно, не греки, как мы утверждаем. Но это мнение, кроме того что совершенно произвольно, заключает еще в себе несообразность. «Мне кажется, – справедливо заметил другой ученый, – что такие странствующие рыцари столько же мало имели способности, как и желания обращать язычников, и сии последние нигде не показывали столь великой наклонности к христианству, сколь без всякой причины должно предположить в руссах, допуская, что они случайно приняли новую религию от проезжих». Если же в нашей летописи говорится, что многие варяги, обитавшие в Киеве, были христиане, то кто же докажет, что эти варяги принесли святую веру с собою из своего прежнего отечества, а не приняли ее в самом Киеве или Константинополе, где многие из них, служа при дворе императорском, действительно принимали христианство и откуда приносили его потом с собою к нам в Киев.
Много уже было христиан в царстве Русском между древними обитателями страны, между варягами-пришельцами и в самом войске, как видно из договора с греками великого князя Игоря. При всем том. Церковь Христова все еще оставалась у нас как бы в тени и почти незаметною; язычество, по-видимому, покрывало всю Россию и почиталось религиею господствующею, потому что сам великий князь был язычник. Надлежало еще святой вере взойти на великокняжеский престол, стать на этой высокой свещнице, чтобы соделаться видимою от всех и окончательно разогнать мрак идолопоклонства. И вот супруга того же самого великого князя, при котором достигло у нас христианство такой значительной степени, решается сама принять святую веру, посаждает ее с собою на престоле и, если не утверждает ее окончательно в нашем отечестве, зато, по выражению летописца, является в собственном смысле, аки денница пред солнцем, аки заря пред светом.
Глава III. Состояние христианства в царстве Русском при великой княгине Ольге и по смерти ее до обращения великого князя Владимира.
I. Крещение великой княгини Ольги и содействие ее успехам святой веры.
История обращения великой княгини Ольги, весьма простая и общеизвестная сама по себе, немало затемнена разногласиями о ней как древних, так и новейших писателей.
Прежде всего, не соглашаются в мнениях о том, что заставило мудрую княгиню путешествовать в Царьград и там принять святую веру. По словам одних, это случилось потому, что не бяше тогда во стране Рустей благочестию учителя. Но мы видели уже совершенно противное: в Киеве во дни великого князя Игоря существовала соборная церковь святого Илии, указывающая своим именем на существование и других церквей, а при церквах необходимо были и пастыри, из которых каждый мог бы огласить великую княгиню и совершить над нею святое таинство. Теперь заметим, что и Ольга, в частности, имела при себе какого-то папу Григория, без всякого сомнения, лицо духовное – священника или архиерея, который сопутствовал ей в Грецию из России и который сам мог бы крестить ее в Киеве. Столько же неосновательна и другая мысль, будто Ольга, будучи научена вере Христовой от пресвитеров киевских, хотела, но не могла креститься в своей столице, боясь народа, и для того, по данному ей от христиан совету, отправилась в Константинополь. Если в Киеве открыто исповедовали святую веру даже простые жители, имея у себя храмы и пастырей, и народ это терпел, народ не смел восставать на христиан при веротерпимости великого князя, то ужели могла поопасаться народа одна только супруга этого князя? И в какое время? Тогда, когда по смерти Игоря она держала в руках своих самое кормило правления и делала в России все, что хотела; когда своими мудрыми и благодетельными для всего отечества распоряжениями успела уже возбудить к себе всеобщее уважение, любовь и признательность и заставила всех благословлять свое имя. А с другой стороны, если действительно так опасна была партия язычников в Киеве, что самой правительнице государства надлежало идти в чужую землю для принятия крещения, то ужели бы этим опасность предотвратилась? Разве язычники не могли бы восстать против своей княгини по ее возвращении в отечество, узнавши, что она сделалась христианкою? Или зачем бы ей странствовать в отдаленный Царьград, а не креститься в ближайшем христианском городе Херсоне, где также она могла быть безопасною от своего народа? Почему бы не креститься ей и в самом Киеве, только тайно от язычников, что, разумеется, для княгини не составило бы большой трудности? Ольга, говорят третьи, отправлялась в Царьград без всякой мысли о перемене веры, по видам политическим и там уже, пленившись великолепием христианских храмов и христианского богослужения, решилась креститься; или, не определяя с точностию, когда и отчего родилась в ней эта благочестивая решимость, утверждают, будто великая княгиня предпринимала путешествие в Константинополь для одного только внешнего просвещения и образования точно так, как, например, Петр Великий путешествовал в Амстердам, Лондон и Вену. Но обе эти мысли суть произвольные догадки. Какие это были столько важные дела политические (не известные никому), которые могли потребовать личного присутствия великой княгини нашей при дворе византийском? И если они были, разве не могла Ольга послать туда вместо себя сына своего Святослава, достигшего уже совершеннолетия, или отправить послов по примеру супруга своего Игоря, сносившегося с греческими императорами чрез своих полномочных? Если ей самой захотелось побывать в Царьграде из видов политики – зачем было брать ей с собою из Киева папу Григория? Еще страннее, будто женщина в шестьдесят семь лет, всю жизнь свою довольствовавшаяся своим жребием и состоянием, вдруг вздумала искать себе внешнего просвещения и блеска и для этой цели согласилась на путешествие дальнее, трудное и опасное, которое надлежало совершать по Днепру и Черному морю и во время которого нужно было проходить Днепровские пороги, окруженные печенегами. Нет, решиться на такие трудности и самопожертвование могло заставить Ольгу только что-нибудь особенно важное, особенно близкое и священное для ее сердца. Лучше всех других угадал эту особенность и объяснил со своим обычным красноречием наш проницательный историограф. «Ольга, – говорит он, – достигла уже тех лет, когда смертный, удовлетворив главным побуждениям земной деятельности, видит близкий конец ее пред собою и чувствует суетность земного величия. Тогда истинная вера более, нежели когда-нибудь, служит ему опорою или утешением в печальных размышлениях о тленности человека. Ольга была язычница, но имя Бога Вседержителя уже славилось в Киеве. Она могла видеть торжественность обрядов христианства, могла из любопытства беседовать с церковными пастырями и, будучи одарена умом необыкновенным, увериться в святости их учения. Плененная лучом сего нового света, Ольга захотела быть христианкою и сама отправилась в столицу империи и веры греческой, чтобы почерпнуть его в самом источнике». Прибавим к сему, что у великой княгини был еще ближайший руководитель – папа Григорий. Беседуя с нею об истинах веры и судьбах Церкви Христовой, добрый наставник, может быть, не раз переносил мысли своей духовной питомицы в знаменитый Царьград, где существовало тогда христианство во всем своем величии и блеске, не раз рассказывал ей, как великолепны там храмы Божий, как торжественно в них богослужение, особенно в минуты священнодействий самого патриарха, какое обилие там святых мощей, чудотворных икон и вообще всякой христианской святыни. Подобные беседы естественно и незаметно могли возбудить в душе Ольги благочестивое желание узреть все это собственными очами, желание – потом воспитать мало-помалу в твердое намерение и, наконец, соделать такою потребностию сердца, которой противиться уже невозможно, несмотря ни на какие препятствия. Так и ныне: добрые христиане, при всей дряхлости своих лет, презирая все трудности странствования, предпринимают благочестивые путешествия в самые отдаленные места, драгоценные сердцу их по христианской святыне; по такому же влечению путешествовала в Царьград и престарелая Ольга – еще язычница, но уже оглашенная христианством и глубоко убежденная в его божественности и спасительности.
Другой предмет несогласий в истории обращения великой княгини Ольги – тот, точно ли она приняла крещение в Константинополе. Вопреки всеобщему убеждению, некоторые решительно отвергали это событие или, по крайней мере, сомневались в нем, потому что император Константин Багрянородный, современник Ольги, который сам принимал ее при дворе своем и сам же подробно описал все, даже малейшие, подробности приема, ни слова не сказал о ее крещении, тогда как умолчать о таком важном деле казалось бы совершенно невозможным. Но эти ученые опускали из внимания самое простое обстоятельство – то именно, что Константин Багрянородный описывает в своем сочинении только обряд, употреблявшийся при византийском дворе во время приема иностранных послов и, в частности, повторившийся во время приема нашей великой княгини, и что, следовательно, венценосному бытописателю вовсе не уместно было говорить в своем Обряднике о таком происшествии, которое ни в каком смысле не могло быть отнесено к придворному обряду. Между тем, противная мысль – о крещении великой княгини Ольги в Царьграде – имеет все признаки исторической истины. Она подтверждается, с одной стороны, свидетельством нашего отечественного летописца, который жил спустя не более столетия после равноапостольной княгини, сам видел ее святые мощи в Киеве и достоверно мог узнать о ней по живому еще преданию; с другой – свидетельством летописцев византийских: Кедрина, Иоанна Скилицы Куропалата и Зонары, из которых два первые жили также в XI в., а последний в XII, и, наконец, свидетельством одного франкского летописца, едва ли не современника Ольги.
Третье, гораздо более важное, разногласие касается времени, когда крестилась наша великая княгиня: в каком году, при каком императоре и патриархе. У древних наших писателей было об этом весьма много мнений: одни относили крещение ее ко времени императора Иоанна Цимисхия и патриарха Фотия, другие – ко времени того же императора и патриарха Скомодрена, третьи – ко времени императора Константина Багрянородного и патриарха Феофилакта, четвертые – ко времени того же императора и патриарха Полиевкта, указывая, впрочем, почти единодушно на 955 г. Не менее мнений об этом и у писателей новейших, которые, хотя согласно допускают, что крещение Ольги случилось в царствование императора Константина Багрянородного, не соглашаются, однако ж, касательно имени патриарха, совершившего над нею святое таинство, называя его одни Феофилактом, другие Полиевктом, и касательно года события, указывая то на 946, то на 955, то на 956, то на 957. В настоящее время этот запутанный вопрос можно считать окончательно решенным. Основанием для решения послужили некоторые частности в Обряднике Константина Багрянородного, подробно описавшего сделанный им прием нашей княгине, на которые прежде не могли или не хотели обратить надлежащего внимания. Здесь говорится, что Ольга во время пребывания своего в Царьграде была принимаема императором двукратно – 9 сентября, в среду, и 18 октября, в воскресенье. Но во все царствование Константина Багрянородного (945–959) 9 число сентября в среду и 18 октября в воскресенье могли случиться, по пасхальному кругу, только в 946 и 957 годах. Принять первый из этих годов за эпоху крещения нашей великой княгини нельзя, ибо в том же Обряднике повествуется, что император Константин принимал ее не один, а вместе с соправителем своим Романом и что за столом, на котором после обеда предложены были Ольге плоды, сидели с нею дети обоих императоров. Но Роман II сделался соправителем отцу своему Константину, по свидетельству византийцев, не прежде 948 г. и в 946 г. никак еще не мог иметь детей, потому что он сам был еще семилетним дитятею (родился в 939 г.). Следовательно, пребывание и крещение нашей великой княгини Ольги в Константинополе надобно полагать в 957 г. И значит, совершителем над нею святого таинства был не патриарх Феофилакт, скончавшийся в 956 г. 27 февраля, а знаменитый ученостью и добродетелями преемник его Полиевкт.
Наконец, последний вопрос в истории обращения нашей великой княгини Ольги, доселе еще решаемый различно, есть вопрос о том, точно ли наша княгиня по принятии уже крещения в Константинополе посылала послов своих к немецкому императору Отгону I и просила у него епископа и пресвитера, как рассказывают многие западные летописи. Сущность этого рассказа следующая: «В 959 г. послы ругийской княгини Елены (Helenae, reginae Rugorum), которая при Романе, константинопольском императоре, крещена в Константинополе, пришедши к Отгону, коварно, как после открылось, просили у него епископа и священника для своего народа. Вследствие сего в 960 г. монах Либуций поставлен был епископом для ругийцев. Но он, замедливши по обстоятельствам, еще до отправления своего на место скончался в следующем (961) году. Тогда избран был новый епископ – трирский монах Адальберт, который, будучи щедро снабжен от императора всем нужным, немедленно отправился к ругийскому народу. Однако ж, не успевая ни в чем, за чем был послан, и видя напрасными все свои усилия, он в 962 г. возвратился обратно, будучи изгнан язычниками, причем он едва спасся с величайшим трудом от рук их, а некоторые из спутников его были даже убиты». Одни из ученых относят это событие к нашим руссам и к нашей великой княгине Ольге, другие – к ругийцам, жителям острова Рюгена. Но, по всем соображениям, истина, кажется, на стороне первых. Что яснее слов свидетельства и, не забудем, свидетельства современного: в 959 г. послы Елены, княгини ругов, крестившейся в Константинополе при императоре Романе, приходили к Отгону? У нас в это время действительно была княгиня Елена, которая точно уже была крещена, крещена в Константинополе, крещена при императорах Романе и Константине. Если же она названа княгинею ругов, а не руссов – это, без сомнения, описка, потому что в других точно таких же свидетельствах она называется уже княгинею русскою (Ruscorum), послы ее – послами русского народа и Адальберт – епископом России. А у жителей острова Рюгена была ли тогда подобная княгиня? Вовсе не было – была, говорят, и процветала мудростию (920–985) какая-то игуменья Гандергсгеймского монастыря по имени Rhoswilda, Rosvida, иначе Helena von Rossow, которая происходила из благородной, может быть, княжеской Бранденбургской фамилии, состояла в родстве с Отгоном императором и прежде посетила Константинополь, где научилась греческому языку. Но как мало идут к этой Елене резкие и удивительно определенные черты представленного свидетельства! Она, во-первых, не княгиня ругов; была в Константинополе, но неизвестно когда: при Романе ли императоре или в другое время и там ли крестилась или в другом месте. И почему же не хотят разуметь здесь нашу великую княгиню? На основании молчания о сем отечественных летописей? Но в таком случае пришлось бы исключить из русской истории и многие другие достовернейшие события. Представляется невероятным, чтобы Ольга, принявши православную веру в Греции, вздумала просить себе епископа Римской Церкви, и притом чужестранца, тогда как отпадение Запада от Востока уже состоялось, и Ольга могла испросить себе в Царьграде пастырей соплеменных, хорошо знавших язык русский. Но одну только именно эту невероятность и следовало бы отвергнуть в сказании, а не все сказание. Послы нашей княгини могли быть у Оттона по каким-либо делам политическим, а совсем не по делам веры, и Шафенбургская хроника точно замечает, что к Оттону I, когда он с сыном своим праздновал Пасху в Кведлинбурге, в числе других послов: римских, греческих, венецианских, венгерских, польских, болгарских – представлялись и послы русские. Оттон, известный своею необычайною ревностию в распространении римской веры, а вместе с нею и своей власти, узнавши от них, что великая княгиня наша уже крестилась в Константинополе, не мог, по обычной своей склонности и политике, не вмешаться в это дело. Он поспешил послать к нам своих миссионеров и для благовидности мог распространить слух, что послы русские затем к нему и приходили от своей княгини, тогда как они и мысли о том не имели. Подобные поступки со стороны пап и их поборников повторялись очень нередко и в последующее время: сколько сохранилось посланий Римских первосвященников, в которых они писали к нашим князьям: склоняясь на ваши пламенные желания, или: услышав о готовности вашей покориться кафедре святого Петра и т. п., мы посылаем к вам своего посла, которого просим во всем слушаться, тогда как наши князья не только не просили о том папы, напротив, явно ему сопротивлялись! Да если бы Ольга сама испросила себе немецкого епископа, ужели бы она допустила, чтобы его изгнали из России, и с таким бесчестием? Напротив, сие-то обстоятельство и показывает, что Адальберт прислан был к нам без всякой просьбы, неожиданно и против общего желания. Все прочие недоразумения, по которым не соглашаются отнести это событие к нашим руссам, а приписывают ругийцам, разрешаются уже весьма удобно. «Ни один, – говорят, – из западных летописцев не называет сие посольство от великой княгини Ольги, а от Елены». Но Ольга уже и была в то время (т. е. в 959 г.) Еленою, следовательно, эта точность должна напротив служить новою порукою за то, что дело идет о нашей великой княгине. «Если бы это так случилось, то преподобный Нестор, верно, не преминул бы поместить в своей летописи важное известие об отступничестве руссов от христианской веры и покушении на жизнь первого епископа Русской Церкви». Но отступничества здесь не было никакого: Адальберт не был прошен и не был принят епископом в Россию. «Если бы в самом деле наша Ольга перешла в недра католической Церкви, то ужели отступницу от православия причла бы Восточная Церковь к лику святых?» Но, повторяем, отступничества здесь вовсе не было: Римского епископа Ольга не просила, и не приняла, и до конца жизни оставалась самою ревностною блюстительницею православной веры и благочестия. «Адам Бременский, летописец саксонский, исчисляя епископства ругийского апостола Альберта, им основанные, ограничивается городами и землями саксо-славянскими; ни Киевского, ни Новгородского епископства, которое бы подчинено было Альберту, нигде не приводится». Но Альберта у нас не приняли, он не основал у нас ни Киевского, ни Новгородского епископства, потому они и не могли быть подчинены ему. «Кромер преясно говорит, что Адальберт архиепископ 12 лет проповедовал христианскую веру на Эльбе, а не в России; сам папа, возводя его на Магдебургскую митрополию и исчисляя его подвиги, говорит, что он проповедовал за Лабой и Салой соседним славянам, а Адам Бременский исчисляет основанные Альбертом епископства между Эльбой, Эйдером и рекою Пеною, следовательно, все к западу от реки Одера, – там, где обитали ругийцы». Но все это совершил Альберт уже после того, как от нас был изгнан, что преясно видно из слов самого же Дитмара и частик) папы. Значит, отсюда отнюдь не следует, чтобы он к нам не был посылай. Вообще, как ни маловажно в нашей церковной истории это событие, т. е. посольство к нам немецкого епископа Адальберта, но оно, неоспоримо, принадлежит ей и остается памятником того, как рано начались попытки поборников римской веры к распространению на Руси своего влияния.
Рассмотрим теперь еще некоторые обстоятельства в истории обращения нашей великой княгини и перейдем к остальным делам ее христианской жизни.
Урочным временем для прихода русских в Константинополь, по свидетельству Багрянородного, были конец июня и начало июля – в это время, конечно, прибыла туда и Ольга. Первым делом ее в Царьграде было принятие святого крещения. Сам патриарх совершал над нею великое таинство, и сам император воспринимал ее от купели. Когда новопросвещенная, по выходе из святой купели, радовалась душою и телом, святейший патриарх обратился к ней со словом привета и сказал: «Благословенна ты в женах русских за то, что возлюбила свет и оставила тьму; сыны России не престанут благословлять тебя в роды родов, при самых поздних твоих потомках», – и вслед за тем заповедал ей о церковном уставе, молитве, посте, милостыне, чистоте телесной; а блаженная княгиня стояла, преклонив главу и, подобно губе напояемой, принимала учение. Очень вероятно, что вместе с Ольгою крестились и некоторые из спутников ее, а с нею находились родственники и родственницы ее, в том числе племянник, до 10 знаменитейших жен, 18 почетных служительниц, 22 поверенных от русских князей, 43 купца, до 10 чиновников. После крещения Ольга удостоилась почестей, свойственных ее сану: двукратно принимаема была в императорском дворце со всем своим посольством и в честь ее двукратно дан был обед: в первый раз 9 сентября, во второй – 18 октября. Оставаясь столько времени по крещении своем в Царьграде, Ольга успела показать то великое усердие к истинному благочестию, те знаки искренней веры, о которых не преминули заметить греческие историки. Между прочим, она пожертвовала в Софийский собор «великое служебное блюдо», унизанное жемчугом и имевшее внутри драгоценный камень с изображением Спасителя. Пред возвращением в отечество новопросвещенная сочла долгом испросить себе благословение от крестившего ее патриарха, который, напутствуя свою духовную дщерь благословением и наставлениями, вручил ей святой крест со следующею надписью: «Обновися Русская земля к Богу святым крещением, егоже прияла Ольга, благоверная княгиня». Крест этот долго хранился в Киево-Софийском соборе, созданном правнуком ее Ярославом, и стоял в алтаре на десной стране как живой свидетель о достопамятном событии и как святыня, сугубо драгоценная для русских.
По возвращении в отечество Ольга, принявшая святую веру вследствие глубокого, сердечного убеждения в ее святости и спасительности, до самой кончины своей пребыла верною божественному закону и своею благочестивою жизнию, аки луна в нощи, сияла посреди язычников для их духовного просвещения. Первою заботою ее было обратить ко Христу единственного сына своего Святослава, хотя, к прискорбию, все старания ее остались тщетными. Трогательно изображает эту заботливость наша древняя летопись: «Часто, – повествует она, – говорила Ольга сыну своему: я, сын мой, познала Бога и радуюсь; когда познаешь Его и ты, так же возрадуешься. Но Святослав, не внимая сему, говорил: как мне одному принять новый закон, когда дружина моя станет надо мною смеяться? Ольга отвечала ему: если ты примешь крещение, то и все последуют твоему примеру. Но он не слушался своей матери и оставался в идолопоклонстве; он даже гневался на свою мать… Несмотря на то, Ольга не переставала любить сына своего и повторяла: да будет воля Божия! Если Бог восхощет помиловать род мой в Русской земле, то Он вложит ему в сердце обратиться к истине, как и мне явил Он милость свою. И, говоря таким образом, молилась она день и ночь за сына своего и за свой народ». Кроме Святослава, равноапостольная старалась также наставить на путь истины и прочих жителей Киева, и, надобно думать, не бесплодною оставалась ее проповедь – это можем заключать из слов своей летописи, что, хотя Святослав сам не соглашался принять святую веру, однако ж не возбранял принимать ее другим, хотевшим креститься волею. Не ограничиваясь одними киевлянами, благоверная княгиня желала поделиться бесценным сокровищем веры и с прочими обитателями России. С сею целию обтекала она грады и веси по всей земле Русской, проповедуя Евангелие, яко истинная ученица Христова и единоревнительница апостолом, и почему не согласиться нам, хотя и с позднейшим, свидетелем, что многие, дивясь о глаголех ея, ихже николиже прежде слышаша, любезно принимали от уст ея слово Божие и крестились? Не без причины же православная Церковь издревле обыкла именовать Ольгу равноапостольною. Во время этих благочестивых путешествий, продолжает тот же свидетель, на местах, где прежде стояли кумиры идольские, блаженная княгиня поставила кресты и от тех крестов многа знамения и чудеса содевахуся и до сего дне, — мы опять не в праве не верить словам человека, который сам еще видел кресты, поставленные Ольгою в разных местах, о чем, без сомнения, сохранялась память в местных преданиях. Если вспомним здесь, что святая Ольга по крещении своем жила еще около двенадцати лет, то мы в состоянии будем понять, как много могла познакомить она предков наших с истинною верою и таким образом приблизить и подготовить великую эпоху повсемественного распространения христианства в России. Занимаясь воспитанием внуков своих: Владимира, Олега и Ярополка, в то время как отец их Святослав занимался только войною в отдалении от Киева, равноапостольная посеяла первые семена святой веры и в сердцах этих малолетних князей, хотя крестить их не дерзнула, опасаясь своего непокорливого сына. И это насаждение первых семян благочестия в сердце того, кто вскоре просветил христианством всю землю Русскую, есть новый подвиг, за который должны благословлять блаженную Ольгу все русские роды.
Будучи ревностною христианкою и имея у себя пресвитера, Ольга не могла не иметь и церкви. И летопись Иоакимова, точно, приписывает ей построение в Киеве деревянной церкви святой Софии, для которой иконы и иереев будто бы получила наша княгиня от Константинопольского патриарха. Свидетельство хотя и очень сомнительной в глазах некоторых летописи на этот раз оказывается вероятным. Немецкий историк Дитмар говорит как современник, что в 1017 г. во время страшного пожара киевского сгорела, между прочим, церковь святой Софии. Это не могла быть Софийская церковь, построенная Ярославом, как думал наш историограф, потому что Ярослав в 1017 г. только что еще вступил на престол и, будучи занят войною с польским королем Болеславом, не имел времени заняться ее построением. Ярославова Софийская церковь, каменная и великолепная, по словам некоторых летописей, была в этом году только что заложена, а окончена уже в 1037 г. Кроме того, Дитмар продолжает, что в 1018 г. Киевский архиепископ встречал польского короля Болеслава, овладевшего тогда Киевом, в монастыре святой Софии. Значит, что при церкви Софийской, сгоревшей в 1017 г., был и монастырь, который по сгорении самой церкви оставался цел – когда же Ярослав успел бы уже завести при своем Софийском соборе обитель? Кажется, и составитель Никоновой летописи выражает мысль, что во дни великой княгини Ольги существовала Софийская церковь, посвященная Пресвятой Деве Богородице: Ольга, пишет он, умираючи даде село свое Будутино святей Богородице, а святою Богородицею переносно называлась у нас впоследствии именно церковь Софийская в Киеве, равно как в Новгороде, и другие, посвященные Богоматери. Киевский Синопсис, а вслед за тем многие писатели наши полагают, будто Ольга построила в Киеве и церковь святого Николая на могиле Аскольдовой. Но это ошибка: во всех древних списках летописи говорится, что Аскольд погребен был там, где во дни Нестеровы находился Ольмин двор и что на Аскольдовой могиле поставил церковь святого Николая этот самый Ольма, или Альма, которого переписчики легко могли превратить в Ольгу а Иоакимова летопись дает заметить, что во дни Ольги и Святослава церковь святого Николая, построенная Ольмою, уже существовала. Наконец, Степенная книга и некоторые другие наши позднейшие летописи повествуют, что равноапостольная Ольга послала много злата и сребра на создание церкви святыя Живоначальныя Троицы во Пскове – месте ее родины – известие само по себе весьма вероятное, хотя неизвестно откуда почерпнутое.
Провождая, таким образом, жизнь свою в подвигах благочестия, святая Ольга достигла глубокой старости, и «первая от Руси в Царство Небесное вниде». Блаженную кончину ее (в 969 г.) горько оплакали сын ее Святослав, внуки и весь народ, не только христиане, но и самые язычники. При смерти равноапостольная заповедала «послати злато к патриарху», не совершать над нею языческой тризны и погребсти по закону христианскому, и воля ее свято была исполнена: ее похоронил священник христианский на месте, ею самою предназначенном, в присутствии бесчисленного множества народа, сопровождавшего гроб ее до самой могилы. Весьма несправедливо при этом в некоторых из списков нашей летописи замечено, будто святая Ольга содержала у себя пресвитера тайно, во многих других списках, и притом древнейших, слова тайно нет, а сказано только, что Ольга имела у себя пресвитера, который и похоронил ее. И чего было опасаться великой княгине, от кого скрываться? Не скрывалась она от самого Святослава, которого воле все было тогда покорно в России, напротив, часто уговаривала его самого сделаться христианином. И если Святослав в угождение ей не возбранял даже подданным принимать крещение, мог ли он стеснять свободу совести у своей матери? Не забудем также, что со времени крещения Ольги Святослав почти не жил в Киеве, будучи занят непрерывными войнами, и главною правительницею Киева и всего государства, в руках которой находилась почти вся власть, оставалась сама Ольга. Кто ж дерзнул бы запретить ей открытое исповедание той веры, которую открыто, пред всем светом она приняла в Царьграде и которой с таким пламенным усердием держалась? Гораздо естественнее думать, что во весь этот период до блаженной кончины равноапостольной для святой веры было у нас лучшее время, какого прежде еще не бывало.
II. Последующая судьба христианства в России до обращения великого князя Владимира.