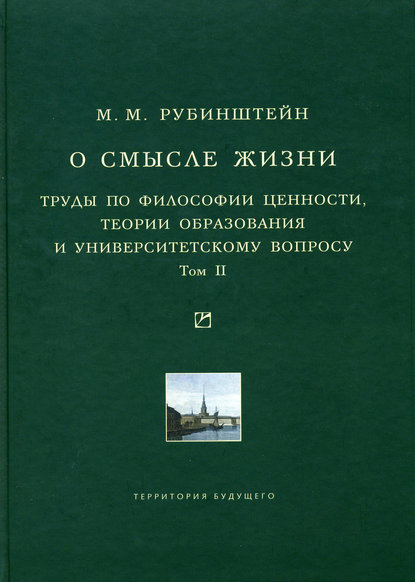По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О смысле жизни. Труды по философии ценности, теории образования и университетскому вопросу. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вообще, чем выше будет личность, чем больше она будет сознавать истину, тем больше оснований у нее при таком делении мира на трансцендентную истинную действительность и явление отказаться от всякой деятельности и интереса к этой жизни, сконцентрировавшись на устремлении в потустороннюю истинную действительность. И это тем более, чем более открывается личности возможность постижения истинной действительности, потому что в предикате «истинная» кроется утверждение высшей ценности этой действительности, и именно разумное существо не может не предпочесть ее миру явлений. Историческое развитие в широком смысле, протекающее целиком в мире явлений, может считаться целесообразным или ценным только в одном отношении – что оно породит сознание ценности истинной действительности и никчемности этого мира. Для перехода же в эту истинную сферу бытия это развитие, с точки зрения личности, не нужно, потому что сколько бы мы ни проявляли деятельности в этом мире во всех направлениях, мы будем все время пребывать в мире явлений. Таким образом до конца проведенное утверждение трансцендентной реальности, лежащей за этой непосредственной действительностью, называемой миром явлений, должно, как мне кажется, привести к крайне нежизненному миросозерцанию.
Не только сторонникам теоретико-познавательного идеализма, но и неокантианцам вообще приходится часто встречаться с упреком в иллюзионизме. По отношению к Риккерту этот упрек объясняется теми недоразумениями, которые связаны с понятием гносеологического субъекта. Противники этой теории концентрируют свое внимание на отрицании трансцендентной реальности и совершенно игнорируют риккертовское понятие гносеологического субъекта. Естественно, что он при этом обращается в обычное понятие субъекта, в него вкладывается характер бытия, и тогда речи о мире как о «содержании сознания» должны неминуемо привести не только к субъективизму, но и к солипсизму.
Но когда идет речь об иллюзионизме, то весь вопрос сводится к тому, чтобы непосредственная действительность, мир в широко эмпирическом смысле не становился чем-то недействительным: тут должно быть сохранено отношение личности к внешнему миру. И мы видели, что и личность, и вся эмпирическая действительность представляют в одинаковой степени имманентное бытие. Речь о трансцендентной реальности идет в данном случае с точки зрения особо выработанного, как гносеологический идеал или задача поставленного субъекта. При этом в результате точка зрения гносеологического идеализма не только не приводит к обращению мира в иллюзию, но, наоборот, как говорит Риккерт,[77 - Ibid. S. 45.] заставляет именно в ней усматривать несомненную действительность и отрицанием трансцендентной реальности лишает нас оснований низводить ее до уровня бытия второй степени, до простого явления вещи в себе.
Но нам говорят: мир имманентный должен базировать на твердой основе трансцендентного, так как только в этом случае его бытие не пустое слово. Но тут мы опять встречаемся с измененным смыслом понятия трансцендентной реальности, который не имеет ничего общего с трансцендентным Риккерта. Это – та реальность, которая изучается так называемыми положительными науками. Философии в этом случае оставалась бы действительно плачевная роль жить обобщением того, что добыто специалистами. Кроме того, я пытался коротко показать, что понятие трансцендентной реальности оказывает, в сущности, плохую услугу нам в обосновании нашей действительности. При этом и аргумент, что мы можем рассматривать личность и ее мир как modus трансцендентной реальности, представляется мне недействительным, потому что трансцендентное или имманентное прорвало где-то, если не везде, отграничивавшие их пределы, и они должны слиться. Или modus substantiae совпадает с явлением непосредственной действительности, и тогда нет оснований говорить о трансцендентности в точном смысле этого понятия, или он не совпадает, но тогда то, что должно быть обосновано, грозит обратиться в тень – хотя бы даже в тень истинной реальности, и из этого вытекают для цельной культурной личности крайне тяжелые выводы.
Но, в сущности, в этой теоретической опоре для поддержания действительности нет никакой нужды. Действительность не нуждается в том, чтобы ее дало знание. Мы просто опять-таки переоцениваем силу знания, интеллекта или его компетенцию. Интеллект пробует обосновать наше знание бытия, а не дать бытие. Это значительно суживает его компетентность, но это же снимает с него тяжести излишних обвинений. Непосредственная действительность дается с несокрушимым убеждением деятельностью, жизнью. Еще Гегель с глубокой проницательностью указывал, что слово Wirklichkeit – действительность – производится от слова wirken – действовать, и в этом приходится видеть не простую игру слов, потому что действительность и по точному значению этого слова дается действием, практикой, приматом жизни.
Что касается истинной действительности, то ее в целом нет, а она творится. Она не есть, а она задана, как полное совмещение чистого содержания и чистой формы, мира фактов и мира ценностей, простого существования и смысла. И божественная искра в человеке выражается деятельным образом в вечном творчестве, реализации мира абсолютных ценностей, смысла в мире фактов простого существования. И тут на место бытия становится более правильное понятие долженствования. Это именно и дает возможность утверждать мир и жизнь, и обосновывать их. И это же ставит более правильно вопрос о религии. В этом случае Бог не в бытии, а его надо видеть в направлении абсолютных ценностей. Тогда такие выражения, как «царство мое не от мира сего», не будут налагать пятна на тот мир, в котором мы живем в действительности, не создадут полной отчужденности его от Божества.
Неубедительной представляется мне также попытка подкрепить стремление в философии к утверждению трансцендентной реальности тем, что сами отдельные науки приводят в конечном счете к ее допущению. Действительно, положительные науки делают в общем целый ряд предпосылок, необходимых в них, но требующих обоснования с точки зрения философского знания. Чем должны быть обоснованы эти предпосылки – на это в них нет прямого указания. Неокантианцы, как мне кажется, с достаточным основанием полагают, что это обоснование дело теории познания. Наличность предпосылок в положительных науках указывает на необходимость, как говорит Виндельбанд, метафизики знания, а не бытия.
Но самое главное, как мне представляется, – тут метафизика должна неизбежно столкнуться самым резким образом и со специальными науками.
В самом деле. Если бы метафизика могла отстоять свое право полагать какую-то трансцендентную реальность в виде истинной действительности, настоящего «корня всех вещей», т. е. действительной пружины всего совершающегося, то тогда не оставалось бы ничего иного, как или совершенно заменить специальные науки метафизикой, или же сделать их ее отдельными ветвями. Знание истинной причинности делает совершенно излишним изучение только являющихся причин. Зная трансцендентную реальность как истинно сущее, бесцельно изучать явления, потому что из знания первого мы получим самое точное и достоверное, абсолютно истинное знание второго. В данном случае можно вполне присоединиться к словам Л. М. Лопатина[78 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. I. С. 143.]: «Или мы знаем природу вещи или не знаем ее. Если знаем, то тем самым[79 - Курсив мой. – М. Р.] знаем и ее возможные действия, ибо в чем же другом выражается ее природа»? Но так же правильно и обратное[80 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. I. С. 143.]: «Утверждать, что явления не выражают действительности, значит признать действительность безусловно непознаваемой». А если явления выражают их действительную сущность, в данном случае – трансцендентную реальность, то и естествознание познает эту сущность. Отсюда получается альтернатива: или излишни специальные науки, потому что метафизика даст знание абсолютной истинной реальности, а знание этого «корня вещей» объяснит и все его явления, так что тяжелые мытарства в сфере явлений в поисках знания станут излишними; или же, познавая явление, мы познаем «корень вещей», и тогда метафизика должна стать частью естествознания, изучающего бытие во всех его областях, а именно его основной дисциплиной, бесповоротно определяющей весь ход и работу специальных наук. Тогда вообще было бы правильнее говорить о метафизике как об основной дисциплине естествознания.
Любопытно отметить, что Риккерт в своих «Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung»[81 - H. Rickert. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung. Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. S. 215 и сл.] говорит, хотя и несколько туманно, о принципиальной возможности такой метафизики, которая ставила бы своей задачей изучать «сущность действительности». При этом фактическая возможность такой теории остается в стороне. Она могла бы, например, попытаться преодолеть имеющийся в сфере имманентного бытия дуализм духа и тела, но тотчас же добавляет, что между ней и естествознанием не было бы никакой принципиальной разницы. Это была бы тоже «Erfahrungswissenschaft» (опытная наука) в широком кантовском смысле этого слова, и между ней и метафизикой как учением о трансцендентной реальности в нашем смысле не было бы ничего общего.
Когда нам указывают на загадку жизни и смерти и справедливо замечают при этом, что эти вопросы не могут не интересовать даже самых легкомысленных людей, а между тем естествознание оказалось бессильным пролить свет на эти таинства, то это не указание на необходимость решения этих вопросов иной наукой: философской метафизикой на основе трансцендентной реальности. Это показывает только, что в естествознании открывается огромный пробел, что оно идет, очевидно, не по абсолютно верному пути. Вероятно, это сознание и порождает такие движения, как современный неовитализм. Может быть, удовлетворительное решение этой проблемы дело времени, а может быть, это приведет естествознание к пересмотру его основ, – мы в философии бессильны сказать что-нибудь в этом вопросе, тем менее может пролить свет на этот вопрос трансцендентная реальность, какой-то Х, не поддающийся определению. Это внутреннее дело естествознания. Может быть, под давлением тяжести этих проблем и пересмотра принципов в естествознании народится новая теория, родственная метафизическим тенденциям, но это будет естественно-научная метафизика, и ее объект будет лежать в той же сфере имманентного бытия, как его понимает гносеологический идеализм. Философия тут совершенно не компетентна. В области абсолютных ценностей ей открывается собственный неоспоримый объект и свой метод. Философия при этом не разбирается с положительными науками, потому что она обосновывает гносеологически необходимые для них предпосылки конститутивного и общеметодологического характера, по содержанию же и сущности эти науки должны решать свои проблемы автономно.
Но, в сущности, самым сокровенным мотивом метафизических попыток построить философию на понятии трансцендентной реальности является искание смысла мира и жизни. Это именно тот мотив, который сплошь и рядом давал повод сторонникам метафизических учений стирать границы между философией и религией, потому что обе они сходятся в этом стремлении понять «общий смысл и конечное назначение»[82 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии.] мира и жизни. При этом знание «конечного назначения» само собой вытекает из понимания общего смысла[83 - На этот же мотив указывает и Риккерт: Zwei Wege der Erkenntnistheorie. S. 36.]. Таким образом целью в данном случае является понимание именно этого общего смысла (Sinnes) мира. На этой цели, безусловно, сходятся и представители гносеологического идеализма, и защитники метафизики. Вопрос сводится в данном случае к тому, может ли трансцендентная реальность как таковая служить этой цели. И тут, как мне кажется, возлагаемые на нее надежды не оправдываются и не могут оправдываться по следующим причинам.
Смысл или разум вещей, ratio rerum, ? ?о?o? ??v ????v, который служил действительным побудителем к допущению трансцендентной реальности, (потому у метафизиков было всегда стремление сблизить эту реальность с понятием Бога) – не заключает в себе никаких указаний или требований, чтобы то, что обосновывает смысл, само было res или ?? o V (бытием). Наоборот, из самого существа вопроса вытекает, что, полагая новое, хотя бы и трансцендентное бытие, мы тем самым не только не разрешаем вопроса, но прибавляем к нему еще более сложную проблему. Одно существование, как и простой факт, остается мертвым. Смысл никогда не вытекает из чистого бытия. Трансцендентная реальность сама по себе может быть индифферентна в этом отношении, по ту сторону смысла и разума; может быть, наконец, как у Шопенгауэра, как раз основанием бессмыслицы. Но уже тут к простому утверждению бытия привступает момент ценности, хотя и отрицательный. Это была бы в лучшем случае причина мира, из которой ничего еще не вытекает относительно его смысла. «Ein Gott, – говорит Мюнстерберг[84 - H. M?nsterberg. Philosophie der Werte: Grundz?ge einer Weltanschauung. S. 423.], – der nichts sein wolte als Naturursache, w?re tats?chlich kein Gott, sondern ein psychophysischer Mechanismus, der selbst in die Naturwissenschaft geh?rt» (Бог, который был бы только причиной природы, был бы на самом деле не Богом, а психофизическим механизмом, который сам принадлежит к области естествознания). Смысл дается только положительным отношением к абсолютным ценностям, а не к абсолютному бытию. Я опять воспользуюсь словами Мюнстербергa[85 - Ibid.], который говорит: «Zur g?ttlichen Offenbarung wird die ?bermenschliche Einwirkung erst, wenn sie neben dem historischen Zusammenhangswert zugleich den ?sthetischen Erf?llungswert und den ethischen Zielwert enth?lt» (сверхчеловеческое воздействие становится Божественным откровением, только если оно наряду с исторической ценностью связи содержит в себе вместе с тем эстетическую ценность выполнения и этическую ценность цели). В этих словах центр тяжести для меня лежит в указании на значение ценностей и в отсутствии момента бытия, потому что понятие воздействия, о котором говорит Мюнстерберг, как раз в разумном отношении может объясняться только отношением к ценностям.
К моменту бытия прибег В. Соловьев в «Критике отвлеченных начал»[86 - Вл. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Соб. соч. II. С. 284.]. Он видит разумность факта во взаимоотношении со всем, в его единстве со всем. Но с этим едва ли можно согласиться, хотя бы уже потому, что если всеединство лишено смысла, то лишено смысла и то, что входит в это всеединство.
Таким образом вопрос о смысле может получить удовлетворительное разрешение только на основе абсолютных ценностей. И лучшим доказательством служит то, что сами метафизики, строящие свою систему на признании трансцендентной реальности, когда они хотят обосновать положительный смысл бытия, видят себя вынужденными прибегнуть в конечном счете к понятию Бога – этому наивысшему совершенству, совокупности абсолютных ценностей. Тогда получается возможность показать с известным правом этот смысл мира, но эта возможность создана не понятием трансцендентной реальности, а введением понятия Бога, в котором в скрытой форме проведено то, что нужно для обоснования смысла: совокупность абсолютных ценностей. Какое бы бытие нами ни полагалось, вопрос о смысле будет только отодвигаться, пока мы так или иначе не введем в систему момент ценностей.
Из знания смысла, как я уже отметил, должно вытекать и понимание конечного назначения. Пусть кто хочет, называет это метафизикой смысла, – дело не в названии, как на это указывает Риккерт[87 - Zwei Wege der Erkenntnistheorie, стр. 36.]. Важно только, что понятие трансцендентного бытия по самому существу не может лечь в основу философского знания и вывести нас на правильный путь.
Небезынтересно отметить, что приблизительно тридцать лет тому назад В. Соловьев высказал в предисловии к «Критике отвлеченных начал» подчеркиваемую и в наше время уверенность, что эпоха критицизма приходит к концу, и находил своевременным пересмотр существующих принципов философского знания. Эти пророчества конца критицизма пока не сбылись, и мне кажется, есть основания полагать, что триумф его противников крайне преждевременен.
ОЧЕРК КОНКРЕТНОГО СПИРИТУАЛИЗМА Л. М. ЛОПАТИНА[88 - Впервые: М. М. Рубинштейн. Очерк конкретного спиритуализма Л. М. Лопатина // Логос. 1911 – 1912. № 2 / 3. С. 243 – 280. Не переиздавалось. (Прим. ред.)]
11 декабря 1911 г. Московское психологическое общество торжественно отпраздновало тридцатилетней юбилей ученой и литературной деятельности Льва Михайловича Лопатина. В речах на этом торжестве справедливо отмечали, что это праздник русской философии. Собрались люди всех направлений включая до тех, против кого горячо боролся юбиляр, чтобы выразить свое признание большому философскому таланту и заслугам юбиляра перед развитием философской мысли в России. Лучшее чествование философа, как и вообще ученого, это изучение его трудов, руководимое сознанием значительности их, стремление разобраться в их ценности, в их историческом месте, чтобы помочь кроющимся в них мыслям разлиться широким оплодотворяющим потоком. Поэтому мы считаем себя вправе смотреть на эту статью как на искренний привет почтенному ученому.
Мы, конечно, должны с первых шагов отказаться от мысли в коротком очерке исчерпать все богатое идейное содержание капитального труда Л. М. или дать исчерпывающую критику его основных положений. Volens-nolens приходится ограничиться в изложении его мыслей общими контурами, а в критической части отметить только то немногое, что обращено к нам наиболее важной стороной с точки зрения философской злободневности. Надо надеяться, что за коротенькими набросками, посвященными Л. М., последует основательное исследование, в котором, несомненно, чувствуется настоятельная нужда. Для нас нет сомнения, что и у Л. М. – в особенности при том темпераменте, с каким он реагировал и реагирует на текущую философскую жизнь, – есть своя – хотя бы и не особенно заметная – линия развития. Сам автор, указывая на значительность пережитого периода[89 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. Предисловие ко 2-му изд. I. С. V и сл.], на важные перемены в своих взглядах, тем не менее подчеркивает: «Я всецело остался при своем прежнем миросозерцании». Хотя Л. М. видит изменения не в том, что сказано, а только в том, как оно сказано, мы все-таки на основании исторического опыта вправе предполагать, что, может быть, эти изменения отозвались отчасти и на содержании. Во всяком случае, и сам автор, и суть дела побуждают обратиться к основному труду Л. М., тем более что в коротенькой статье немыслимо охватить все стороны вопроса и наметить не голословно, а обоснованно линию развития по существу, которую сам автор данного миросозерцания решительно отклоняет. Таким образом я в моем изложении опираюсь главным образом на «Положительные задачи философии», причем в интересах объективности, где, возможно, я буду прибегать к дословным цитатам.
«Положительные задачи философии», основной труд Л. М., распадается на 2 части: первая критикой, тщательным анализом господствовавших во время возникновения этого труда философских систем расчищает путь к положительной собственной теории; вторая часть излагает эту теорию; в первой части обосновывается субъективная необходимость метафизики, во второй – ее объективная необходимость и возможность. При этом необходимо подчеркнуть, что хотя многие из критикуемых Л. М. теорий уступили свои позиции другим, тем не менее эта часть крайне важна для уяснения взглядов Л. М., в особенности того пути, каким он шел. Кроме того, один из отделов, именно III приобретает прямо жгуче современный интерес ввиду того, что в нем Л. М. занимает ярко освещенную позицию по отношению к религиозно-философским вопросам и религиозно-философскому течению.
II
Фихте говорит: какую философию выберешь ты, это зависит от того, что за человек ты. Эта глубоко проницательная мысль приходит в голову, как только мы зададимся вопросом об исходном пункте философствования Л. М. Тут натура этого мыслителя сказалась с необычайной яркостью и выявила целый ряд сокровенных мотивов, которые красной нитью проходят через все труды Л. М. и определяют направление его мышления. Весь уклад мысли Л. М. – резко очерченного метафизического характера, и его духовные запросы повелительно указывают ему в сторону идеалистической метафизики. Метафизические трансцендентные допущения, которых он добивается, это «реальность нашего собственного я», реальность чужого одушевления, какая-то реальность независимого от нас физического мира и какая-то внутренняя связь во всем существующем, независимо от нашей мысли и нашего субъективного сознания[90 - Там же. II. С. XII.] – без этих допущений по Л. М. нельзя жить и нельзя мыслить. Та же мысль встречает нас и в введении ко II тому «Положительных задач философии». Оно особенно ярко показывает нам, с какой непоколебимой верой в смысл мира приступает Л. М. к своим теоретическим выкладкам. Уже беглое знакомство с трудами Л. М. убеждает, что не теория породила эту веру, а сама она в значительной степени родилась из этой веры. Если Кант провозгласил примат практического разума теоретически, на истинно немецкий лад, то в России и у русских этот примат сказывается в виде мощного фактического рычага во всех их размышлениях, в том числе и у Л. М. Показав всю жизненную необходимость этого фактора, Л. М. спрашивает[91 - Там же. С. II.]: «В современном научном миросозерцании можно ли почерпнуть какое-нибудь оправдание для прирожденной человеку веры в нравственный миропорядок? Не трудно заметить, какое огромное расстояние отделяет в этом отношении наши научные понятия о действительности от наших субъективных чаяний». Л. М. с горечью констатирует, что прежние основные начала оказались в наше время сдвинутыми на место каких-то производных понятий. Бог, душа, бессмертие, личность и ее жизнь, смысл мира – все это оказалось на философских задворках; не они объясняют, а их объясняют, и уже эта вводная мысль не оставляет ни на минуту сомнения, на чьей стороне симпатии Л. М. Перед взором Л. М. витает прежнее положение философии как царицы наук, и он с грустью указывает на то, что «в прежние времена философия, несмотря на несомненную фантастичность своих отдельных предположений, сплошь и рядом вдохновляла науку, предвосхищая ее теории и открытия… она шла впереди науки и нередко освещала ей путь. Совсем иначе обстоит дело теперь: философия более всего боится что-нибудь изменить и прибавить к тому, что признала наука»[92 - Л. М. Лопатин. Философские характеристики и речи. С. 89.]. Меж тем эта наука не только не дает всего, но неудовлетворенными остаются, пожалуй, самые интимные запросы развитого человеческого самосознания. А философия, утратив веру в свои силы, жалкая и изможденная плетется в хвосте этого движения, как истая служанка новой госпожи, положительной науки, усматривая свою задачу только в одном: в оправдании основ механического миросозерцания. «Мир эстетически и нравственно бессмысленный, и человек, почему-то страдающий от этого бессмыслия и однако сам представляющий только эфемерную форму бесцельного взаимного перетаскивания физических атомов, – вот окончательный результат механической философии»[93 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. II. С. 15.]. А мы говорим: пессимизм пережит, Шопенгауэр, Гартман отошли в область истории. Что же может быть безрадостнее этого взгляда! И речи о добре, об идеалах, о нравственном достоинстве человека и т. д. звучат убийственной иронией, когда перед глазами неумолимо стоит беспросветная картина бездушного чудовища, именуемого миром. В бессмысленном мире не может быть осмысленной жизни – таков вывод из этого миросозерцания, отрезывающий, в сущности, нить жизни личности. И результат этот есть плод рабского следования философии за положительной наукой. Освободите свою мысль от этих добровольно надетых оков, и перед вами откроется мир, полный смысла, значения и духовности. Тогда вся жизнь личности и мира окрасится в иной цвет.
Это введение во II томе, излагающее как бы эмоциональные и симпатические мотивы мышления Л. М. и апеллирующее собственно ad hominem, к нашему личному чувству и нравственным запросам, производит прямо неотразимое впечатление. Нет сомнения, что тут Л. М. затрагивает самые дорогие струны человеческой души, с захватывающей полнотой и яркостью выдвигает действительные, самые заветные думы всякой развитой личности. Интересно отметить уже тут глубокое сродство, несомненно существующее между Л. М. и немецким мыслителем Лотце. Это сродство, насколько нам известно, никем не отмечавшееся, проявляется с особенной полнотой именно в сфере задушевных чаяний, руководивших думами обоих мыслителей. И Лотце сетует на апологетов т. н. положительной науки и знания за игнорирование запросов души (Gem?ts). Все предисловие к «Mikrokosmus» дышит тем же настроением жажды гармоничного мира. И у Лотце это не только вводная мысль, но и всепроникающая, доминирующая над всем идея. По глубокому убеждению Лотце мы не вправе рассматривать научную теорию, как нечто абсолютно законченное, обособленное, от чего нет никаких связующих нитей к запросам души. Наоборот, первый толчок исходит, по Лотце, всегда из глубины этого первоисточника, и пресловутый раздор науки и философии питается просто преждевременным окончанием исследования области чувственного; Лотце не сомневается, как и Л. М., что доведенное до конца это исследование приведет к признанию сверхчувственного. Но это гармоничное понимание мира достигается не частичными уступками, а тем, что мы уясним, насколько подчиненное положение занимает то назначение, которое должен выполнить механизм в строении мира. С теми же мыслями мы встречаемся и в «Medizinische Psychologie». Такое сродство замечается не только в области этих практических двигательных пружин мышления обоих философов, но далее – они во многом сходятся и в области теоретических рассуждений.
Л. М., руководимый этими мотивами прежде всего протестует против абсолютирования знания положительных наук – грех, в котором, по его мнению, повинны не только эмпиристы, но и кантианцы. Указав на то, что положительное знание вырастает на почве индукции как своего коренного метода, Л. М. приходит к выводу, что в индуктивных обобщениях мы все время вращаемся в круге простых явлений, а в строгом смысле слова явления могут иметь только одно значение, именно – состояние нашей души. Таким образом на этом пути мы неизбежно приходим к выводу, что всякая философия индуктивного характера может признавать только одну действительность – «изменения нашей души, а также приблизительные обобщения их последовательности и сосуществования»[94 - Там же. I. С. 429.]. Но уверенность в существовании чужого я, в бытие других существ, в бесконечном разнообразии мира вне нас убеждает нас в ложности и ненужности этого добровольно налагаемого на себя ограничения и пробивает брешь в субъективном мире в сторону признания объективного, независимого от нас мира.
Так как опыт оказывается не в силах вывести нас за пределы этого заколдованного круга, то нам остается одно – обратиться к двум старым проторенным дорогам: или к умозрительному пути рациональной онтологии, или же к вере, которая дает в акте непосредственного усвоения знание сверхопытных основ бытия. Но второй путь знания непригоден: он смутен, произволен, неубедителен для других, и таким образом остается пойти путем рациональной онтологии, так как «искать философской истины можно только в умозрении».[95 - Там же. С. 431.] «Эмпирический принцип, раскрытый до конца, не опирающейся ни на какое содействие начал умозрительных, приводит к неизбежному отрицанию знания и скептицизму»[96 - Там же. II. С. 2.].
Но, может быть, есть еще иной путь? Может быть, можно удовлетворить те же запросы на почве критически претворенного неполного эмпиризма? Критике последних философских течений Л. М. посвятил много внимания, особенно за последние годы своей деятельности. Развитие немецкой философии после Канта Л. М. называет процессом, богатым блестящими подробностями, но ложным в самом ядре уже по одному тому, что в основе его лежит теория разума Канта, с точки зрения Л. М., «совершенно непримиримая с истинной природой нашего ума и беспочвенная психологически». Это развитие Л. М. считает просто болезненным.
Критикуя современные философские течения кантианского направления, Л. М. выявляет на когенианской разновидности основной, по его мнению, грех современной философии критицизма, а именно, что она кружится в каком-то порочном круге: «Трансцендентальные условия науки обосновывают ее достоверность, но в свою очередь сами принимаются из-за этой достоверности и ею оправдываются, так как в ней заранее убеждены»[97 - Л. М. Лопатин. Философские характеристики и речи. С. 92.]. Но противоречия идут гораздо глубже. Полемизируя с имманентистами, Л. М. указывает на то, что, утверждая данность или заданность чего-либо, мы тем самым объявляем его независимым от нас и с первых же шагов вынуждены нарушать свой собственный основной принцип имманентности. Имманентная точка зрения мыслима по Л. М. последовательно только для intellectus archetypus, потому что она требует, чтобы объект мысли не только «сознавался, но и всецело создавался нашей мыслью». Между тем имманентисты не доказали самого главного, что наши мысли замкнуты и что в них нет ничего, кроме субъективных переживаний, да и никогда не смогут доказать этого, так как это противоречило бы всей природе наших умственных процессов. «Всякая мысль относится к чему-нибудь, к какому-нибудь содержанию… В этом отношении наша мысль всегда обращается с трансцендентным ей, с тем, что лежит за пределами ее субъективной переживаемости. Не видеть этого есть величайшая логическая и гносеологическая слепота», говорит Л. М.[98 - Там же. С. 97.], странным образом отождествляя здесь транссубъективное[99 - Так как понятие транссубъективного можно истолковывать в различном смысле, например, в смысле Фолькельта, Гартмана и т. д., то необходимо подчеркнуть, что я беру его в его непосредственном значении.] с трансцендентным.
Мы здесь подошли к одному вопросу, который заставляет нас на момент прервать само изложение взглядов Л. М., чтобы отметить одно странное недоразумение. Отождествив транссубъективное с трансцендентным, Л. М. энергично настаивает на том, что[100 - Л. М. Лопатин. Философские характеристики и речи. С. 103.] «имманентизм логически мыслим лишь в форме чистого солипсизма, а тогда ясно еще и другое: проблема действительности никак не решается в границах одной гносеологии». Принципиальный вопрос о внутренней связи и взаимном отношении всех вещей, о чужом я решается только на почве онтологии. При таких условиях нет ничего удивительного в утверждении, что мир кантианцев-имманнентистов всех толков это их представление, что на бедных адептов Запада и Канта сыпятся так щедро обвинения в солипсизме. Странно только, что такие обвинения слышатся из уст Л. М.; странно, что у нас все еще приходится подчеркивать, что Кант и кантианцы отрицают трансцендентное (внеопытное) бытие, но никогда и не думали отрицать транссубъективного. Можно, конечно, спорить по поводу того, в праве ли мы пользоваться понятием «сознания вообще», но непростительно отождествлять его с личным сознанием, а без этого отождествления немыслимо и отождествление признаваемого всеми транссубъективного с отрицаемым многими трансцендентным. Когда Л. М. говорит[101 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. I. С. XII.]: «О трансцендентных допущениях и предположениях знания, трансцендентных не в смысле признания чего-нибудь непременно отличного от мира, внешнего ему, а в более простом и гораздо более широком значении того, что различается от наших субъективных переживаний в их фактической наличности, т. е. от наших ощущений и восприятий, от наших желаний и мыслей, от наших понятий и суждений – как нечто данное независимо от них», то ведь ни у Канта, ни у кантианцев нет никакого повода бороться против этого трансцендентного, потому что по кантовской и кантианской терминологии это не трансцендентное, а транссубъективное. И только недоразумением можно объяснить себе, что этот странный взгляд разделяется таким мыслителем, как Л. М.
В общем выводе получается следующее: мир непосредственный слагается у Л. М. из опыта, с одной стороны, и умозрительных начал, с другой. Мир критицистов слагается из того же опыта и сверхсубъективных априорных форм. На первый взгляд может показаться, что тут разница только в названии, но в действительности тут имеется глубокое важное различие. Это априорное объяснимо для Л. М., только как отблеск абсолютного неопытного бытия, для нас – это априори в его необходимости и общеобязательности понятно, только как организация разума в направлении не зависящей от нас формы. И там, и тут независимое от субъекта, но у Л. М. это априорное служит мостиком, переводящим нас в традиционный метафизически мир вещей в себе, у критицистов оно объяснимо гносеологически. И наличность этого априори примиряет Л. М. до некоторой степени с Кантом. Феноменализм Канта Л. М. признает более устойчивым и твердым, но «не говоря уже о чистой гипотетичности его важнейших положений, признаваемый Кантом факт совершенного совпадения между частным содержанием эмпирического материала и априористическими требованиями нашего ума, хотя этот материал доставляется извне и сам по себе ничего общего с какими бы то ни было законами нашего сознания не имеет, является в его философии таким камнем преткновения, о который неизбежно должны разбиться все попытки ясного анализа». Для устранения этого противоречия по Л. М. можно искать или сближения бытия и мышления, или же сблизиться с эмпириками «чрез превращение априорных форм разума в продукт психической организации человечества, образовавшейся под влиянием опытов, которые накоплялись в целом ряде поколений», а это гибель априоризма[102 - Там же. II. С. 19.]. Таким образом уйти от безысходного иллюзионизма можно только, открыто и бесповоротно вступив на почву рациональной онтологии.
Но тут нас встречает сомнение с его правами. Л. М. справедливо отклоняет безысходное сомнение, абсолютный скептицизм, так как он и практически, и теоретически разлагается своей внутренней противоречивостью и становится совершенно немыслимым. Это дает нам безусловное право не считаться с ним. Но есть другое сомнение, блестяще зарекомендовавшее себя в философии Декарта. Оно повелительно требует проверки наших познавательных сил и нашего познавательного пути. Необходимо показать, что умозрительное знание не есть детище одного только желания, но что оно действительно возможно. И Л. М., как мы видели, с первых шагов глубоко убежденный в возможности умозрительного знания и наличности его объекта, видит себя вынужденным пойти именно этим путем анализа знания. Тут возможно, как показывает история новой философии, два пути: докантовская философия шла путем психологического анализа познания, с Кантом и после него возникает гносеология в чистом смысле, которым полагается по существу резкая грань между ней и психологией. И вот Л. М. с обычной для него прямотой и определенностью направляется по первому пути. Как было уже отмечено раньше, Л. М. считает одним из основных недостатков теории разума Канта, что она психологически необоснованна, и вполне понятно, что он обращает особое внимание именно на прочное психологическое обоснование своей собственной теории.
Первым таким этапом на пути к доказательству возможности и действительности умозрительного знания является анализ «различных видов суждений». Возражая Миллю и ассоциативному объяснению суждения, Л. М. настаивает на наличности в наших суждениях активного элемента, на том, что нашему уму принадлежит в данном случае, безусловно, активная роль. Строго говоря, различию объекта и его признаков, необходимого для акта суждения, «нет реального соответствия в непосредственно ощутимых отношениях наших восприятий между собою. С этой точки зрения Кант имел полное основание рассматривать познавательный процесс не как повторение, а как некоторое претворение эмпирического материала»[103 - Там же. С. 34.]. Это показывает, что центр тяжести в суждении перемещается из ассоциативных связей представлений и их перестановки в определенное отношение к ним нашей мысли, и чем отвлеченнее становится мысль, тем больше отступает на второй план элемент представления и тем ярче выделяется «непредставляемый (так сказать, сверхчувственный) момент, устанавливающий весь смысл суждения»[104 - Там же. С. 37.], тем полнее сказывается умопостигаемый элемент нашего мышления.
Но Л. М. идет дальше. Наш ум не только активен, но и номиналистическое объяснение мышления, по которому оно связано единичными представлениями, несостоятельно. Содержание мыслительных процессов нашего ума далеко не исчерпывается простым повторением восприятий, данных опытом, наоборот, в каждом суждении обнаруживаются при внимательном рассмотрении или прямо сверхчувственные идеи, или по меньшей мере сверхчувственные элементы, которые мы с полным правом противопоставим представлениям. Наличность таких идей и элементов стоит очевидно в прямой связи с активной ролью нашего ума в актах суждения. Этот agens открывает нам внимание, о котором Л. М. говорит[105 - Там же. С. 41.]: «Присущая нашему духу сила внимания – вот последний и таинственный источник внутренней разумности наших познавательных операций». Тут Л. М. мог бы сослаться на поучительный пример Вундта, у которого апперцепция сначала почти отождествлялась с вниманием, а затем по мере перевеса интереса к отвлеченной стороне мышления (см. его «Логику») принимала все более сбивчивую отвлеченную форму, направленную именно в сторону активности, так как и Вундт очевидно усматривал в нем до некоторой степени «таинственный источник внутренней разумности наших познавательных операций». Внимание по Л. М. и есть та сила, которая дает нам возможность вырваться из оков чувственных восприятий и подметить в объектах кроящиеся в них идеальные определения.
Таким образом на основе этого анализа Л. М. приходит к решительному отклонению номинализма-субъективизма, так как «гипотеза чистой субъективности разума абсолютно немыслима по своим коренным требованиям»[106 - Там же. С. 45.], а это обозначает, что для Л. М. существуют не только, как для Канта, априорные понятия, но эти понятия «находят действительное соответствие в познаваемых объектах», и при том, добавим мы, со стороны их действительной сущности. Таким образом действительный и ценный багаж нашего духа составляют эти непредставляемые сверхчувственные элементы, так как они дают ему умозрительное содержание, а с ним и знание истинной действительности.
Это указание на активность нашего духа образует, несомненно, в воззрениях Л. М. важный этап его мышления. Настаивая на деятельном участии ума в образовании суждений, Л. М. приходит к выводу, что первое общее условие познавательной деятельности нашего ума «состоит в постоянном присутствии некоторых чисто волевых актов, без которых всякий процесс мысли неизбежно обращается в безотчетные грезы воображения»[107 - Там же. С. 46.]. Л. М. считает правильным говорить в данном случае о волевых актах, так как только понятие воли приложимо для обозначения деятельной силы духа, которой Л. М. придает основное значение. Так как разум или дух наш выполняет в данном случае активную роль, то акты его мы вправе рассматривать как творческие: «В создании наших умственных концепций о вещах мы действительно имеем дело с творчеством особого рода»[108 - Там же. С. 47.]. И чем дальше – в сторону этих умственных концепций, этих «творений» нашего духа, тем больше возможности выявления на данном суждении принципа непосредственной очевидности, тем выше достоверность, так что безусловной достоверностью и всеобщностью могут обладать только наши «идеальные или идейные суждения», а эмпирические лишены как безусловной достоверности, так и полной всеобщности. И то, и другое есть только в умопостигаемом. Итак, «прежде всего в жизни нашего собственного духа мы имеем неистощимый материал для суждений, которые можно назвать идеально-реальными, потому что в них самоочевидным отношениям сознаваемых фактов отвечает их самоочевидная реальность»[109 - Там же. С. 53 и сл.]. В этом различном достоинстве эмпирических и идеально-реальных суждений возрождается выставленное Лейбницем подразделение истин на фактические и вечные. Лейбниц вообще близок и симпатичен Л. М., хотя эта близость у нас была, несомненно, переоценена и не совсем правильно истолкована; но к этому вопросу мы вернемся позже. Эти истины и составляют настоящий объект онтологии.
Вполне естественно, что, говоря о вечных истинах или идеальных, как их называет Л. М., наша мысль направляется на математику, приковывавшую к себе внимание мыслителей всех времен абсолютной достоверностью и общезначимостью своих суждений. Даже старый Платон не мог уйти от соблазна вступить на путь математизирующего мышления. И Л. М., не будучи, по его собственным словам, математиком-специалистом, тем не менее не считает возможным обойти молчанием эту дисциплину. Он видит в ней как бы эмпирическое, фактическое доказательство возможности и существования умозрительных положений, вечных или идеальных истин. В этом вопросе Л. М., как и надо было ожидать, стремится прежде всего занять определенную позицию по отношению к тому обоснованию условий математического знания и его непреложности, которое дал Кант. И Л. М. видит в учении Канта о пространстве и времени очень важное открытие, преградившее раз навсегда путь к догматическому превращению этих форм нашего созерцания в абсолютные качества вещей вне нас. В этом согласии с Кантом, конечно, нет ничего удивительного, так как метафизической спиритуализации мира, к которой стремится Л. М., пространство и время как абсолютные реальности положили бы прямо непреодолимые препятствия, и потому априоризм для Л. М. сам по себе должен представлять большой шаг вперед. Это особенно ярко сказалось в том, что, одобрив позицию Канта – хотя и не во всем, – Л. М. видит априорные элементы не только в области форм, но и содержание, с его точки зрения, по существу дела, не лишено этих априорных элементов. «Основные различия наших ощущений не менее пространственных и временных определений наблюдаемых феноменов выражают изначальные способы нашего воспринимающего существа отвечать на внешние возбуждения. Эти способы не суть порождения опыта, но условия его возможности, потому что все вещи доступны для нашего восприятия лишь настолько, насколько они отразились в свойственных нам ощущениях»[110 - И тут мы не можем не отметить, что Л. М., к сожалению, не разграничивает, идет ли здесь речь о личном опыте или опыте в кантовском смысле. Все изложение заставляет предполагать, что здесь говорится о личном опыте и весь вопрос этим передвигается на совершенно иную почву, чем у Канта. Тут мы еще раз убеждаемся, во что превращается Кант, если его спустить с высот гносеологического идеала, нормы и взять чисто психологически. В последнем смысле априорность может быть сближена с чем хотите, но только не с Кантом. Тут снова витает страшный образ солипсиста, обратившего мир в иллюзию. И как Кант ни защищался в свое время, а этот печальный философский предрассудок живет даже в таком большом философском уме, как Л. М. Как будто в кантовском а priori действительно идет речь о том, что предваряет мой личный опыт! Это было бы не только просто ординарная психологическая проблема, но Кант с его «Критикой чистого (а не какого-нибудь иного – это ведь надо помнить) разума» и все его последователи на протяжении чуть не полутора веков превращаются в наивнейших людей на свете. Таковы плоды понимания кантовской «субъективности» в смысле зауряд-психологии.]. Объяснить чувственное разнообразие всего воспринимаемого нами можно только специфическими способностями нашего духа именно так, а не иначе реагировать на раздражения, идущие из внешнего мира. Дух наш ничего не может воспринять вне пространства и времени, но он также не может воспринять внешний мир, не окрасив его в определенный цвет, не наполнив звуками, запахами, вообще чувственными качествами. «Эти качества в своих специфических особенностях представляют всецелое создание духа»[111 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. II. С. 91.], говорит Л. М., окончательно порывая с Кантом и приближаясь к точке зрения Беркли, – того мыслителя, от смешения с которым старался оградить себя Кант, видя надвигающийся уже действительный призрак иллюзионизма.
Путем таких выкладок Л. М. приходит к заключению, что общеобязательность и общезначимость математики вовсе не нуждается в устанавливаемой Кантом независимости пространства и времени от опыта. «Единственная причина очевидности математических положений должна заключаться именно в том, что Кант решительно отрицает: математические истины представляют продукт не слепых воззрений (т. е. поскольку они от понятия отличаются), а содержательных понятий, в которых воззрение вполне растворилось в мысли»[112 - Там же. С. 93.]. Пространство и время не есть что-либо изначала данное, они продукт сложной психической деятельности. «Априорною в нас можно считать только склонность нашей психической организации все воспринимать в отношениях последовательных или зараз данных рядов»[113 - Там же. С. 97.]. Таким образом математика для Л. М. представляет идеальное, умозрительное знание, «ее коренной метод тот же, как и во всех идеальных утверждениях вообще, ее выводы строятся с помощью очевидного усмотрения познаваемых отношений, формальное правило которого дается нам в законе противоречия»[114 - Там же. С. 100.]. При таком умозрительном характере математики оставался только один последовательный шаг до того сопоставления, в каком она встречается у Л. М.: «Математика и метафизика» – так озаглавлена одна глава второго тома «Положительных задач философии».
Это сопоставление, если бы его можно было оправдать непреложными аргументами, должно было бы окрылить наши надежды на построение системы метафизики. Л. М. и спрашивает со своей точки зрения вполне последовательно, разве умозрение способно достичь прочных результатов только в сфере количественных отношений, и не вправе ли мы пойти дальше и спросить, нет ли связи и аналогии между количеством и другими признаками? Почему мы думаем, что мы не в силах указать условий действительного бытия вообще? Нет ли связи между этими условиями и нашим опытом? А это ставит на очередь вопрос о причинности, потому что в вопросе о реальной обусловленности вещей речь идет именно о ней. Таким образом проблема причинности приобретает решающее значение в вопросе о судьбе метафизики. Нет действия без причины – такова короткая и несложная формула принципа всеобщей обусловленности вещей. Мы придаем характер непреложной истины положению, что в мире нет вещей, несоединенных нитями достаточного основания с другими. Поэтому вопрос о причинной связи затрагивает проблему реальности вещей во всей ее широте: нет причинных связей, нет реальности, нет смысла говорить о ней, потому что всякая реальность обращается в мираж, как только порываются эти причинные связующие нити и возможность воздействия или взаимодействия. «Уже из этих простых соображений ясно, что в вопросе о причинности дело идет о реальности всего нашего познания»[115 - Там же. С. 104.]. К нему мы и обратимся теперь.
Л. М. подвергает подробному разбору теории причинности Юма и Канта, но мы на нем в этом беглом очерке останавливаться не можем. Отметим только, что и по Л. М. последовательность идей совсем не подымает таинственной завесы, скрывающей разгадку причинности, и прежде всего эта последовательность не объясняет внутренней связи идей, заложенной в идее причинности. В результате критического разбора теории Юма Л. М. приходит к выводу, прямо противоположному скептицизму: «Содержание нашего опыта показывает нам, что причинность нельзя рассматривать как чисто субъективное привнесение к его действительно данным; реальное существование причинной зависимости есть подлинный признак феноменального мира»[116 - Там же. С. 123.]. Критика теории Канта приводит Л. М. к тому же выводу. Между прочим, она вся пропитана у него упреками в иллюзионизме. Причинность мыслима по Л. М. только как объективный закон действительности. При этом необходимо отметить, что Л. М. все еще рассматривает вопрос о причинности как однородную проблему, в то время как наше время с большой убедительностью показало, что под общим понятием причинности объединены несколько вопросов, близких, но не сводимых друг на друга.
Каким же путем решается этот вопрос? Из предыдущего ясно уже, что этот путь должен быть прежде всего психологическим. Указывая на современное понимание причинности, объяснимое с точки зрения нашего автора сопоставлением с физическим законом сохранения энергии, Л. М. напоминает о наивном непосредственном сознании, к голосу которого он рекомендует прислушаться в данном случае. Интересны, между прочим, те перипетии, которые приходилось и приходится переживать этому злополучному непосредственному сознанию в философских аргументах. Сколько вотумов недоверия по адресу его, как заведомого грубого обманщика и сколько ссылок на него при случае как на беспристрастного свидетеля! И все это одно и то же непосредственное сознание! Мы знаем, что оно может обманывать нас на каждом шагу, лживость его засвидетельствована с разных сторон, разными науками, не одними философами и прежде всего высоко ценимой метафизиками психологией, и тем не менее в ссылке на него кроется огромная сила, сила непосредственности, от влияния которой трудно освободиться.
Что же говорит нам это непосредственное сознание? Оно широко, абсолютно пользуется вопросами «почему?», оно предполагает только, что у всякого действия есть своя причина, но ничего не говорит о характере их: принцип единообразия ему неизвестен. Тут просто дана непреклонная вера в творческую мощь, причиняющую силу всего, не справляясь о том, однородны ли причина и действие, существует ли единообразие или нет. Но это еще не все. То же непосредственное сознание идет дальше так называемого научного понимания, внося в свою концепцию причинности активность. Ему совершенно чуждо признание абсолютной предопределенности всего. «В обыкновенном понятии о причинности, – говорит Л. М.[117 - Там же. С. 108.], – не только не содержится этой идеи о неизбежном предопределении, но наблюдается черта прямо противоположная: истинная причина есть то, что доподлинно носит в себе положительную мощь своего действия… Для такого взгляда подлинная причинность есть признак существ, действующих самобытно; напротив, мысль о бесконечном продолжении действия, всегда себе равного, несмотря на внешнее разнообразие форм (в этом принцип механической причинности), не есть указание причины, а только ее удаление в неограниченное прошлое».
Таким образом непосредственное сознание, исключая предопределенность и принцип единообразия, определенно выдвигает на первый план реальную связь между причиной и действием. В этом Л. М. видит основной общий признак нашей концепции причинности, а такая реальная связь в свою очередь немыслима без некоторого активно связующего нечто; всякое событие в мире мы рассматриваем как чье-нибудь действие. «Идея производящей деятельности – вот корень всех наших представлений о причинах»[118 - Там же. С. 146.]. Источником такого понимания является наше чувство своего собственного я. Там для нас все активность, поскольку мы ее приписываем себе. И для Л. М. воля – кардинальное явление психической жизни, налагающее яркий отпечаток активности на всю жизнь души. Л. М. в данном случае идет рука об руку с волюнтаризмом. Он начинает с ссылки на Мэн-де-Бирана. Одобряя близкое ему ядро в теории этого французского мыслителя, Л. М. не удовлетворяется тем, что Мэн-де-Биран, оставаясь верным традициям картезианской философии, остановился на резком дроблении душевной жизни на две области: безличных пассивных состояний чувственности и волевой активности в ее внутренних и внешних проявлениях. Л. М. идет дальше: такой полуактивизм не свойственен ему. Он указывает на дальнейшее развитие этой мысли у классиков послекантовской философии, отмечает всеобъемлющую волю Шопенгауэра, переходит к волюнтаризму Вундта и указывает на его учение об апперцепции. Эта активность внутреннего мира представляется ему самоочевидным, неоспоримым фактом. В психическом существовании нигде нельзя отыскать равнодушной инерции механических процессов. «Наша духовная жизнь представляет несомненную картину взаимодействия субъективного и объективного, я и не-я»[119 - Там же. С. 150.].
Как путь психологический, этот путь, несомненно, вполне последователен, но удивительно, что Л. М., подвергнув эти теории отрицательной критике, в речах о своих предшественниках в этой теории совершенно не упоминает о том месте в «Трактате» Юма[120 - Д. Юм. Трактат о человеческой природе. С. 71, 73.], где он указываете на волю как на источник идеи силы или производящей энергии и дает интересную оценку этой мысли для разрешения вопроса о причинности – оценку, которая, на наш взгляд, заслуживает и теперь внимания мыслителей, идущих в разрешении этого вопроса психологическим путем.
Но нашей активностью психология наших переживаний не исчерпывается, говорит Л. М. Мы в нашей деятельности постоянно встречаемся с сопротивлением внутренних и внешних условий нашего психического существования, и так эта деятельность и укладывается в нашем сознании. Раскрывая эту мысль, мы должны прийти к выводу, что мы в своей деятельности непосредственно знакомимся не только с собственными актами, но и воспринимаем действия, совершаемые не нами. Таким образом «мы не только свое, но и чужое действие воспринимаем непосредственно. Испытывая свою реальность, мы через это самое испытываем реальность внешнего мира»[121 - Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии. II. С. 152.]. Все это дает нам право усматривать в непосредственно сознаваемой причинности основной общий факт, обнимающий весь внутренний опыт. Мы каждую секунду переживаем непрерывное взаимодействие нашего субъекта с окружающими его объектами. У нас есть все основания признать за показаниями этого внутреннего опыта самоочевидность.
Но далее сам Л. М. говорит, что это психологическое обоснование не дает всего, не дает логического обоснования. Ведь этот внутренний опыт обманывает нас во многом. И прежде всего мы встречаемся с опасением: а что если все это только кажется нам так, что если на самом деле все обстоит иначе? Раздумывая над этим, говорит Л. М., мы приходим к выводу, что слово «казаться» совершенно неприменимо к нашей психической жизни как к таковой. Если я чувствую боль, ощущаю удовольствие, то в этом нет ничего кажущегося. Эта действительность не подлежит ни малейшему сомнению.
Все в этой сфере активно. Активное – это волевое, но воля немыслима без сознания. Таким образом между сознанием и активными состояниями нашей души нет посредника, нет передаточных ощущений, нет никакой преломляющей среды; а они связаны непосредственно. Эта непосредственная связь активных состояний с сознанием приводит нас к признанию активности духа за первоначальный факт нашего сознания. Но активность неразрывно связана с реальной связью, а реальная связь составляет ядро причинности, т. е. «где активность, там причинность… Итак, причинность представляет не кажущееся только, но действительное содержание нашего самочувствия»[122 - Там же. С. 160.]. Следующее соображение ведет нас дальше: причинность немыслима без реальной связи, а реальная связь немыслима без действия, действие же, немыслимое без противодействия, предполагает некоторое определенное содержание опыта; таким образом формальное объяснение принципа причинности становится уже немыслимым. Как всеобщий закон он только отвлечение от нашего живого воззрения. «Познание причинности как закона бытия есть результат широкого обобщающего процесса, но чтобы этот процесс мог состояться, необходимо присутствие в сознании отдельных случаев ее реализации»[123 - Там же. С. 162.].
Но не есть ли сознание группа явлений психического порядка и не исчерпывается ли этим его бытие просто как явление? На этот вопрос Л. М. дает такой ответ: в понятии сознания предполагается отношение сознающего и сознаваемого, иначе речь о сознании теряет всякий смысл; но это отношение сознающего и сознаваемого, субъекта и объекта возможно, как мы видели раньше, только в форме взаимодействия, т. е. в сознании необходимо встречаются две реальные деятельности. Это дает нам прямо говорить о сознании с субъективной точки зрения как о самодеятельности – «собственный акт того, что сознает, Tathandlung Фихте», добавляет Л. М.[124 - Там же. С. 165.], и это указание на Фихте не лишено известного значения – с объективной точки зрения оно есть усвоение внешнего действия. Таким образом самодеятельность сознания это яркий вполне достоверный показатель бытия нашего духа и наличности независимого от нас фактора, т. е. мира. Итак, закон причинности «представляет объективный реальный закон нашей психической жизни, и только в силу этого он усваивается нашим сознанием как субъективное правило мышления»[125 - Там же. С. 181.].
Но тот же принцип, как уже было коротко намечено, выводит нас за пределы нашей психики. Закон причинности – всеобщий мировой закон, вне которого все становится немыслимым. Как это обосновывается? Простое перенесение принципа причинности из сферы субъективной на объективную Л. М. справедливо называет «олицетворением». Может быть, именно потому он и называет попытку Мэн-де-Бирана объяснить его особым видом психологической индукции отказом от обоснования. И тут Л. М. ищет «рационального оправдания, закона причинности»[126 - Там же. С. 183.], усматривая его прежде всего опять-таки в психологической, а затем и логической аргументации.
Источником закона причинной связи для Л. М. служит не что иное, как закон тождества. Он указывает на тот факт, что тождество вовлекает нас собственно в противоречие, так как вещь совмещает в себе ряд признаков и свое изменение, нарушающее это тождество. Последнее сохраняется тем, что вводится понятие изменения, а с ним и идея причинной связи. Закон причинности таким образом «есть закон тождества, но прилагаемый к вещам не формально-рассудочно, а диалектически». В диалектическом процессе по Л. М. мысль направляется от абстрактного понимания к всеобъемлющему и целостному. Разум наш на этом пути не отказывается от утверждения тождества сущего с самим собой, но это тождество он совмещает с помощью идеи деятельного процесса, объединяющего в себе единство бытия и многообразие его проявлений. Такие попытки слияния этих двух законов и выведения закона причинности из закона тождества делались не раз, как указывает и сам автор, критикуя из новых мыслителей Риля.
Обобщая все сказанное и отвергнув попытку приравнять закон причинности к закону сохранения энергии, вообще найдя немыслимым исчерпать его механическими отношениями, Л. М. приходит к выводу, что принцип причинности можно выразить в почти тавтологической форме, и в этом наш философ готов видеть некоторое подтверждение его очевидного и бесспорного характера. «Весь смысл закона причинности заключается в утверждаемом им отношении всякого явления к осуществляющейся в нем деятельной мощи»[127 - Там же. С. 205.]. Если мы назовем эту деятельную мощь, силу субстанцией, то тогда функции закона причинности двояки: им определяются отношение субстанции к их явлениям и связи, соединяющие отдельные состояния познаваемых предметов. «Полагая бытие чего-нибудь, мы тем самым признаем в нем причинность… В мысли о причинности мы раздельно понимаем то самое, что подразумевательно и слитно, хотя и неизбежно, усваиваем в мысли о бытии»[128 - Там же. С. 235.]. Этот закон и есть коренная умозрительная истина, «идеально-реальная» истина, открывающая у Л. М. простор метафизики. Открыв закон причинности в этом его всеобщем значении, Л. М. считает главную трудность разрешенной: метафизика возможна и необходима, потому что этот принцип дает нам возможность изучать «общие начала действительности», потому что «в необходимо мыслимых внутренних моментах причинных отношений мы уже обладаем целою системою онтологических понятий». Тут перед нами теоретический базис всей метафизической теории Л. М. На этом пути устанавливается субстанциальная природа сознающего субъекта и гарантируется существование и знание вещей в себе и т. д.[129 - Небезынтересно отметить, что у нас в последнее время очень любят указывать в этом пункте творческой причинности на близость Лопатина и Вундта. Не трудно уже в беглом очерке убедиться, что эта близость далеко не так велика, как это кажется сторонникам этого взгляда: под общим термином они понимают разное, а именно: в то время как у Л. М. это метафизический закон, метафизическое начало, Вундт видит в нем только эмпирический принцип, т. е. формулу, характеризующую отношения эмпирических психических явлений. Он энергично подчеркивает, что этот закон не дает ни малейшего права выходить за пределы опыта. Помимо общего смысла и ясных указаний это видно хотя бы из того уже, что Вундт сравнивает и сопоставляет этот принцип с естественно-научным принципом сохранения энергии. См. W. Wundt. Grundz?ge der physiologischen Psychologie. III. S. 757.]