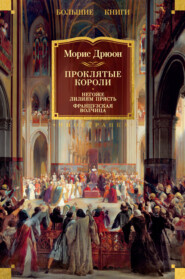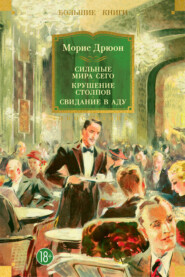По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Узница Шато-Гайара
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Десять лет спустя Филипп-Август вместе с прочими нормандскими землями отобрал у Ричарда и его любимую крепость.
С тех пор Шато-Гайар перестала быть военной крепостью, ее превратили в королевскую тюрьму.
Здесь заточали важных государственных преступников, чью жизнь король желал сохранить ценой вечного лишения свободы. Тому, за кем убирали подъемный мост Шато-Гайара, уже никогда не суждено было увидеть белый свет.
Целый день над башнями с карканьем кружилось воронье; зимними ночами у подножия крепости выли волки. Только направляясь в часовню слушать мессу, узник ненадолго покидал свою темницу и по окончании службы вновь возвращался туда, где ждала его смерть.
Ныне – в последнее утро ноября 1314 года – крепость Шато-Гайар со всеми ее укреплениями служила местом заключения для двух принцесс, и вся стража зорко стерегла двух женщин – одной из которых минул двадцать один год, а другой восемнадцать, – двух кузин, Маргариту и Бланку Бургундских, бывших жен сыновей Филиппа Красивого, уличенных в прелюбодеянии с королевскими конюшими и заточенных после неслыханного еще при дворе Франции скандала здесь навеки.
Часовня помещалась внутри второго кольца укреплений. Была она высечена в самой скале, там царил мрак, там царил холод: два-три окошка да голые стены.
Перед алтарем стояло всего лишь три сиденья: два слева предназначались для принцесс и одно справа – для коменданта крепости.
В это утро в глубине часовни выстроилась стража, на лицах лучников застыло привычное выражение скуки, словно их отрядили за фуражом для коней.
– Братия, – возгласил капеллан, – вознесем моления свои с особым благочестием и рвением.
Он откашлялся, помолчал немного, как будто та важная весть, что собирался он сообщить своей немногочисленной пастве, повергала и его самого в смятение.
– Господь Бог призвал к себе нашего возлюбленного короля Филиппа, – начал он. – Печаль великая над всем королевством.
Обе принцессы разом повернули друг к другу свои личики, полускрытые оборками чепцов из небеленого холста.
– Пусть те, кто хулил или порицал его, раскаются в сердце своем, – продолжал капеллан, – пусть те, кто таил при жизни обиду против него, вознесут заупокойные моления об усопшем, ибо любой человек, велик ли он или ничтожен, равно нуждается в милосердии, представ перед судом Господним…
Принцессы упали на колени и склонили голову, желая скрыть свою радость. Они уже не чувствовали холода, они забыли обо всех своих страхах и бедах: безбрежная волна надежды оживила их сердца; и если они обращались сейчас к Богу, то лишь затем, чтобы возблагодарить Создателя, избавившего их от свекра-тирана. Впервые за семь месяцев, прошедших со дня их заключения в Шато-Гайаре, к ним дошла с воли добрая весть.
Стражники, толпившиеся в глубине часовни, перешептывались, задавали друг другу вполголоса вопросы, переминались с ноги на ногу – словом, подняли вовсе не подобающий случаю шум.
– А вдруг возьмут да выдадут нам по медному грошу?
– С какой это радости – оттого, что король помер?
– Да мне говорили, так принято.
– Держи карман шире, за мертвого ничего не дадут, вот, может, за нового помазанника еще раскошелятся.
– А как звать нового короля?
– Людовик Святой был по счету девятый, стало быть, выходит, наш будет зваться Людовиком Десятым.
– А будет он хоть воевать? Надоело в этой дыре сидеть без толку!
Комендант крепости обернулся и грубо приказал:
– Молиться!
Но и самого коменданта терзали заботы. Ибо старшая из вверенных ему узниц приходилась супругой его величеству Людовику Наваррскому, восшедшему ныне на престол. «Вот теперь и стереги королеву Франции», – думал про себя комендант крепости.
Не так-то просто состоять тюремщиком при особах царствующего дома, и, пожалуй, самые скверные часы в своей жизни провел комендант Робер Берсюме по милости двух наголо обритых узниц, которых доставили сюда в конце апреля под эскортом сотни лучников во главе с Аленом де Пареем, на повозках, обтянутых черной материей. Пусть польщено тщеславие, но зато сколько тревог, сколько хлопот! Две молодые женщины, такие молодые, что, как бы они там ни нагрешили, невольно поддаешься чувству жалости… и красивые, даже в уродливых своих рубищах, такие красивые, что трудно, встречаясь с ними изо дня в день в течение семи месяцев, сохранять спокойствие. Соблазнят ли они кого-нибудь из стражников, убегут ли из темницы, повесится ли одна из них, подцепят ли обе какую-нибудь смертельную болезнь, или внезапно произойдет в их судьбе неожиданный поворот (с этими придворными интригами всего жди!) – во всех случаях виноват будет он, виноват, что обращался с ними слишком сурово или, наоборот, слишком мирволил им, – словом, покуда они здесь, на повышение в должности можно не рассчитывать. А ведь ему, как и капеллану, узницам и стражникам, ничуть не улыбается мысль окончить свои дни и свою карьеру в этой цитадели, обвеваемой всеми ветрами, окутанной всеми туманами, построенной с расчетом на две тысячи солдат и насчитывающей в своих стенах только полтораста, в этой цитадели, возвышающейся над долиной Сены, в проклятом этом краю, где даже война обходит их стороной.
«Тюремщик королевы Франции, – твердил про себя комендант, – этого только недоставало».
Никто не молился, но каждый с самой богомольной миной следил за службой, думая о себе и о своих делах.
– Requiem oeternam dona eis domine…[2 - Вечный покой дай ему, Господи… (лат.)] – выводил капеллан нараспев.
Творя заупокойные молитвы, капеллан с неистовой завистью думал о счастливой доле тех священнослужителей, что, облачившись в богатые ризы, отправляют сейчас ту же заупокойную службу под гулкими сводами собора Парижской Богоматери. Опальный доминиканец, мечтавший в свое время занять пост Великого инквизитора, печально оканчивал свои дни в качестве капеллана при узилище. И он тоже спрашивал себя, не переменится ли к лучшему при новом царствовании его злосчастная судьба.
– Et lux perpetua luceat eis…[3 - О свете немеркнущий… (лат.)] – подхватил комендант крепости, с завистью представляя себе, как гарцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парей, капитан королевских лучников.
– Requiem oeternam… Выходит, даже по чарочке не поднесут? – спросил вполголоса стражник по прозвищу Толстый Гийом у помощника коменданта Лалена.
А две пленные принцессы старались не проронить ни слова, боясь выдать свою великую радость.
Конечно, в этот день во многих церквах Франции многие люди искренне оплакивали кончину короля Филиппа, но большинство не сумели бы даже объяснить, какое именно чувство источает из их глаз слезы: просто они хоронили короля, под властью которого жили, и вместе с ушедшим королем ушла их молодость.
Но не в тюрьме Шато-Гайар следовало искать подобные чувства.
Едва лишь заупокойная месса окончилась, Маргарита Бургундская первая шагнула к коменданту.
– Мессир Берсюме, я желала бы поговорить с вами о весьма важных предметах, касающихся и вас лично, – произнесла она, пристально глядя ему в глаза.
Когда Маргарита Бургундская погружала свой взгляд в зрачки тюремщика, он всякий раз испытывал непонятное смущение, а сегодня и подавно.
Берсюме невольно потупил глаза.
– Я выслушаю вас позже, мадам, – сказал он, – только обойду дозором крепость и сменю караул.
Потом, обратясь к своему помощнику Лалену, приказал ему препроводить принцесс обратно в башню и, понизив голос до полушепота, велел вести себя сугубо осторожно.
В башне, служившей узилищем Маргарите и Бланке, имелись всего три высокие круглые залы, расположенные друг над другом и схожие до мелочей, – в каждой был камин с колпаком, сводчатый потолок покоился на восьми арках; комнаты эти были связаны между собой винтовой лестницей, проложенной в толще стены. В нижней зале дежурила стража – та самая стража, которая доставляла капитану Берсюме столько тревог и забот, которую приходилось сменять каждые шесть часов и которую, к великому его ужасу, в любое время могли подкупить, ввести в соблазн или одурачить. Маргариту держали в зале второго этажа, а Бланку – третьего. На ночь запиралась крепкая дверь на середине лестницы, разделявшая покои принцесс, в дневное же время им было дано право общаться между собой.
Когда Лален ввел узниц в башню, они не обменялись ни словом, обе ждали, чтобы затих шум его шагов, привычный скрип петель и скрежет замков.
Только тогда они осмелились переглянуться и в невольном порыве бросились в объятия друг другу.
– Умер! Умер! – сорвался с их губ ликующий крик.
Счастливый смех сменялся рыданиями, они кричали, обнимались, плясали от радости и твердили:
– Умер! Умер!
Затем обе сорвали ненавистные холщовые чепцы и с облегчением тряхнули короткими кудрями, не успевшими еще отрасти за полгода тюремного заключения.
Черные колечки вились вокруг лба Маргариты. Густые неровные пряди цвета соломы покрывали головку Бланки. Она провела ладонью по непокорным волосам, откидывая их со лба на затылок, и, вопросительно взглянув на кузину, воскликнула:
– Зеркало! Первым делом я хочу, чтобы мне дали зеркало! Скажи, Маргарита, я по-прежнему хорошенькая или нет?
С тех пор Шато-Гайар перестала быть военной крепостью, ее превратили в королевскую тюрьму.
Здесь заточали важных государственных преступников, чью жизнь король желал сохранить ценой вечного лишения свободы. Тому, за кем убирали подъемный мост Шато-Гайара, уже никогда не суждено было увидеть белый свет.
Целый день над башнями с карканьем кружилось воронье; зимними ночами у подножия крепости выли волки. Только направляясь в часовню слушать мессу, узник ненадолго покидал свою темницу и по окончании службы вновь возвращался туда, где ждала его смерть.
Ныне – в последнее утро ноября 1314 года – крепость Шато-Гайар со всеми ее укреплениями служила местом заключения для двух принцесс, и вся стража зорко стерегла двух женщин – одной из которых минул двадцать один год, а другой восемнадцать, – двух кузин, Маргариту и Бланку Бургундских, бывших жен сыновей Филиппа Красивого, уличенных в прелюбодеянии с королевскими конюшими и заточенных после неслыханного еще при дворе Франции скандала здесь навеки.
Часовня помещалась внутри второго кольца укреплений. Была она высечена в самой скале, там царил мрак, там царил холод: два-три окошка да голые стены.
Перед алтарем стояло всего лишь три сиденья: два слева предназначались для принцесс и одно справа – для коменданта крепости.
В это утро в глубине часовни выстроилась стража, на лицах лучников застыло привычное выражение скуки, словно их отрядили за фуражом для коней.
– Братия, – возгласил капеллан, – вознесем моления свои с особым благочестием и рвением.
Он откашлялся, помолчал немного, как будто та важная весть, что собирался он сообщить своей немногочисленной пастве, повергала и его самого в смятение.
– Господь Бог призвал к себе нашего возлюбленного короля Филиппа, – начал он. – Печаль великая над всем королевством.
Обе принцессы разом повернули друг к другу свои личики, полускрытые оборками чепцов из небеленого холста.
– Пусть те, кто хулил или порицал его, раскаются в сердце своем, – продолжал капеллан, – пусть те, кто таил при жизни обиду против него, вознесут заупокойные моления об усопшем, ибо любой человек, велик ли он или ничтожен, равно нуждается в милосердии, представ перед судом Господним…
Принцессы упали на колени и склонили голову, желая скрыть свою радость. Они уже не чувствовали холода, они забыли обо всех своих страхах и бедах: безбрежная волна надежды оживила их сердца; и если они обращались сейчас к Богу, то лишь затем, чтобы возблагодарить Создателя, избавившего их от свекра-тирана. Впервые за семь месяцев, прошедших со дня их заключения в Шато-Гайаре, к ним дошла с воли добрая весть.
Стражники, толпившиеся в глубине часовни, перешептывались, задавали друг другу вполголоса вопросы, переминались с ноги на ногу – словом, подняли вовсе не подобающий случаю шум.
– А вдруг возьмут да выдадут нам по медному грошу?
– С какой это радости – оттого, что король помер?
– Да мне говорили, так принято.
– Держи карман шире, за мертвого ничего не дадут, вот, может, за нового помазанника еще раскошелятся.
– А как звать нового короля?
– Людовик Святой был по счету девятый, стало быть, выходит, наш будет зваться Людовиком Десятым.
– А будет он хоть воевать? Надоело в этой дыре сидеть без толку!
Комендант крепости обернулся и грубо приказал:
– Молиться!
Но и самого коменданта терзали заботы. Ибо старшая из вверенных ему узниц приходилась супругой его величеству Людовику Наваррскому, восшедшему ныне на престол. «Вот теперь и стереги королеву Франции», – думал про себя комендант крепости.
Не так-то просто состоять тюремщиком при особах царствующего дома, и, пожалуй, самые скверные часы в своей жизни провел комендант Робер Берсюме по милости двух наголо обритых узниц, которых доставили сюда в конце апреля под эскортом сотни лучников во главе с Аленом де Пареем, на повозках, обтянутых черной материей. Пусть польщено тщеславие, но зато сколько тревог, сколько хлопот! Две молодые женщины, такие молодые, что, как бы они там ни нагрешили, невольно поддаешься чувству жалости… и красивые, даже в уродливых своих рубищах, такие красивые, что трудно, встречаясь с ними изо дня в день в течение семи месяцев, сохранять спокойствие. Соблазнят ли они кого-нибудь из стражников, убегут ли из темницы, повесится ли одна из них, подцепят ли обе какую-нибудь смертельную болезнь, или внезапно произойдет в их судьбе неожиданный поворот (с этими придворными интригами всего жди!) – во всех случаях виноват будет он, виноват, что обращался с ними слишком сурово или, наоборот, слишком мирволил им, – словом, покуда они здесь, на повышение в должности можно не рассчитывать. А ведь ему, как и капеллану, узницам и стражникам, ничуть не улыбается мысль окончить свои дни и свою карьеру в этой цитадели, обвеваемой всеми ветрами, окутанной всеми туманами, построенной с расчетом на две тысячи солдат и насчитывающей в своих стенах только полтораста, в этой цитадели, возвышающейся над долиной Сены, в проклятом этом краю, где даже война обходит их стороной.
«Тюремщик королевы Франции, – твердил про себя комендант, – этого только недоставало».
Никто не молился, но каждый с самой богомольной миной следил за службой, думая о себе и о своих делах.
– Requiem oeternam dona eis domine…[2 - Вечный покой дай ему, Господи… (лат.)] – выводил капеллан нараспев.
Творя заупокойные молитвы, капеллан с неистовой завистью думал о счастливой доле тех священнослужителей, что, облачившись в богатые ризы, отправляют сейчас ту же заупокойную службу под гулкими сводами собора Парижской Богоматери. Опальный доминиканец, мечтавший в свое время занять пост Великого инквизитора, печально оканчивал свои дни в качестве капеллана при узилище. И он тоже спрашивал себя, не переменится ли к лучшему при новом царствовании его злосчастная судьба.
– Et lux perpetua luceat eis…[3 - О свете немеркнущий… (лат.)] – подхватил комендант крепости, с завистью представляя себе, как гарцует сейчас на коне во главе погребальной процессии счастливчик Ален де Парей, капитан королевских лучников.
– Requiem oeternam… Выходит, даже по чарочке не поднесут? – спросил вполголоса стражник по прозвищу Толстый Гийом у помощника коменданта Лалена.
А две пленные принцессы старались не проронить ни слова, боясь выдать свою великую радость.
Конечно, в этот день во многих церквах Франции многие люди искренне оплакивали кончину короля Филиппа, но большинство не сумели бы даже объяснить, какое именно чувство источает из их глаз слезы: просто они хоронили короля, под властью которого жили, и вместе с ушедшим королем ушла их молодость.
Но не в тюрьме Шато-Гайар следовало искать подобные чувства.
Едва лишь заупокойная месса окончилась, Маргарита Бургундская первая шагнула к коменданту.
– Мессир Берсюме, я желала бы поговорить с вами о весьма важных предметах, касающихся и вас лично, – произнесла она, пристально глядя ему в глаза.
Когда Маргарита Бургундская погружала свой взгляд в зрачки тюремщика, он всякий раз испытывал непонятное смущение, а сегодня и подавно.
Берсюме невольно потупил глаза.
– Я выслушаю вас позже, мадам, – сказал он, – только обойду дозором крепость и сменю караул.
Потом, обратясь к своему помощнику Лалену, приказал ему препроводить принцесс обратно в башню и, понизив голос до полушепота, велел вести себя сугубо осторожно.
В башне, служившей узилищем Маргарите и Бланке, имелись всего три высокие круглые залы, расположенные друг над другом и схожие до мелочей, – в каждой был камин с колпаком, сводчатый потолок покоился на восьми арках; комнаты эти были связаны между собой винтовой лестницей, проложенной в толще стены. В нижней зале дежурила стража – та самая стража, которая доставляла капитану Берсюме столько тревог и забот, которую приходилось сменять каждые шесть часов и которую, к великому его ужасу, в любое время могли подкупить, ввести в соблазн или одурачить. Маргариту держали в зале второго этажа, а Бланку – третьего. На ночь запиралась крепкая дверь на середине лестницы, разделявшая покои принцесс, в дневное же время им было дано право общаться между собой.
Когда Лален ввел узниц в башню, они не обменялись ни словом, обе ждали, чтобы затих шум его шагов, привычный скрип петель и скрежет замков.
Только тогда они осмелились переглянуться и в невольном порыве бросились в объятия друг другу.
– Умер! Умер! – сорвался с их губ ликующий крик.
Счастливый смех сменялся рыданиями, они кричали, обнимались, плясали от радости и твердили:
– Умер! Умер!
Затем обе сорвали ненавистные холщовые чепцы и с облегчением тряхнули короткими кудрями, не успевшими еще отрасти за полгода тюремного заключения.
Черные колечки вились вокруг лба Маргариты. Густые неровные пряди цвета соломы покрывали головку Бланки. Она провела ладонью по непокорным волосам, откидывая их со лба на затылок, и, вопросительно взглянув на кузину, воскликнула:
– Зеркало! Первым делом я хочу, чтобы мне дали зеркало! Скажи, Маргарита, я по-прежнему хорошенькая или нет?