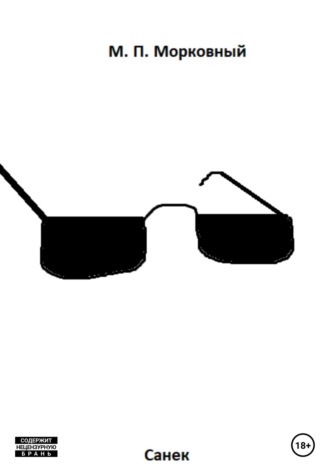
Санек

Мулька Морковный
Санек
Седая неухоженная борода, изношенная кепка, темные очки. На вид ему сорок пять, пятьдесят, шестьдесят? Точно сказать невозможно, да и он сам, как кажется, едва ли мог бы с уверенностью назвать свой возраст. Из одежды на нем одно тряпьё: дряхлые джинсы и толстовка давно пережили свой век. Вечный портфель за спиной, с которым он никогда не расстается. Ободранный, набитый неизвестно чем ранец, который, как раковина улитки, стал его переносным домом.
Ночует он в ботаническом саду среди деревьев, кустов и травы. Там у него есть своя личная лавочка, на которой он вытягивается, вместо подушки кладя под голову портфель, и спит, слушая птичий галдеж и порывы ночного ветра. Просыпаясь, он собирает свои пожитки и отправляется в торговые центры, супермаркеты и прочие места большого скопления людей. Он заходит в торговый центр, часто уже в щепки пьяный, и охрана его без проблем пропускает. Где он успел раздобыть выпивку, непонятно. Сложно поверить, что он ее просто купил в первом попавшемся ларьке. Он спускается на цокольный этаж и, подойдя к островку, торгующему мелкой электроникой и плёнками для смартфонов, завязывает с продавцом теплую дружескую беседу.
– Здорова, Саня.
– Привет, – отвечаю я, несмотря на то, что Саней зовут не меня, а его. Кажется, он всех называет своим именем.
– Представляешь, плитка тротуарная – вот такая по толщине, – говорит Саня, показывая руками расстояние сантиметров в тридцать, – Вот такая, не меньше. А этот мне говорит, что у нее срок годности шесть лет. Шесть лет! У тротуарной плитки! Вот такая толщина. Я ему: "ты чё, ошалел совсем! Какой шесть лет? Ты чё мне гуся выводишь?" Ну не может у нее шесть лет быть срок годности. Она и за тысячу лет не сотрётся. Ты по ней хоть тракторным ковшом скреби – ей хоть бы хны. У нее толщина – вот такая! Я сам видел. Иду по улице, а там строители плитку меняют. Гляжу, а она – вот такая!
– По-моему, всё же поменьше.
– О-о-о, – укоризненно и протяжно, – и ты туда же. Тоже мне гуся выводишь. С тобой всё ясно, – закончил он, словно поставив крест на моей способности рассуждать.
– Не шесть лет, конечно, но лет десять-пятнадцать, наверное.
– Петух яйца несёт?
– Что?
– Петух, говорю, несёт яйца?
– Нет, насколько я знаю.
– А что же ты говоришь, что несёт?
– Разве я так говорил?
– Да, говорил, когда затирал мне про десять лет. Я пойду сейчас спрошу у них, у строителей, сколько срок годности у тротуарной плитки, и если окажется, что он больше десяти лет, ты мне пять тыщ будешь должен.
– А ты ставишь на тысячу лет?
– Ну, допустим, не на тысячу, а на пятьсот.
– Так была ж тысяча.
– Да что ты пристал со своей тысячей! Может, и не тысяча. Может, вообще пятьдесят лет. Только уж никак не десять. Пойду сейчас узнаю, а ты готовь пять тыщ. Вернусь – выпьем. Тебя, так уж и быть, угощу.
– Давай, давай.
Я всегда был рад, когда Саня приходил ко мне в гости. Почему-то из всех работников ТЦ он выбрал именно меня. Почти сразу, как я устроился сюда работать, заявился Саня и стал болтать со мной так откровенно и эмоционально, будто мы закадычные друзья. Притом, казалось, ему было плевать, слушаю я его или нет, молчу или говорю. Ему была нужна лишь публика, перед которой он мог бы изливать бурное богатство своих мыслей и чувств. Сперва, его темные очки, неопрятный вид и жуткий перегар меня смутили. Но после того, как Саня рассказал, что хочет создать голографический экран, как в фильме "Чужой", градус моей неприязни значительно упал. А когда он поведал мне о том, что собирается изучить тридцать шестую ступень Шаолиня (что бы это не значило), я проникся к нему искренним дружеским чувством.
Саня рассказывал всякие истории из жизни, поверить в которые было невозможно. Я и не верил, но слушал с интересом. Когда он травил тюремные байки, то напускал на себя выражение трагичной серьёзности, которое должно дать понять собеседнику, что знает Саня об этих делах не понаслышке. Рассказывая анекдоты, он начинал смеяться уже на середине и, заливаясь неудержимым хохотом, обрывал анекдот, так и не дойдя до смешной части. Он смеялся, будто давился, словно кашлял от слишком глубокой затяжки. И я смеялся вместе с ним, хотя, как ни старался, суть анекдота так и не уловил.
Вернувшись на цокольный этаж, Саня прошел мимо моего островка с видом крайней озабоченности. Даже не взглянув в мою сторону, он завернул в "Перекресток" и затерялся среди стеллажей. Он и раньше делал вид, что мы незнакомы, так что меня это не удивило. Через некоторое он вернулся и, вспомнив о моем существовании, подошёл ко мне. Вид у него был неспокойный. Подозрительно оглядываясь, он достал из-под толстовки двухлитровую баклашку пива, открыл ее и сделал несколько пеликаньих глотков.
– Ох… Ну и дрянь. Никогда не покупай. Моча.
– Зачем же ты ее взял?
– Да я что? Попробовать взял… Ссанина редкостная.
– Ну что, узнал срок годности?
– Какой срок годности?
– Тротуарной плитки.
– А. Нет, не узнал. Не сказали.
– А вот я узнал. В интернете пишут, что срок износа обычной тротуарной плитки равняется примерно десяти годам. Она рассчитана на двадцать пять циклов замораживания и оттаивания. В наших широтах, где зимой случаются постоянные оттепели, это и будет около десяти лет. Может, даже меньше.
– Как?
– Вот так.
– Десять лет?
– Десять лет. Ну что, когда долг вернёшь?
– Какой такой долг?
– Пять тысяч, на которые мы спорили.
Саня скорчил разочарованную задумчивость и недовольно хмыкнул.
– Ага, как же! Крохобор! Фигу тебе с маслом! Пять тыщ. Ищи дурака за три далека, – заявил Саня, примерив маску оскорбленной гордости, и откланялся. Должно быть, испугался. Мало ли, вдруг и правда денег потребую. После этого случая он ещё две недели не появлялся в нашем торговом центре.
Саня отличный старик. Должно быть, он был бы замечательным дедом, если б не воровал алкоголь в магазинах и соизволил бы в своё время обзавестись женой и детьми. Я часто представлял, как он нянчится с внуками, учит их играм своей молодости, смешно выругивается, сдерживая мат перед детьми, рассказывает небылицы, выдавая их за чистую правду. Внуки будут любить его всей душой. Они будут приезжать к нему с улыбками на лицах. А потом, когда внуки подрастут и узнают, что их дедушка нередко напивается в усмерть и нещадно колотит их бабушку за любую мнимую провинность, придуманную уже после первых ударов, они перестанут видеть в нем любимого дедушку. Они отвернутся от него с отвращением. Пожалуй, хорошо, что у него нет ни жены, ни внуков, ни детей. Уверен, появись у него дом, он бы меньше чем за год его пропил и вернулся бы в ботанический сад. А может, умер бы от алкогольного отравления. Он хорош лишь в своей среде, в своей незавидной роли бомжа, и хорош лишь для меня, которому просиживать штаны на работе бывает так невыносимо скучно.
Спустя две недели я снова увидел Саню. Это было уже поздним вечером, когда людей в ТЦ становилось все меньше, а нестерпимое желание работников закрыть свои магазины и поскорее убраться домой возрастало с каждой минутой. Я пошел в туалет и по пути увидел сгорбленного старика, стоящего у стены и заряжающего планшет. Вокруг него стояли несколько под завязку набитых пакетов и сильно поношенный портфель. Старик стоял, всем весом опершись на стену, и было видно, что иначе он бы не смог удержаться на ногах. Это был Саня. Сперва я его не узнал. На нем не было ни панамы, ни очков, которые создавали его хорошо узнаваемый стиль. Вместо потёртых джинсов, собравших на себе пятна всех бордюров в округе, на нем были новенькие черные штаны, туго обтягивающие его тощую фигуру, по которой было видно, что, выбирая между обедом и выпивкой, он неизменно выбирал второе и компот. Лицо у Сани было измученным и потухшим. Образ бойкого, вечно веселого пьяницы слез с его лица, как осенние листья с деревьев. В мутных глазах читалось глубокое несчастье. Казалось, он вот-вот рухнет замертво.
– Привет, как дела?
Саня поднял на меня взгляд, и было видно, что это далось ему с большим трудом. Он посмотрел на меня, как на чужого, в глазах не было и намека на узнавание. Помолчав, он спросил:
– Дашь сто рублей?
– Нет, извини, – сказал я, ни на секунду не помедлив с ответом.
Саня уронил голову на грудь, его тело ещё сильнее скукожилось.
То ли от неловкости, то ли от чувства брезгливости я поспешил уйти подальше от страдающего трезвостью Сани.
Вскоре после этого я уволился и переехал. Саню я больше не видел.