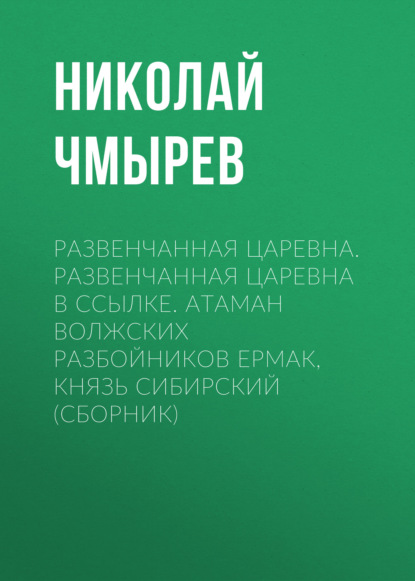По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Развенчанная царевна. Развенчанная царевна в ссылке. Атаман волжских разбойников Ермак, князь Сибирский (сборник)
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Желябужская бросилась к ней.
– Ну что, Марьюшка… что, царевна,? – поправилась она,? – как тебе можется?
– Ничего, бабушка, я здорова… так, я сама не знаю, что приключилось со мною.
Старица, услышав слова царевны, не оглянулась и так же важно вышла из опочивальни, как и вошла в нее.
– Не жена она тебе! – сказала она, входя к царю.
Царь, зная нерасположение матери к царевне, ожидал подобных речей, но, несмотря на это, при словах матери он невольно вздрогнул.
– Не жена она тебе: у нее падучая… хороша будет царица,? – продолжала монахиня.
– Матушка, дохтур ничего не говорил про падучую,? – робко заметил царь.
– А ты кому больше веришь: немцу-нехристю или мне?
– Матушка…
– То-то матушка! Зла я тебе, что ли, желаю? Сам не знаешь, что говоришь, на последнюю девку мать готов променять.
И, без того расстроенный, царь окончательно растерялся: он не спал всю ночь, дохтур сказал, завтра… что-то будет завтра?
А на другой день царевна встала совершенно здоровой, бледна была только немного да чувствовалась маленькая слабость. Пришел дядя Глеб, в руках у него была склянка, переданная ему Салтыковым, с приказом давать царевне из этой склянки водки по рюмке каждый день.
– Выпей, царевна! – предложил ей дядя.
– Дядюшка, да я совсем здорова,? – отказывалась царевна.
– Выпей, царевна, лучше будет, лекарь велел,? – убеждал ее дядя.
Царевна, желая успокоить дядю, выпила, но не прошло и получаса, как занемогла пуще прежнего, начались колики в животе, тошнота, рвота; слегла совсем царевна в постель.
Успокоенный было дворец снова взволновался, снова стал на ноги, принялись за доктора, тот только плечами пожимает, не понимая, что творится с царевной. А Салтыков между тем пристает к нему.
– Как полагаешь, будет она у нас царицей или нет? – допрашивал он.
– На это воля царская: захочет жениться на ней, тогда будет,? – отвечал осторожный немец,? – а нет, так не будет, только болезнь у нее неопасная.
А Салтыков идет к царю и доносит совсем не то.
– Болезнь куда опасная,? – докладывает он,? – в Калуге одна женщина от такой болезни померла.
Царь совсем потерял голову. Между тем царевна бросила пить принесенное ей дядей лекарство; начали поить ее богоявленной водой – ей и полегчало. А Салтыков с великой старицей вместе то и дело твердят, что царевна неизлечима, что она не годится в жены. Понимает царь, что идет все это из Вознесенского монастыря, сопротивляется он, насколько позволяют силы.
– Возьми себе другую в жены,? – твердит мать.
– Не могу, матушка,? – отвечал на этот раз твердо царь,? – я обручен с ней, она перед Богом моя жена, ее поминают в церквах царевной; не могу я этого уничтожить.
– Так созови Думу,? – настаивает монахиня на своем,? – пусть она решит дело.
Весть о немощи царевны проникла и в народ; только и толку что о ней. Сколько ни бился царь, сколько ни сопротивлялся, а должен был уступить и отдать вопрос о своем счастье на решение Думы.
Глава XIII
В старых каменных палатах Боярской думы собрались обсуждать очень серьезный вопрос: «Прочна ли к царской радости царевна или непрочна?» Собрались решать этот вопрос бояре преимущественно старые; многие из них помнили Грозного, другие думали о государственных делах при Борисе, были и такие, которые прислуживали Тушинскому вору, а потом перекинулись в Москву; тех же, которым в новизну приходилось заседать в Думе, было сравнительно немного.
Все уже собрались, но за решение вопроса не принимались, ждали прибытия царя, но царь не являлся. Был здесь и Глеб Хлопов, суетился он немало. Там послушает, что говорят, послушает в другом месте, хочется ему заранее узнать, что думают, говорят бояре, но мало утешительного узнал он. Нашел он, правда, несколько человек, не поддавшихся влиянию Салтыковых и великой старицы, относившихся с сочувствием и сожалением к царевне, понимавших, что не серьезная, как уверяли, болезнь у царской невесты собрала их здесь, а интриги да козни Салтыковых, но таких было очень мало – горсточка сравнительно с противниками царевны. Пытался Хлопов заговаривать с некоторыми, но те двусмысленно улыбались и поскорее отворачивались и уходили, боясь навлечь на себя гнев и попасть в опалу временщиков.
– А почет, знать, по сердцу пришелся Хлоповым, вишь, как увивается да хлопочет за племянницу,? – замечали некоторые из бояр.
– Недолго почетом-то пользовались, скоро придется проститься с ним,? – слышался ответ на такие замечания.
Время шло, а царь все не являлся. Некоторые из бояр угрюмо посматривали по сторонам, другие сговаривались, третьи рассуждали между собою, покачивая седыми головами. А царь все это время сидел у себя в покое. Невеселы были его мысли, знал он наперед, чем кончится это думское обсуждение, был заранее убежден в известном решении. Тяжело ему было отдавать на решение совершенно чужих ему людей вопрос, касавшийся лично его, затрагивавший его личное, собственное счастье.
Он не мог представить себе, как он расстанется с царевной. И из-за чего? Из-за каприза старухи, выжившей из ума, погребенной за монастырскими стенами, из-за того, что какой-то немец-нехристь наговорил про опасность, между тем как он сам лично, не далее как третьего дня, видел ее, говорил с ней, глядела она него еще ласковее, чем прежде, голос ее казался еще нежнее. И тоска, словно змея, сильнее и сильнее впивалась в царское сердце.
Пришли доложить ему, что его ожидают в Думе, царь не расслышал.
– Что? – переспросил он.
– В Думе ожидают тебя, государь.
– Не пойду я, пусть сами толкуют, а я не пойду! – раздраженным голосом произнес царь.
– Государя не будет! – пронеслось в Думе.
Многие вздохнули свободнее.
– Что ж, пора приниматься за дело,? – послышались слова.
Стали усаживаться на места по старшинству.
Рассказывал историю болезни Борис Салтыков; Михайло старался держаться в стороне. Оскорбление, нанесенное ему царевной, мало-помалу улеглось, сгладилось, а любовь не умирала в нем, она только затаилась, притихла на время и теперь вспыхнула пуще прежнего. Нелегко ему было слушать эту хитросплетенную историю, рассказываемую братом; он знал, что все его слова, от первого до последнего, – бессовестная ложь. Была минута, когда он готов был вскочить и закричать во всеуслышание, что брат его лжет, говорит неправду… Но каша была заварена, и притом заварена с его собственного согласия, он сам собственною рукою передал отраву, полученную от матери, от этого и приключилась болезнь царевны; он главный виновник всей этой истории… отступать теперь было уже поздно. Он должен был страдать молча, добровольно отдав себя на эти страдания; но все это было еще начало, самая пытка была впереди. Борис окончил свой рассказ и сел.
– Что же сказал лекарь? – послышались голоса некоторых бояр.
– С лекарем говорил брат Михайло! – отвечал Борис.
Глаза всех обратились на него, что скажет он?
Михайло встал, потупив глаза: он должен был говорить напраслину, клевету на дорогую для него царевну; клевету, придуманную им самим для ее погибели. Он был бледен, руки и ноги дрожали у него, ему хотелось покаяться во всем, выдать себя головою, он робко, несмело взглянул на бояр – все смотрели на него с недоумением, никто не понимал его волнения, он снова быстро опустил глаза вниз.
– Что же тебе сказал лекарь, боярин? – послышался чей-то голос.
Наступила тишина, решительная минута. Нужно было сейчас же, на месте или сознаваться во лжи, в преступлении или, для собственного спасения, губить царевну. В нем происходила борьба, но чувство самосохранения взяло верх.
– Лекарь сказал… опасна… одна умерла… от этой болезни,? – проговорил Михайло не своим голосом.
– Ну что, Марьюшка… что, царевна,? – поправилась она,? – как тебе можется?
– Ничего, бабушка, я здорова… так, я сама не знаю, что приключилось со мною.
Старица, услышав слова царевны, не оглянулась и так же важно вышла из опочивальни, как и вошла в нее.
– Не жена она тебе! – сказала она, входя к царю.
Царь, зная нерасположение матери к царевне, ожидал подобных речей, но, несмотря на это, при словах матери он невольно вздрогнул.
– Не жена она тебе: у нее падучая… хороша будет царица,? – продолжала монахиня.
– Матушка, дохтур ничего не говорил про падучую,? – робко заметил царь.
– А ты кому больше веришь: немцу-нехристю или мне?
– Матушка…
– То-то матушка! Зла я тебе, что ли, желаю? Сам не знаешь, что говоришь, на последнюю девку мать готов променять.
И, без того расстроенный, царь окончательно растерялся: он не спал всю ночь, дохтур сказал, завтра… что-то будет завтра?
А на другой день царевна встала совершенно здоровой, бледна была только немного да чувствовалась маленькая слабость. Пришел дядя Глеб, в руках у него была склянка, переданная ему Салтыковым, с приказом давать царевне из этой склянки водки по рюмке каждый день.
– Выпей, царевна! – предложил ей дядя.
– Дядюшка, да я совсем здорова,? – отказывалась царевна.
– Выпей, царевна, лучше будет, лекарь велел,? – убеждал ее дядя.
Царевна, желая успокоить дядю, выпила, но не прошло и получаса, как занемогла пуще прежнего, начались колики в животе, тошнота, рвота; слегла совсем царевна в постель.
Успокоенный было дворец снова взволновался, снова стал на ноги, принялись за доктора, тот только плечами пожимает, не понимая, что творится с царевной. А Салтыков между тем пристает к нему.
– Как полагаешь, будет она у нас царицей или нет? – допрашивал он.
– На это воля царская: захочет жениться на ней, тогда будет,? – отвечал осторожный немец,? – а нет, так не будет, только болезнь у нее неопасная.
А Салтыков идет к царю и доносит совсем не то.
– Болезнь куда опасная,? – докладывает он,? – в Калуге одна женщина от такой болезни померла.
Царь совсем потерял голову. Между тем царевна бросила пить принесенное ей дядей лекарство; начали поить ее богоявленной водой – ей и полегчало. А Салтыков с великой старицей вместе то и дело твердят, что царевна неизлечима, что она не годится в жены. Понимает царь, что идет все это из Вознесенского монастыря, сопротивляется он, насколько позволяют силы.
– Возьми себе другую в жены,? – твердит мать.
– Не могу, матушка,? – отвечал на этот раз твердо царь,? – я обручен с ней, она перед Богом моя жена, ее поминают в церквах царевной; не могу я этого уничтожить.
– Так созови Думу,? – настаивает монахиня на своем,? – пусть она решит дело.
Весть о немощи царевны проникла и в народ; только и толку что о ней. Сколько ни бился царь, сколько ни сопротивлялся, а должен был уступить и отдать вопрос о своем счастье на решение Думы.
Глава XIII
В старых каменных палатах Боярской думы собрались обсуждать очень серьезный вопрос: «Прочна ли к царской радости царевна или непрочна?» Собрались решать этот вопрос бояре преимущественно старые; многие из них помнили Грозного, другие думали о государственных делах при Борисе, были и такие, которые прислуживали Тушинскому вору, а потом перекинулись в Москву; тех же, которым в новизну приходилось заседать в Думе, было сравнительно немного.
Все уже собрались, но за решение вопроса не принимались, ждали прибытия царя, но царь не являлся. Был здесь и Глеб Хлопов, суетился он немало. Там послушает, что говорят, послушает в другом месте, хочется ему заранее узнать, что думают, говорят бояре, но мало утешительного узнал он. Нашел он, правда, несколько человек, не поддавшихся влиянию Салтыковых и великой старицы, относившихся с сочувствием и сожалением к царевне, понимавших, что не серьезная, как уверяли, болезнь у царской невесты собрала их здесь, а интриги да козни Салтыковых, но таких было очень мало – горсточка сравнительно с противниками царевны. Пытался Хлопов заговаривать с некоторыми, но те двусмысленно улыбались и поскорее отворачивались и уходили, боясь навлечь на себя гнев и попасть в опалу временщиков.
– А почет, знать, по сердцу пришелся Хлоповым, вишь, как увивается да хлопочет за племянницу,? – замечали некоторые из бояр.
– Недолго почетом-то пользовались, скоро придется проститься с ним,? – слышался ответ на такие замечания.
Время шло, а царь все не являлся. Некоторые из бояр угрюмо посматривали по сторонам, другие сговаривались, третьи рассуждали между собою, покачивая седыми головами. А царь все это время сидел у себя в покое. Невеселы были его мысли, знал он наперед, чем кончится это думское обсуждение, был заранее убежден в известном решении. Тяжело ему было отдавать на решение совершенно чужих ему людей вопрос, касавшийся лично его, затрагивавший его личное, собственное счастье.
Он не мог представить себе, как он расстанется с царевной. И из-за чего? Из-за каприза старухи, выжившей из ума, погребенной за монастырскими стенами, из-за того, что какой-то немец-нехристь наговорил про опасность, между тем как он сам лично, не далее как третьего дня, видел ее, говорил с ней, глядела она него еще ласковее, чем прежде, голос ее казался еще нежнее. И тоска, словно змея, сильнее и сильнее впивалась в царское сердце.
Пришли доложить ему, что его ожидают в Думе, царь не расслышал.
– Что? – переспросил он.
– В Думе ожидают тебя, государь.
– Не пойду я, пусть сами толкуют, а я не пойду! – раздраженным голосом произнес царь.
– Государя не будет! – пронеслось в Думе.
Многие вздохнули свободнее.
– Что ж, пора приниматься за дело,? – послышались слова.
Стали усаживаться на места по старшинству.
Рассказывал историю болезни Борис Салтыков; Михайло старался держаться в стороне. Оскорбление, нанесенное ему царевной, мало-помалу улеглось, сгладилось, а любовь не умирала в нем, она только затаилась, притихла на время и теперь вспыхнула пуще прежнего. Нелегко ему было слушать эту хитросплетенную историю, рассказываемую братом; он знал, что все его слова, от первого до последнего, – бессовестная ложь. Была минута, когда он готов был вскочить и закричать во всеуслышание, что брат его лжет, говорит неправду… Но каша была заварена, и притом заварена с его собственного согласия, он сам собственною рукою передал отраву, полученную от матери, от этого и приключилась болезнь царевны; он главный виновник всей этой истории… отступать теперь было уже поздно. Он должен был страдать молча, добровольно отдав себя на эти страдания; но все это было еще начало, самая пытка была впереди. Борис окончил свой рассказ и сел.
– Что же сказал лекарь? – послышались голоса некоторых бояр.
– С лекарем говорил брат Михайло! – отвечал Борис.
Глаза всех обратились на него, что скажет он?
Михайло встал, потупив глаза: он должен был говорить напраслину, клевету на дорогую для него царевну; клевету, придуманную им самим для ее погибели. Он был бледен, руки и ноги дрожали у него, ему хотелось покаяться во всем, выдать себя головою, он робко, несмело взглянул на бояр – все смотрели на него с недоумением, никто не понимал его волнения, он снова быстро опустил глаза вниз.
– Что же тебе сказал лекарь, боярин? – послышался чей-то голос.
Наступила тишина, решительная минута. Нужно было сейчас же, на месте или сознаваться во лжи, в преступлении или, для собственного спасения, губить царевну. В нем происходила борьба, но чувство самосохранения взяло верх.
– Лекарь сказал… опасна… одна умерла… от этой болезни,? – проговорил Михайло не своим голосом.