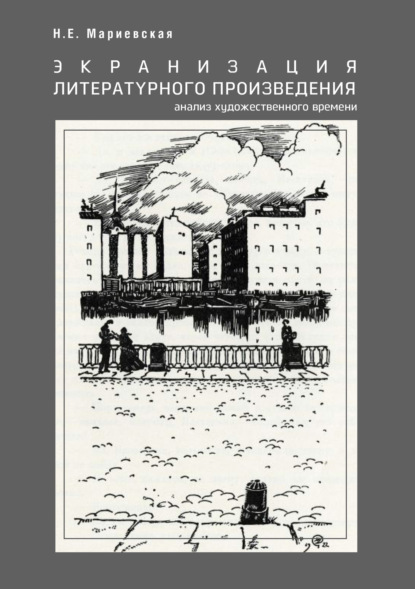По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Экранизация литературного произведения: анализ художественного времени
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Совершенно очевидно, что Режиссёр ставит перед собой задачу говорить о страсти бесстрастно, вполголоса, знаками, полунамеками, «не дать возможности актерам вопить»! «В смерче страсти соблюдать меру».
Для раскрытия существа этого метода Брессон вводит эпизод в театре, когда героиня следит за постановкой «Гамлета». Вернувшись домой, она перечитывает шекспировский текст и убеждается в фальши сценического действия.
Перед нами молчаливый фильм о хаосе. Тут очень любопытно проследить присутствие в кадре красного цвета. Фильм Брессона выдержан в сдержанной и изысканной цветовой гамме: бежевый, фисташковый, пастельно-сиреневый. Но вот появляется пятно крови. Потом именно этот оттенок появляется как знак неизбежной катастрофы: красный ремень безопасности, дорожный знак, красное платье Гертруды в театре, красная подкладка плаща героини, которая обнаруживается не сразу, не вдруг, красная краска на старинных китайских гравюрах, наконец, красное поле в витрине туристического агентства, на котором стоит модель самолёта. В этом последнем кадре красного много, цвет почти заполняет пространство. Можно говорить о нарастающей динамике красного.
Лишенный «длинного привода» схождения в глубину памяти, фильм утрачивает связь с сюжетом внезапного «неотразимого возвышения ума и сердца», с сюжетом Достоевского.
Здесь нет динамики внезапного сведения всего в точку, озарения. Здесь другая динамика, сюжет другой. Какой же? В фильме на первый план выходит тема чувственной любви, тема «мужского непонимания женщины». В одном из эпизодов героиня читает книгу. Читает вслух с какой-то особой настойчивостью абзац об особой песне молодой птицы. Роняет книгу на пол, горько безутешно плачет. Птичья тема поддерживается рисунком её утреннего кимоно: на нежном шёлке изображены певчие птички. Фильм Брессона прекрасен, но это фильм о загубленной песне молодой птицы. Итог этого «губительства» вполне отчетливо явлен в картине: руки с ключом медленно (и кажется очень долго) завинчивают крышку гроба.
Анализ художественного времени рассказа и его экранизаций открывает существенные различия, и, прежде всего, в понимании главного героя.
Мерло-Понти в своей работе «Феноменология восприятия» пишет: «Анализировать время – не значит извлекать следствия из предустановленной концепции субъективности, это значит, через время проникать в её конкретную структуру. Если нам удаётся понять субъекта, то отнюдь не в его чистой форме, но отыскивая его на пересечении его измерений. Нам нужно, стало быть, рассмотреть время само по себе и лишь следуя его внутренней диалектике, мы придём к преобразованию нашей идеи субъекта»[37 - Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. Спб.: Ювента, Наука. С. 520.].
Режиссёры предлагают, каждый по-своему, иную, отличную от созданной Достоевским «концепцию субъективности».
Я думаю, можно говорить о бытовании персонажа художественного произведения как временной формы. Тут снова возникает необходимость сослаться на высказывание Мерло-Понти очень точное в отношении художественного времени: «Нужно понимать время как субъект, а субъект как время»[38 - Там же. С. 534.]. В прикладных целях слово «субъект» можно заменить на слово «персонаж».
В случае двух названных экранизаций возможности временной формы, созданной Достоевским, не были использованы. Почему?
Нужно ли думать, что кинематограф ограничен по сравнению с литературой? Рассмотрим «длинный привод» рассказа – припоминание героем событий собственной биографии.
Существует множество фильмов, в которых герой припоминает, пересказывает своё прошлое: «Мальчик-мясник» режиссёра Нила Джордана, «Жестяной барабан» Фолькера Шлёндорфа, «Человек, которого не было» братьев Коэнов.
Тут можно возразить, что приведённые фильмы являются экранизациями романов, и, возможно, эта временная форма не вполне органична для кино. Однако – она вполне универсальна. Существуют фильмы, созданные по оригинальным сценариям, организованные таким же образом. Опыт припоминания героем биографии реализован в «Земляничной поляне» Ингмара Бергмана, «Белой ленте» Михаэля Ханеке, «Зеркале» Андрея Тарковского, в «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа.
Что касается «короткого привода» рассказа, воссоздания внутреннего времени героя с его разрывами, скачками, внезапными ускорениями и замедлениями, то с ним «проще» работать в кино.
В литературе описания, создающие зрительный образ, неизбежно тормозят время, замедляют восприятие, в кино визуальный образ явлен сразу, он чрезвычайно пластичен, художественное пространство фильма может обладать интенсивной динамикой. Внутреннее время героя, охваченного смятением, воспроизводится в фильмах «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, «Жизнь в забвении» Томаса Ди Чилло, «Внутренняя империя» Дэвида Линча. Кинематограф даёт богатейшие возможности для созданию сложной временной формы.
Как видим, вовсе не стеснённость в художественных средствах стала причиной трансформации временной формы рассказа «Кроткая» в кино.
Возможно, режиссёрам нужно и важно рассказать иной сюжет. В случае с фильмом Робера Брессона возникло некое новое художественное целое, по-своему притягательное и завораживающее. Но в нём гораздо больше Брессона, чем Достоевского.
Временная форма «фантастического» рассказа «Кроткая» чрезвычайно современна и «кинематографична». Но в своей полноте в кино не реализована. Как и сюжет рассказа.
Упражнения
Задание 1.
Прочитайте «фантастический рассказ Ф.М. Достоевского «Кроткая». Проведите анализ его временной формы. Обратите внимание на внутреннее время персонажа.
Задание 2.
Посмотрите фильмы-экранизации:
«Кроткая», 1960.
Режиссёр Александр Борисов, авторы сценария Александр Борисов, Акиба Гольбурт.
«Кроткая», 1969.
Режиссёр Робер Брессон, автор сценария Робер Брессон.
«Клетка», 2015.
Режиссёр Элла Архангельская, автор сценария Юрий Арабов.
Сравните художественное время фильма и художественное время рассказа Ф.М. Достоевского. Как изменяется смысл произведения в каждой экранизации?
Задание 3.
Прочитайте сценарий «Кроткая». Проанализируйте особенности художественного времени сценария. Чем оправдано введение исторического времени? Как меняет эмоциональный строй произведения «спрямление» линии главного героя?
Федор Достоевский
Кроткая
Фантастический рассказ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
От автора
Я прошу извинения у моих читателей, что на сей раз вместо «Дневника» в обычной его форме даю лишь повесть. Но я действительно занят был этой повестью большую часть месяца. Во всяком случае прошу снисхождения читателей[39 - Текст рассказа печатается по Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30 т. Т. 24, Л.: Наука, 1982.].
Теперь о самом рассказе. Я озаглавил его «фантастическим», тогда как считаю его сам в высшей степени реальным. Но фантастическое тут есть действительно, и именно в самой форме рассказа, что и нахожу нужным пояснить предварительно.
Дело в том, что это не рассказ и не записки. Представьте себе мужа, у которого лежит на столе жена, самоубийца, несколько часов перед тем выбросившаяся из окошка. Он в смятении и ещё не успел собрать своих мыслей. Он ходит по своим комнатам и старается осмыслить случившееся, «собрать свои мысли в точку». Притом это закоренелый ипохондрик, из тех, что говорят сами с собою. Вот он и говорит сам с собой, рассказывает дело, уясняет себе его. Несмотря на кажущуюся последовательность речи, он несколько раз противоречит себе, и в логике и в чувствах. Он и оправдывает себя, и обвиняет её, и пускается в посторонние разъяснения: тут и грубость мысли и сердца, тут и глубокое чувство. Мало-помалу он действительно уясняет себе дело и собирает «мысли в точку». Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к правде, правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. Истина открывается несчастному довольно ясно и определительно, по крайней мере для него самого.
Вот тема. Конечно, процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками и в форме сбивчивой: то он говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и всё записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем всё стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже на раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре «Последний день приговоренного к смертной казни» употребил почти такой же приём и хоть и не вывел стенографа, но допустил ещё большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения – самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных.
I
Кто Был я и кто Была она
…Вот пока она здесь – ещё всё хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и – как же я останусь один? Она теперь в зале на столе, составили два ломберных, а гроб будет завтра, белый, белый гроденапль, а впрочем, не про то. Я всё хожу и хочу себе уяснить это… Вот уже шесть часов, как я хочу уяснить и всё не соберу в точку мыслей. Дело в том, что я всё хожу, хожу, хожу… Это вот как было. Я просто расскажу по порядку. (Порядок!) Господа, я далеко не литератор, и вы это видите, да и пусть, а расскажу, как сам понимаю. В том-то и весь ужас мой, что я всё понимаю!
Это если хотите знать, то есть если с самого начала брать, то она просто-запросто приходила ко мне тогда закладывать вещи, чтоб оплатить публикацию в «Голосе» о том, что вот, дескать, так и так, гувернантка, согласна и в отъезд, и уроки давать на дому, и проч. и проч. Это было в самом начале, и я, конечно, не различал её от других: приходит как все, ну и прочее. А потом стал различать. Была она такая тоненькая, белокуренькая, средневысокого роста; со мной всегда мешковата, как будто конфузилась (я думаю, и со всеми чужими была такая же, а я, разумеется, ей был всё равно что тот, что другой, то есть если брать как не закладчика, а как человека). Только что получала деньги, тотчас же повертывалась и уходила. И всё молча. Другие так спорят, просят, торгуются, чтоб больше дали; эта нет, что дадут… Мне кажется, я всё путаюсь… Да, меня прежде всего поразили её вещи: серебряные позолоченные сережёчки, дрянненький медальончик – вещи в двугривенный. Она и сама знала, что цена им гривенник, но я по лицу видел, что они для неё драгоценность, – и действительно, это всё, что оставалось у ней от папаши и мамаши, после узнал. Раз только я позволил себе усмехнуться на её вещи. То есть, видите ли, я этого себе никогда не позволяю, у меня с публикой тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго. «Строго, строго и строго». Но она вдруг позволила себе принести остатки (то есть буквально) старой заячьей куцавейки, – и я не удержался и вдруг сказал ей что-то вроде как бы остроты. Батюшки, как вспыхнула! Глаза у ней голубые, большие, задумчивые, но – как загорелись! Но ни слова не выронила, взяла свои «остатки» и – вышла. Тут-то я и заметил её в первый раз особенно и подумал что-то о ней в этом роде, то есть именно что-то в особенном роде. Да, помню и ещё впечатление, то есть, если хотите, самое главное впечатление, синтез всего: именно что ужасно молода, так молода, что точно четырнадцать лет. А меж тем ей тогда уж было без трех месяцев шестнадцать. А впрочем, я не то хотел сказать, вовсе не в том был синтез. Назавтра опять пришла. Я узнал потом, что она у Добронравова и у Мозера с этой куцавейкой была, но те, кроме золота, ничего не принимают и говорить не стали. Я же у ней принял однажды камей (так, дрянненький) – и, осмыслив, потом удивился: я, кроме золота и серебра, тоже ничего не принимаю, а ей допустил камей. Это вторая мысль об ней тогда была, это я помню.
В этот раз, то есть от Мозера, она принесла сигарный янтарный мундштук – вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки нечего не стоящая, потому что мы – только золото. Так как она приходила уже после вчерашнего бунта, то я встретил её строго. Строгость у меня – это сухость. Однако ж, выдавая ей два рубля, я не удержался и сказал как бы с некоторым раздражением: «Я ведь это только для вас, а такую вещь у вас Мозер не примет». Слово «для вас» я особенно подчеркнул, и именно в некотором смысле. Зол был. Она опять вспыхнула, выслушав это «для вас», но смолчала, не бросила денег, приняла, – то-то бедность! А как вспыхнула! Я понял, что уколол. А когда она уже вышла, вдруг спросил себя: так неужели же это торжество над ней стоит двух рублей? Хе-хе-хе! Помню, что задал именно этот вопрос два раза: «Стоит ли? стоит ли?» И, смеясь, разрешил его про себя в утвердительном смысле. Очень уж я тогда развеселился. Но это было не дурное чувство: я с умыслом, с намерением; я её испытать хотел, потому что у меня вдруг забродили некоторые на её счет мыли. Это была третья особенная моя мысль об ней.
…Ну вот с тех пор всё и началось. Разумеется, я тотчас же постарался разузнать все обстоятельства стороной и ждал её прихода с особенным нетерпением. Я ведь предчувствовал, что она скоро придёт. Когда пришла, я вступил в любезный разговор с необычайной вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. Гм. Тут-то я догадался, что она добра и кротка. Добрые и кроткие недолго сопротивляются и хоть вовсе не очень открываются, но от разговора увернуться никак не умеют: отвечают скупо, но отвечают, и чем дальше, тем больше, только сами не уставайте, если вам надо. Разумеется, она тогда мне сама ничего не объяснила. Это потом уже про «Голос» и про всё я узнал. Она тогда из последних сил публиковалась, сначала, разумеется, заносчиво: «Дескать, гувернантка, согласна в отъезд, и условия присылать в пакетах», а потом: «Согласна на всё, и учить, и в компаньонки, и за хозяйством смотреть, и за больной ходить, и шить умею», и т. д. и т. д., всё известное! Разумеется, всё это прибавлялось к публикации в разные приемы, а под конец, когда к отчаянию подошло, так даже и «без жалованья, из хлеба». Нет, не нашла места! Я решился её тогда в последний раз испытать: вдруг беру сегодняшний «Голос» и показываю ей объявление: «Молодая особа, круглая сирота, ищет места гувернантки к малолетним детям, преимущественно у пожилого вдовца. Может облегчить в хозяйстве».
– Вот, видите, эта сегодня утром публиковалась, а к вечеру наверно место нашла. Вот как надо публиковаться!
Опять вспыхнула, опять глаза загорелись, повернулась и тотчас ушла. Мне очень понравилось. Впрочем, я был тогда уже во всем уверен и не боялся: мундштуки-то никто принимать не станет. А у ней и мундштуки уже вышли. Так и есть, на третий день приходит, такая бледненькая, взволнованная, – я понял, что у ней что-то вышло дома, и действительно вышло. Сейчас объясню, что вышло, но теперь хочу лишь припомнить, как я вдруг ей тогда шику задал и вырос в её глазах. Такое у меня вдруг явилось намерение. Дело в том, что она принесла этот образ (решилась принести)… ах, слушайте! слушайте! Вот теперь уже началось, а то я всё путался… Дело в том, что я теперь всё это хочу припомнить, каждую эту мелочь, каждую черточку. Я всё хочу в точку мысли собрать и – не могу, а вот эти черточки, черточки…
Образ Богородицы. Богородица с младенцем, домашний, семейный, старинный, риза серебряная золочёная – стоит – ну, рублей шесть стоит. Вижу, дорог ей образ, закладывает весь образ, ризы не снимая. Говорю ей: лучше бы ризу снять, а образ унесите; а то образ все-таки как-то того.