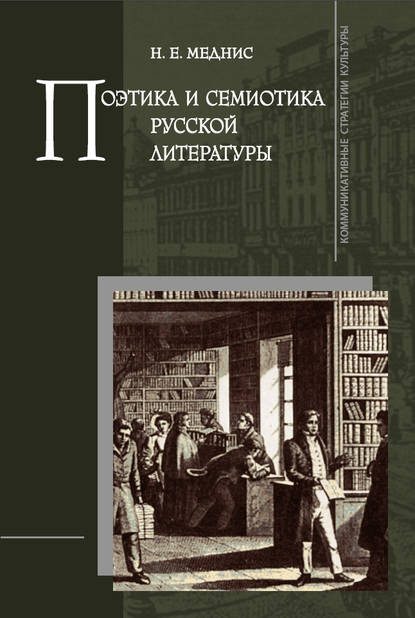По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поэтика и семиотика русской литературы
Автор
Жанр
Год написания книги
2013
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая… (V, 61—62)
Несколько раньше сходный по механизму тип личностно-сюжетного прогнозирования от имени повествователя был дан в поэме «Цыганы»:
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди! (IV, 212)
При видимой вариативности форм и видов прогнозирования на уровне повествования о действительности они имеют еще одну общую особенность – вопрос о точности прогноза на этом уровне объективно неразрешим.
Пути героев, как правило, пересекаются лишь в чисто внешней, событийной сфере – Ленский оказался соседом Лариных, Онегин приехал с приятелем в их дом и встретился с Татьяной, граф оказался в одном полку с Сильвио, Марья Гавриловна обвенчалась не с Владимиром, а с Бурминым и т. д. Случай связывает героев, но сферы их сознания при этом остаются непроницаемыми. Здесь, как правило, нет никаких пересечений. Таким образом, проблема понимания существует в творчестве Пушкина прежде всего как проблема непонимания. Несопрягаемость разных сознаний даже при внешне гармонических отношениях (Ольга – Ленский, Марья Гавриловна – Владимир) снимает, на наш взгляд, и вопрос о полифонии отдельных произведений Пушкина, если применять понятие «полифония» так, как оно толкуется М. М. Бахтиным в приложении к творчеству Достоевского. Непроницаемость сознания или неспособность проникнуть в сознание другого приводит к смещению значимости одних и тех же явлений в зонах разных героев. К примеру, то, что важно для Татьяны и стоит в центре ее модели мира – типологическая бинарность Ловлас – Грандисон, или в романтическом варианте:
…Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес… (V, 150) —
оказывается незначимым, периферическим в модели мира Онегина:
…Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.
Значимое для Ленского незначимо для Онегина и Ольги:
Поклонник славы и свободы,
В волненье бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрям, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен… хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена. (V. 91)
Примеры такого рода в произведениях Пушкина многочисленны, и именно их многочисленность и устойчивость подобных смещений позволяют говорить о том, что они программно входят в творчество писателя, являясь художественным выражением одного из существенных структурных компонентов пушкинской модели мира, утверждая ее изначальный динамизм. Как известно, по Пушкину, роман и жизнь в событийном плане не противостоят друг другу:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа…
Роман и жизнь – явления взаимообратимые в том смысле, что свой сюжет как система отношений есть и в жизни, и в романе. Но явления не тождественные. Пушкин в эксплицированной авторской концепции романа последовательно снимает поставленные героями равенства между романом и жизнью. Если во второй главе романа «Евгений Онегин» дается личностный прогноз былого избранника старушки Лариной, пусть не совпадающий в данном случае с литературной моделью:
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла… (V, 49) – но явно отталкивающийся от литературного образца, то в седьмой главе тот же избранник представлен вне литературы, в жизни:
«…Кузина, помнишь Грандисона?»
– Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил…» (V, 158)
Аналогично обстоит дело и с личностно-событийным прогнозированием Онегина Татьяной:
…Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились. (V, 59)
И в следующей строфе авторское:
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон! (V, 60)
Также и с другим вариантом прогнозирования Татьяной и персонифицированным автором Онегина – Ловласом: Авторское:
…Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая… (V, 62)
Татьяна:
«Погибну, – Таня говорит, —
Но гибель от него любезна…» (V, 120)
И онегинское – «Ловласов обветшала слава», чему соответствует и все поведение Онегина, опровергающее оба варианта прогноза.
Точно так же в прозе 30-х годов Сильвио, прогностически представленный «героем таинственной какой-то повести», благородным мстителем, на деле оказывается несколько иным, что видно из соотнесенности двух повторяющихся ситуаций. Конечная ситуация – сцена дуэли в обрисовке графа: «Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился… Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. “Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому”. Голова моя шла кругом… Кажется, я не соглашался… Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер» (VI, 100).
Рассказ графа, кажется, подтверждает точность прогноза: благородный мститель («…я не привык целить в безоружного»). Но с такой интерпретацией не очень согласуется дальнейшее поведение Сильвио: «Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. “Милая, – сказал я ей, – разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища”. Маше все еще не верилось. “Скажите, правду ли муж говорит? – сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба шутите?” – “Он всегда шутит, графиня, – отвечал ей Сильвио, – однажды дал мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить…” С этим словом он хотел в меня прицелиться… при ней! Маша бросилась к его ногам. “Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве, – а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной?”» (VI, 100). Все встает на свои места, если объяснение благородного поступка Сильвио искать не в его собственных словах, не в романтических представлениях повествователя и благородных суждениях графа, а в психологических мотивировках. В рассказе о дуэли граф несколько раз упоминает об ужасном впечатлении, оставленном не только поступками, но и выражением лица Сильвио: «“Ты, граф, дьявольски счастлив”, – сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду»; «…тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен)» и т. п. Другими словами, но о таком же состоянии говорит и Сильвио в своем рассказе о дуэли в первой части повести: «Его равнодушие взбесило меня», «Злобная мысль мелькнула в уме моем» и т. д.
В рассказе Сильвио повествование о ходе дуэли почти зеркально соотносится с тем же моментом в рассказе графа, однако мотивация здесь, не рассчитанная на реакцию графа, а исповедально высказанная, другая: «Мне должно было стрелять первому; но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия» (VI, 93). Таким образом, прогноз был явно неточным: вместо благородного мстителя – мститель злобный и пустой. Однако последняя оценка становится еще одним вариантом прогноза, так как не возводится в абсолют, не несет в себе программы. Отсюда конечное – «предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами» (VI, 101).
Последовательно представленная у Пушкина неточность прогнозирования по литературным образцам, равно как и настойчивое стремление писателя снять закономерно возникающий при бытовизации литературных типов знак равенства между литературой и жизнью, несомненно связаны с образованием в литературе литературности, с абсолютизацией и стандартизацией литературных моделей и образов, исключающей диалектическое сосуществование противоречий, которое лежит в основе жизни. Объектом анализа и оценки становится не только то, как рассказывается и о чем рассказывается в пушкинском произведении, к примеру в романе «Евгений Онегин», но и как рассказывалось и о чем рассказывалось задолго до появления этого романа. Потому, вводя в роман большой ряд литературных знаков, связанных с Татьяной и бытовизируемых ею, автор дает уже не знаково, а описательно представленную романную модель XVIII века, противопоставляя ей модель романтического романа и им обеим свою модель романа «на старый лад»:
1) Свой слог на важный лад настроя,
Погибнешь, милая… (V, 61—62)
Несколько раньше сходный по механизму тип личностно-сюжетного прогнозирования от имени повествователя был дан в поэме «Цыганы»:
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди! (IV, 212)
При видимой вариативности форм и видов прогнозирования на уровне повествования о действительности они имеют еще одну общую особенность – вопрос о точности прогноза на этом уровне объективно неразрешим.
Пути героев, как правило, пересекаются лишь в чисто внешней, событийной сфере – Ленский оказался соседом Лариных, Онегин приехал с приятелем в их дом и встретился с Татьяной, граф оказался в одном полку с Сильвио, Марья Гавриловна обвенчалась не с Владимиром, а с Бурминым и т. д. Случай связывает героев, но сферы их сознания при этом остаются непроницаемыми. Здесь, как правило, нет никаких пересечений. Таким образом, проблема понимания существует в творчестве Пушкина прежде всего как проблема непонимания. Несопрягаемость разных сознаний даже при внешне гармонических отношениях (Ольга – Ленский, Марья Гавриловна – Владимир) снимает, на наш взгляд, и вопрос о полифонии отдельных произведений Пушкина, если применять понятие «полифония» так, как оно толкуется М. М. Бахтиным в приложении к творчеству Достоевского. Непроницаемость сознания или неспособность проникнуть в сознание другого приводит к смещению значимости одних и тех же явлений в зонах разных героев. К примеру, то, что важно для Татьяны и стоит в центре ее модели мира – типологическая бинарность Ловлас – Грандисон, или в романтическом варианте:
…Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес… (V, 150) —
оказывается незначимым, периферическим в модели мира Онегина:
…Ловласов обветшала слава
Со славой красных каблуков
И величавых париков.
Значимое для Ленского незначимо для Онегина и Ольги:
Поклонник славы и свободы,
В волненье бурных дум своих,
Владимир и писал бы оды,
Да Ольга не читала их.
Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным
Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград.
И впрям, блажен любовник скромный,
Читающий мечты свои
Предмету песен и любви,
Красавице приятно-томной!
Блажен… хоть, может быть, она
Совсем иным развлечена. (V. 91)
Примеры такого рода в произведениях Пушкина многочисленны, и именно их многочисленность и устойчивость подобных смещений позволяют говорить о том, что они программно входят в творчество писателя, являясь художественным выражением одного из существенных структурных компонентов пушкинской модели мира, утверждая ее изначальный динамизм. Как известно, по Пушкину, роман и жизнь в событийном плане не противостоят друг другу:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа…
Роман и жизнь – явления взаимообратимые в том смысле, что свой сюжет как система отношений есть и в жизни, и в романе. Но явления не тождественные. Пушкин в эксплицированной авторской концепции романа последовательно снимает поставленные героями равенства между романом и жизнью. Если во второй главе романа «Евгений Онегин» дается личностный прогноз былого избранника старушки Лариной, пусть не совпадающий в данном случае с литературной моделью:
Она любила Ричардсона
Не потому, чтобы прочла… (V, 49) – но явно отталкивающийся от литературного образца, то в седьмой главе тот же избранник представлен вне литературы, в жизни:
«…Кузина, помнишь Грандисона?»
– Как, Грандисон?.. а, Грандисон!
Да, помню, помню. Где же он? —
«В Москве, живет у Симеона;
Меня в сочельник навестил;
Недавно сына он женил…» (V, 158)
Аналогично обстоит дело и с личностно-событийным прогнозированием Онегина Татьяной:
…Любовник Юлии Вольмар,
Малек-Адель и де Линар,
И Вертер, мученик мятежный,
И бесподобный Грандисон,
Который нам наводит сон, —
Все для мечтательницы нежной
В единый образ облеклись,
В одном Онегине слились. (V, 59)
И в следующей строфе авторское:
Но наш герой, кто б ни был он,
Уж верно был не Грандисон! (V, 60)
Также и с другим вариантом прогнозирования Татьяной и персонифицированным автором Онегина – Ловласом: Авторское:
…Ты в руки модного тирана
Уж отдала судьбу свою.
Погибнешь, милая… (V, 62)
Татьяна:
«Погибну, – Таня говорит, —
Но гибель от него любезна…» (V, 120)
И онегинское – «Ловласов обветшала слава», чему соответствует и все поведение Онегина, опровергающее оба варианта прогноза.
Точно так же в прозе 30-х годов Сильвио, прогностически представленный «героем таинственной какой-то повести», благородным мстителем, на деле оказывается несколько иным, что видно из соотнесенности двух повторяющихся ситуаций. Конечная ситуация – сцена дуэли в обрисовке графа: «Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился… Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. “Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жребий, кому стрелять первому”. Голова моя шла кругом… Кажется, я не соглашался… Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер» (VI, 100).
Рассказ графа, кажется, подтверждает точность прогноза: благородный мститель («…я не привык целить в безоружного»). Но с такой интерпретацией не очень согласуется дальнейшее поведение Сильвио: «Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться. Вдруг двери отворились, Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. “Милая, – сказал я ей, – разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища”. Маше все еще не верилось. “Скажите, правду ли муж говорит? – сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба шутите?” – “Он всегда шутит, графиня, – отвечал ей Сильвио, – однажды дал мне шутя пощечину, шутя прострелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить…” С этим словом он хотел в меня прицелиться… при ней! Маша бросилась к его ногам. “Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве, – а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной?”» (VI, 100). Все встает на свои места, если объяснение благородного поступка Сильвио искать не в его собственных словах, не в романтических представлениях повествователя и благородных суждениях графа, а в психологических мотивировках. В рассказе о дуэли граф несколько раз упоминает об ужасном впечатлении, оставленном не только поступками, но и выражением лица Сильвио: «“Ты, граф, дьявольски счастлив”, – сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду»; «…тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен)» и т. п. Другими словами, но о таком же состоянии говорит и Сильвио в своем рассказе о дуэли в первой части повести: «Его равнодушие взбесило меня», «Злобная мысль мелькнула в уме моем» и т. д.
В рассказе Сильвио повествование о ходе дуэли почти зеркально соотносится с тем же моментом в рассказе графа, однако мотивация здесь, не рассчитанная на реакцию графа, а исповедально высказанная, другая: «Мне должно было стрелять первому; но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия» (VI, 93). Таким образом, прогноз был явно неточным: вместо благородного мстителя – мститель злобный и пустой. Однако последняя оценка становится еще одним вариантом прогноза, так как не возводится в абсолют, не несет в себе программы. Отсюда конечное – «предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами» (VI, 101).
Последовательно представленная у Пушкина неточность прогнозирования по литературным образцам, равно как и настойчивое стремление писателя снять закономерно возникающий при бытовизации литературных типов знак равенства между литературой и жизнью, несомненно связаны с образованием в литературе литературности, с абсолютизацией и стандартизацией литературных моделей и образов, исключающей диалектическое сосуществование противоречий, которое лежит в основе жизни. Объектом анализа и оценки становится не только то, как рассказывается и о чем рассказывается в пушкинском произведении, к примеру в романе «Евгений Онегин», но и как рассказывалось и о чем рассказывалось задолго до появления этого романа. Потому, вводя в роман большой ряд литературных знаков, связанных с Татьяной и бытовизируемых ею, автор дает уже не знаково, а описательно представленную романную модель XVIII века, противопоставляя ей модель романтического романа и им обеим свою модель романа «на старый лад»:
1) Свой слог на важный лад настроя,