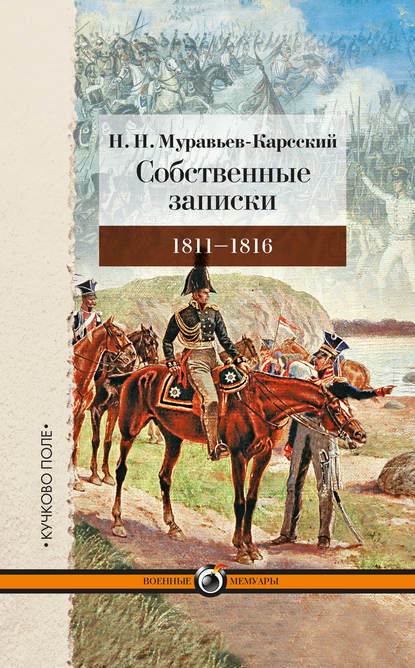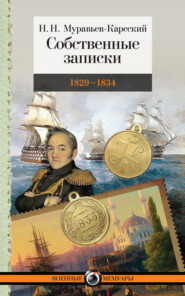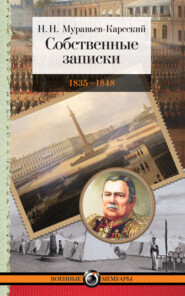По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Собственные записки. 1811–1816
Жанр
Год написания книги
1886
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Служба наша не была видная, но трудовая; ибо не проходило почти ни одной ночи, в которую бы нас куда-нибудь не послали. Мы обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться. Завелись вши. Лошади наши истощали от беспрерывной езды и от недостатка в корме. Михайла начал слабеть в силах и здоровье, но удержался до Бородинского сражения, где он, как сам говорил мне, «к счастию, был ранен, не будучи более в состоянии выдержать усталости и нужды». У меня снова открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах. Ноги мои зудели, и я их расчесывал, отчего показались язвы, с коими я, однако, отслужил всю кампанию до обратного занятия нами в конце зимы Вильны, где, не будучи почти в силах стоять на ногах, слег.
Я жил в Кавалергардском полку у Лунина в шалаше. Хотя он был рад принять меня, но я совестился продовольствоваться на его счет и потому, поехав однажды в Смоленск, купил на последние деньги свои несколько бутылок цимлянского вина, которые мигом были выпиты с товарищами, не подозревавшими моего стесненного положения. Положение мое все хуже становилось: слуги у меня не было, лошадь заболела мытом, а на покупку другой денег не было. Я решился занять у Куруты 125 рублей, которые он мне дал. Долг этот я чрез год уплатил. Оставив из этих денег 25 рублей для своего собственного расхода, остальные я назначил для покупки лошади и пошел отыскивать ее. Найдя в какой-то роще кошмы, или вьюки донских казаков, я купил у них молодую лошадь. Я ее назвал Казаком, и она у меня долго и очень хорошо служила, больную же отдал в конногвардейский конный лазарет.
Курута мало беспокоился о нашем положении, а только был ласков и с приветствиями беспрестанно посылал нас по разным поручениям. Брат Михайла сказывал мне, что, возвратившись однажды очень поздно на ночлег и чувствуя лихорадку, он залез в шалаш, построенный для Куруты, пока тот где-то ужинал. Шел сильный дождь, и брат, продрогший от озноба, уснул. Курута скоро пришел и, разбудив его, стал выговаривать ему, что он забылся и не должен был в его шалаше ложиться. Брат молчал; когда же Дмитрий Дмитриевич перестал говорить, то Михайла лег больной на дожде. Тогда Куруте сделалось совестно; он призвал брата и сказал ему:
– Вы дурно сделали, что вошли в мой шалаш, а я еще хуже, что выгнал вас, – и затем лег спокойно, не пригласив к себе брата, который охотнее согласился бы умереть на дожде, чем проситься под крышу к человеку, который счел бы сие за величайшую милость, и потому он, не жалуясь на болезнь, провел ночь на дожде.
Брат Михайла обладает необыкновенной твердостью духа, которая являлась у него еще в ребячестве. Константин Павлович, видя нас всегда ночующими на дворе у огня и в полной одежде, т. е. в прожженных толстых шинелях и худых сапогах, называл нас в шутку тептерями;[38 - Бедняк, человек, который не может заплатить подушевой налог (татарск.). (Примеч. ред.)] но мы не переставали исправлять при себе должность слуги и убирать своих лошадей, потому что никого не имели для прислуги. Впрочем, данная нам кличка тептерей не сопрягалась с понятием о неблагонадежных офицерах; напротив того, мы постоянно слышали похвалы от своего начальства, и службу нашу всегда одобряли.
В то время был еще прикомандирован к великому князю для занятий по квартирмейстерской части лейб-гвардии Литовского полка прапорщик Габбе, молодой человек с немецкой спесью. Он ничем не занимался, имел, однако же, при себе в услугах казаков, которых нам не давали, и был в милости у великого князя оттого, что на глаза ему всегда совался, знался с его адъютантами, ел и спал вдоволь. Мы с ним никогда не хотели сближаться.[39 - Отец или брат Любовь Васильевны Черкесовой. (Примеч. 1866 г.)]
Лунин нам дальний родственник: мать его была сестра Михайлы Никитича Муравьева. Лунин умен, но нрава сварливого (bretteur). В Петербурге не было поединка, в котором бы он не участвовал, и сам несколько раз стрелялся. Другом его был Кавалергардского же полка ротмистр Уваров, который, однако же, сам имел знаки от поединка с Луниным, а впоследствии женился на его сестре. Уваров человек неприятного обхождения, отчего вообще не был любим. К кругу их принадлежал еще Давыдов, которого находили приятным в обществе; но он мне не нравился, как и Уваров. Был еще в Кавалергардском полку Петрищев, который мне всех более нравился. Лунин в 1815 году был отставлен от службы за поединок с Белавиным, в котором он сам был ранен. Он постоянно что-то писал и однажды прочел мне заготовленное им к главнокомандующему письмо, в котором, изъявляя желание принести себя на жертву отечеству, просил, чтобы его послали парламентером к Наполеону с тем, чтобы, подавая бумаги императору французов, всадить ему в бок кинжал. Он даже показал мне кривой кинжал, который у него на этот предмет хранился под изголовьем. Лунин точно бы сделал это, если б его послали; но думаю не из любви к отечеству, а с целью приобрести историческую известность. Мы скоро с места тронулись, и намерение его осталось без последствий.
Общество кавалергардских офицеров мне вообще не нравилось; не знаю, по каким причинам оно так прославилось в Петербурге. Ничего святого у них не было: пересуживали всех генералов, любовь к отечеству было чувство для них чуждое, и каждый из них считал себя в состоянии начальствовать армией. У них сочинялись насмешливые песни на счет начальников и военных действий; между прочими явилась одна на известный голос: Les ennemis s’avancent ? grands pas. Стихи эти огласились во всей армии.
Les ennemis s’avancent ? grands pas
Adieu Smolensk et la Russie!
Barclay toujours еvite les combats
Et tourne ses pas en Russie.
N’en doutez pas, car de son grand talent,
Amis, vous ne voyez que les prеmices.
Il veut, dit-on, changer dans un instant
Tous ses soldats en еcrevisses.
Ses aide-de-camps, trottant ? ses cotes,
Jaloux de le suivre en vitesse,
Il leur disait: Oh, mes amis,
Ayez pitiе de ma vieillesse.[40 - Враги наступают большими шагами,Прощайте, Смоленск и Россия!Барклай, как и прежде, сраженья бежит,И в отступленье он первый.Нам показал лишь свои семенаЭтот талант, не сомневайтесь, друзья.Говорят, он хотел, чтоб креветками сталаВся его армия до одного капитана.Его верные слуги, семеня по бокам,Мечтают с ним вместе мчаться в опор,Но Барклай говорит «Дорогие друзья,Помилуйте старость мою!» (фр.)]
Во всей армии солдаты и офицеры желали генерального сражения, обвиняли Барклая и нещадно бранили его. Сражение в самом деле предполагалось дать, и никто не полагал, чтобы Смоленск уступили без боя.
Получено было известие, что граф Платов соединился с армией после блистательного дела, которое он имел под Рудней, где он с казаками опрокинул несколько полков французских кирасир.[41 - В указанном бою при деревне Молево Болото 27 июля / 8 августа 1812 года казачьим полкам М. И. Платова не довелось «опрокинуть» французских кирасир, поскольку они сражались с французской легкой кавалерией.] Ожидали еще соединения с князем Багратионом, и тогда, по сбору всех сил, думали дать отпор французской армии. С великой радостью мы наконец оставили лагерь под Смоленском и подвинулись на целый переход вперед к стороне неприятеля, в надежде встретить его, но, к удивлению нашему, никого не нашли. Между тем Наполеон бросился со всеми силами на Багратиона, чтобы отрезать его от нас, и послал в Поречье небольшой отряд в 6000 человек, чтобы отвлечь наше внимание.
Посланные партизаны уведомили, что вся французская армия находится в Поречье, почему мы поспешно выступили в ночь из своего нового лагеря опять назад. Сперва отошли несколько по Смоленской большой дороге, и потом от селения Шаломца поворотили проселком влево, вышли на дорогу, ведущую из Поречья в Смоленск, и расположились лагерем в 10 верстах от Смоленска лицом к Поречью.
Переход этот был очень трудный, дорога узкая, во многих местах болотистая и вся лесистая. Шли ночью, проводников достать было очень трудно, потому что почти все жители разбежались. Брату Александру поручено было вести гвардейскую колонну, Михайле – корпус Коновницына, а мне собрать проводников. Я атаковал одно селение ночью с двумя кирасирами и, забрав несколько крестьян, сдал их Куруте. Поручение, данное братьям моим, было весьма затруднительное и сопряжено с большой ответственностью. При всеобщей суете начальники оторопели и сваливали все свои промахи, как в таких случаях водится, на офицеров Генерального штаба. Брат Александр должен был вести гвардейскую колонну, в голове которой шла 1-я кирасирская дивизия, Кавалергардский полк впереди, а пред ним генерал Депрерадович.
Брату дана была пионерная рота капитана Геча[42 - Этого Геча нашел я в 1832 году в чине подполковника командиром баталиона внутренней стражи в Житомире, где я тогда после Польской войны стоял с командуемой своей 24-й пехотной дивизией. (Примеч. 1866 г.)] для исправления дороги, и рота сия выступила в одно время с полками. Сделалась темная ночь. Несколько верст за селением Шаломцем встретился в болотистой местности плохой мостик, который надобно было поправить, ибо он много затруднял движение войск. Брат тотчас начал работу с пионерами, но для сего колонна остановилась. Брат нисколько не был виноват в сем замедлении; но Депре радович, человек недальний, не рассудил дела и напал на брата за эту остановку. Сколько брат ни оправдывался, Депрерадович ничего слушать не хотел, грозил, что заставит его идти пешком весь переход, арестует и начальству о нем представит. Брат огрызался, сколько мог; но видя, наконец, что ему делать нечего, он по окончании моста сел на коня, дал шпоры и поскакал вперед.
– Куда ты скачешь, куда ты скачешь? – кричал ему Депрерадович вслед.
– В деревню за проводником, – отвечал Александр, продолжая скакать.
– Да где же дорога?
– А вот она, – отвечал брат уже издали и скрылся.
Депрерадович послал за ним в погоню; но его не нагнали; он благополучно ускакал и, отъехав несколько верст, повернул в сторону, в лес, закурил трубку и лег отдыхать. Брат, конечно, не был прав, ибо колонна могла сбиться с дороги, которую он, впрочем, сам знал не лучше других; но как же было ему терпеть грубости тогда, как он свое дело делал и был совершенно прав? Несчастному пионерному капитану Гечу жестоко досталось от Депрерадовича и всех кавалергардских офицеров.
Мы шли не в порядке и с большой неосторожностью по едва проходимым проселочным дорогам; конница пробиралась лесами и болотами во многих местах по одному человеку, артиллерия увязала в грязи, и в прикрытии ее вовсе не было пехоты. Ночь темная, дороги не было видно, и к тому носился еще слух, что французы будут атаковать нас на походе.
Теперь скажу, что в эту несчастную ночь со мною случилось. Собрав и сдав пойманных проводников, мне никакого дела на время перехода более не предстояло, и я ехал несколько времени с Курутой, после чего он уехал вперед, а мне приказал оставаться с колонной, но ничего не поручил. И так я поехал с Луниным, который находился при своем эскадроне, не зная о том, что в голове колонны происходило. Когда брат Александр ускакал от Депрерадовича и войска остановились, что продолжалось довольно долго, то офицеры, соскучившись, слезли с коней и легли на траву. Пошел дождь, и я также лег на землю, накрывшись буркой. Растерявшийся Депрерадович ездил взад и вперед и вопил плачевным голосом:
– Ах, боже мой, что мне делать, куда этот Муравьев поехал, что он проводника не ведет!
Депрерадович мимо меня ехал, но я молчал и едва дух переводил, чтобы он меня не позвал. Так прошло в первый раз, но во второй лошадь его в тесноте едва не наступила на меня. Он остановился, долго смотрел на мою бурку и, наконец, вскрикнул:
– Ах, боже мой, кто это тут в бурке лежит?
Все вскочили и сказали ему, что Муравьев.
– Ах, так это ты, братец! Куда ты от меня уехал? Так-то ты за проводниками ездишь? Ты должен Кавалергардский полк вести, а ты здесь изволишь отдыхать? Изволь-ка вести меня, сударь.
– Не я, ваше превосходительство, должен вас вести.
– Да какой же Муравьев меня вел? Все равно изволь вести.
– Я дороги не знаю, не знаю и куда вас вести: мне Дмитрий Дмитриевич Курута ничего не приказывал.
– Веди же! – закричал он.
Видя, что с ним нельзя было сговориться, я сел верхом и, проведя несколько шагов колонну, сказал ему, что поеду в ближайшую деревню за проводником, и поскакал. Я уже был верстах в пяти от колонны, как, услышав лай собак, поворотил в сторону, откуда слышался лай, и въехал в какие-то огороды. Ночь была очень темная, я спрятался в яму, в надежде, что по отдалению от дороги меня не найдут, и намеревался в этой позиции пропустить полки, а там примкнуть к хвосту колонны. Сидел я таким образом более часа, когда услышал опять стук кирасирских палашей и увидел мерцание огня в курившихся трубках. Я притаился, надеясь, что вся эта буря мимо меня пройдет; но как удивился я, когда опять услышал подле себя гробовой голос Депрерадовича. Лошадь моя заржала.
– Кто тут? Ах, боже мой! – вскричал мудрый Николай Иванович.
Я вскочил на лошадь и, не говоря ни слова, спешил укрыться. Лошадь моя в темноте спотыкалась по ямам и грядам, но я решился уйти, хотя с риском себе голову разбить, и кое-как выбрался из огородов, преследуемый воплями Депрерадовича:
– Муравьев! Ах, боже мой!
Наконец я пробрался кустами назад и примкнул к хвосту полка. Однако для вящей безопасности решился совсем уехать и, отыскав Куруту, рассказать ему о случившемся, для чего пустил лошадь свою во весь карьер и обогнал в тесноте весь Кавалергардский полк с самим Депрерадовичем, так что и лошадь его в испуге дрогнула от сего неожиданного маневра. Депрерадович, однако, догадался, что это должен быть я, и опять начал звать меня. Видя, что я не возвращаюсь, он послал адъютанта своего Бутурлина меня нагонять. Стало рассветать, когда я услышал топот скачущей за мною лошади. Я шпорил свою, но она устала. Оглянувшись, я увидел Бутурлина, который, нагнав меня, уговаривал остановиться.
– Очень рад вас видеть, – сказал я ему, – только назад не пойду, а если хотите, то пойдемте вместе.
– В самом деле, – отвечал Бутурлин, – генерал так сердит, что я сам уже намеревался ускакать от него, пойдемте шагом.
– Согласен. – И мы поехали вместе шагом.
Подъезжая к квартире великого князя, я увидел брата Александра выезжающим из леса, где он скрывался. Мы обменялись рассказами о своих ночных происшествиях, посмеялись и приехали в селение Покарново, где великий князь уже расположился на квартире. Депрерадович стал с дивизией в пяти верстах впереди нашего селения. Вскоре прибыл и брат Михайла, который передал нам, что он вел корпус Коновницына, который остался очень доволен им. Я рассказал все случившееся со мною Куруте, который посмеялся. Депрерадович хотел жаловаться на меня, однако не пожаловался.
В штабе 1-й кирасирской дивизии, куда я был накануне по делу послан, я имел случай познакомиться с Павлом Ивановичем Корсаковым, поручиком Кавалергардского полка.[43 - Н. Н. Муравьев запамятовал отчество своего приятеля кавалергарда Римского-Корсакова. Того звали не Павел Иванович, а Павел Александрович.] Он был необыкновенного роста и сильного сложения, к сему присоединял еще благородную душу (убит в сражении под Бородином). Там же встретил я еще старого колонновожатого Бурнашева, который в 1811 году у меня в классе учился математике, но безуспешно. Когда мы стояли в Покарнове, проездом зашел к нам Егор Мейндорф, еще добрый петербургский товарищ, которого мы всегда любили. Он был в ариергарде и уже участвовал в одном деле, где французов разбили и где он отличился. Он погнался за раненым неприятельским знаменщиком и отбил у него значок, который нам показывал; на половине было написано: «Nox soli cedet».[44 - Ночь уступает солнцу (лат.).] Мейндорф был человек благородный, и хотя он не без опасности добыл сей трофей, но говорил, что, если б у здорового отнял значок, то с удовольствием надел бы крест, но как знамя взято у раненого, то он не будет домогаться другой награды, как только позволения полотном этим обтянуть себе дома кресла. Мы едва уговорили его показать полотно великому князю, который много похвалял Мейндорфа. Думали, что у него отберут значок, но он взял его назад, положил в карман и уехал.
Под Смоленском в первый раз начали расстреливать по приговорам уголовного полевого суда: говорили, что расстреляли семерых солдат за грабеж.
Вскоре пришло известие из Поречья, что французы снова показались на дороге, ведущей из Витебска в Смоленск, почему, простояв четыре дня около Покарнова, мы бросились на старую свою дорогу, ведущую в Витебск. Лагерь наш расположен был в 40 верстах от Смоленска, помнится мне, при деревне Гаврикове, где находили, что позиция была очень сильная; но неприятель доказал нам, что позиционная война не представляла ожидаемых от нее выгод, потому что можно всякую позицию обойти. Французы нас не атаковали, мы их тут и не видали, но вдруг услышали гул их артиллерии позади себя под стенами Смоленска.
В бывшем лагере при Гаврикове Толь зачем-то послал Александра Щербинина к Коновницыну. Щербинин, выйдя на крыльцо и не зная, в правую или в левую дверь ему идти, спросил Муромцова, тут случившегося, и получил от Муромцова грубый ответ. Возвратившись к себе, Щербинин послал за мной и просил меня быть секундантом в предстоящем ему поединке. Муромцов мне был родственник, а Щербинин старый приятель. Я не отказался, единственно в намерении их примирить. Отыскав Муромцова, я убедил его в неправоте. Он действительно не помнил, что сказал, и согласился просить извинения у Щербинина; я их в тот же вечер свел вместе, и они помирились. Щербинин не знал до того времени, что я был в родстве с Муромцовым.