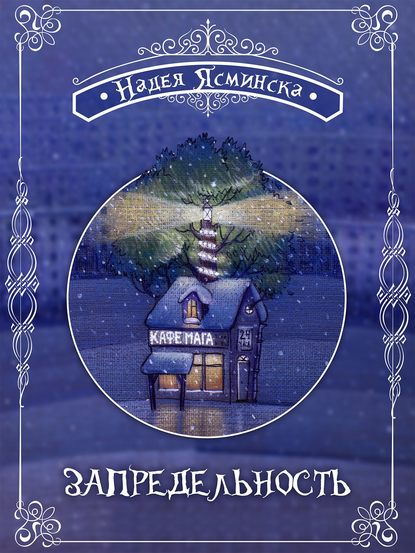По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Запредельность
Автор
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Около семи вечера автобус с группой гимнасток двинулся от замка Ангальд в сторону дома.
Каникулы закончились. Впереди маячили новые выступления и, возможно, новые замки. Но для кого-то Ангальд был один. И эти три девушки сейчас молчали, прижавшись лбами к холодному стеклу.
Адриана думала о том, что даже если она накопит денег, чтобы приехать сюда вновь, ей все равно уже будет восемнадцать. Тик-так. А еще о том, с кем же танцевали Катерина и Дашенька. С Драгу или с кем-то из его братьев? Хотя какое это сейчас имело значение…
«Вот так и становишься взрослой, – внезапно поняла она. – Не тогда, когда тебе исполняется определенное количество лет, а тогда, когда где-то внутри появляется грустинка, и ты знаешь, что теперь она будет с тобой всегда. Или до смерти, или до старческого маразма. А пока нет грустинки, ты еще ребенок…»
Илона весело трещала, пытаясь показать ей свежие фотографии. Но Адриане просто хотелось смотреть в окно – наблюдать, как уменьшается Ангальд.
«Прощай, добрый великан».
«Прощай. И прости, если что».
«А я не жалею. Мне нравится то, что есть. Теперь я тоже часть тебя, слышишь? Как пани Наталья. Как некоторые из нас. И я не хочу забывать».
«Тогда возвращайся. Я буду жда…»
Ангальд, превратившись в серую точку, совсем скрылся за деревьями. Впереди опять были сутки пути, а там – целая жизнь, и каждый сам разберется, что с ней делать.
На первой же стоянке к Адриане подошел водитель, маленький старичок с лукавым взглядом из-под огромных роговых очков.
– Девушка… вы ведь Вишневская? Не хотел подходить к вам на глазах у тренера, вдруг он у вас строгий. Ваш поклонник попросил кое-что вам передать.
– Поклонник? Какой еще поклонник? – удивилась Адриана.
– Ну парень такой, темноволосый, в плаще. Расспрашивал меня, куда вы едете. А потом попросил передать, что будет ждать вас в вашем городе. Если захотите. И еще вот это.
Водитель протянул девушке какой-то сверток.
– Я пойду в автобус, – дрожащим голосом сказала Адриана.
Там, свернувшись калачиком на своем сиденье, она тихонько развернула шарф в мелкую клетку. Внутри лежал серебряный кулон с двумя вишнями из темно-красного граната.
КАЧЕЛИ
– Нет, спасибо, – сказала Дора Дейна. – Большое спасибо за заботу, но я чувствую себя прекрасно, и справлюсь со всем сама.
Она механически повторила это еще раз, когда уже повесила телефонную трубку. Все были так внимательны к ней. Покрывали ее толстым слоем глазурной, сахарной доброты, словно Дора была пирогом с подгорелым верхом. А ведь она почти не пострадала в той аварии. Ну, разве что голова – подумаешь, голова.
Не включая свет, почти на ощупь, женщина пошла на кухню варить кофе. Пальцы помнили почти все, но глаза многого не понимали. В первый же вечер после больницы она безошибочно определила, в каком ящичке лежит затертая джезва, где хранятся любимые пряности. Дора нашла чашку, из которой всегда пила, вновь завела остановившиеся часы. И при этом в молчаливых комнатах она никак не могла отыскать одного – себя. Себя прежнюю, ту мозаику из мыслей и чувств, к которой теперь следовало бы прикрепить табличку «до».
Жадными глотками выпив кофе, Дора поставила чашку на блюдце вверх дном (наверное, она делала так всегда) и принялась рассматривать свое отражение в настольном зеркале.
– Ну, что мы имеем? Там, под оболочкой?
Оболочка не давала подсказки. Сорок лет, вертикальная морщина на лбу, губы тонкие, довольно красивой формы. На скуле едва заметный шрам. Ладно, теперь перейдем к глазам. Они цвета бутылочного стекла, каково сквозь них смотреть на солнце? Пока не ясно, ведь с первого дня после выписки – непрерывные дожди.
Внезапно Дора придвинула зеркало к самому лицу. Она поняла кое-что, словно прочитала по буквам. В ее глазах не было одиночества. Не было клейма ничейного бродяги, которое кто-то носит обреченно, а кто-то – с гордостью. И тем не менее комнаты зияли пустотой.
Вновь доверившись памяти пальцев, Дора набрала номер старой школьной подруги.
– Снежана, скажи… до этого случая… кем я была, чем занималась?
На той стороне провода тактично воздержались от сочувствия вроде «Бедняжка, так ты не помнишь?».
– Ну, ты фотографировала и немного рисовала.
– Что?
– В смысле – что?
– Что я фотографировала? Я ведь уже не в том возрасте, чтобы без разбору снимать котят или цветы на лужайке. Наверняка у меня было какое-то видение, какая-то цель. Какая?
– Даже не знаю, – протянула подруга. – Ты не любила рассказывать. Говорила: вот будет выставка – сама поймешь. Ты готовила выставку к осени.
Дора немного помедлила, потом спросила:
– Послушай, у меня есть кто-нибудь?
– Мужчина? – уточнила Снежана.
– Да хоть собака.
– Я не могу сказать точно, но думаю, что нет. После смерти своего итальянца ты как-то не заводила отношения. Ты ведь помнишь его?
– Конечно, помню, – с раздражением ответила Дора. Да, прошло двенадцать лет, но Микеле – ее Мики – был вытатуирован с внутренней стороны кожи, она всегда носила его под своей бесстрастной, слишком удобной одеждой. Только собственные глаза нашептывали что-то, и этот шепот оседал на ресницах, давил. – Только ведь я могла и не распространяться о том, что…
– Дашенька, – мягко сказала подруга. Она привыкла обращаться к ней так: в школе Дора стеснялась своего редкого имени и называлась Дарьей. – Конечно, возможно всякое. Но врач сказал, что, пока ты лежала в больнице, на твой личный телефон никто не позвонил. Ни разу.
– Что ж, спасибо, – сказала Дора и повесила трубку.
Придется самой распутывать этот клубок. Превращаться в женщину, которая кого-то любила. Которая знала, почему одна из ее комнат увешана рисунками георгин и кто забыл на вешалке ярко-желтый плащ – полиэстровый крик в серой гамме вещей. Она встала, расправила рукава блузки, словно перед важной встречей, и вошла в комнату с фотографиями.
Хотя, пожалуй, «комната с фотографиями» – название слишком мелкое и обыденное. Это была настоящая мини-галерея. Снимки большого формата прожигали пестротой белые обои, они начинались на уровне лодыжек и заканчивались у самого потолка. Дора медленно прошла из угла в угол, заложив руки за спину, словно в музее. На фотографиях в основном была природа – простая, незамысловатая. Ни горных вершин, от которых перехватывает дыхание, ни щемящей лазури океанских волн. Просто тропинки среди примятой травы, мшистые валуны, отражения в лужах… «Где-то в них я», – подумала женщина. На мгновение она попробовала сыграть роль психиатра: удастся ли ей понять душу пациента, глядя на эти карточки?
Но фотограф вдруг вернулся.
«Я не могла снять это так, – сказал внутренний голос. – И уж тем более повесить брак на стену. Что за ерунда?»
Снимок с нарушенной композицией резал ей глаза. И он оказался не единственным. Вот здесь очень некстати встрял дорожный знак, а там полуразваленные ступеньки, живописные, но не в фокусе. К тому же, зачем было снимать эту скамейку? Дора снова окинула глазами свою галерею. Большинство фотографий были сделаны профессионально и грамотно, но с несколькими явно было что-то не так.
Встав на компактную стремянку, она принялась срывать непонятные и подозрительные снимки со стены. Таких оказалось чуть больше десятка. Дора аккуратно разложила фото на столе и нависла над ними, будто приготовилась к прыжку. Вскоре она поняла, что эти фотографии можно разделить на две стопки. В первую идут те, что с дефектами съемки, а во вторую – не представляющие особого художественного интереса. Скамейка, перевернутая лодка не в лучшем ракурсе, забор… С какой стати она это снимала? Особенно притягивало фото с пустыми качелями, которые застыли на ветру так естественно, словно на них кто-то сидел.
Да, конечно!
У Доры перехватило дыхание от догадки. Вот что значили эти странные фотографии! На них должен кто-то быть. Если сюда добавить человека, то композиция приходит в норму. Дорожный знак тогда прячется за его спиной. Размытые ступеньки – портретная съемка без самого портрета. И лодка, скамейка, качели, забор – к ним так и просится какая-то фигура. Фигура, которой здесь нет.
– И что все это значит? – прошептала она.