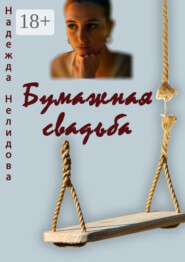По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
12 часиков
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну вот, чуть муравейник не своротили!
– А я что, должен был в яму с водой заезжать? Застряли бы по брюхо на всю ночь, – оправдывался муж.
Мы присели, осматривая нанесённый урон. Муравейник – северный, громадный, четырёхметровый холм. Колёса проехали по краю, задели святую святых, «детскую»: посыпались, как продолговатый рис, муравьиные коконы.
Что творится: весь холм ожил, зашевелился, запереливался золотом на вечернем солнце. Все муравьиные силы брошены на ремонт повреждённого участка. Кто-то прячет белые крупинки яиц и запечатывает ходы, кто-то тащит хвоинки для ремонта. Муравьи-солдаты отважно атакуют мои ноги. Приходится их, ноги, уносить.
… – Вчера за полночь домой пришёл – вашего звонка не заметил, – извинился Фёдор. – В четыре утра встаю, в час ночи ложусь.
«Вот таких первыми и раскулачивали в прошлом веке», – подумала я.
Окинула взглядом длинную деревенскую улицу. Есть добротные избы, как у Фёдора. Есть развалюшки, где доживают век колхозницы, вынесшие на плечах тыл. Победу в Великой Отечественной на бабьих плечах вынесшие. В конце улицы пугалом торчит чёрный двухэтажный барак.
– Чёрный – потому что поджигали не раз. И окна тряпьём и картоном заткнуты, – объяснил Фёдор. – Этих деятелей уж лет десять как от электричества отрезали. А они втихаря, воровски кинули провод – чтобы телики по ночам смотреть и электроплитками зимой топиться.
Сейчас барак стоит пустой. Фёдор нехотя рассказывал: «Его обитателям, по программе расселения аварийного жилья, в райцентре выделили квартиры в новостройке. По слухам, соседние дома стоном застонали. Сутками дым коромыслом, пьянки-гулянки, брань, разборки… Новые квартиры, лоджии, подъезды уже загажены хуже помойки».
– Можно спать по три часа, горбатиться, поднимать дом и хозяйство. А можно всю жизнь пропьянствовать в бараке – и поплёвывая ждать, когда тебя переселят в благоустроенную квартиру. Или мечтать о революции, чтобы под шумок разграбить ближнего соседа, – размышляю я.
Фёдор будто услышал мои мысли:
– А ведь всю нашу семью в пятьдесят шестом выслали в Якутию. Бабушку-дедушку, тётю-дядю, мать-отца. Нас, одиннадцать детей. Дед рассказывал: первое, что сделали – огляделись, поклонились на все четыре стороны, осенили себя крестом двупёрстно. И с Богом начали долбить мёрзлую землю, рыть землянки, утепляться. И выжили! Даже я, годовалый, выжил.
– За что выслали?
– Это надо с Первой Мировой начинать… – Павел держал в руке вилы, но решил сделать передышку, отложил ради разговора. – Деда моего ранили в бою, и он пять лет пробыл в плену у австрияков.
Держали там его в работниках, хорошо платили. Вернулся не с пустыми руками: привёз крупорушку, маслобойку, швейную машинку «Зингер». Сначала бабушка на ней стрекотала, потом тётя обшивала всю округу. Руки золотые, выдумщица. Из лохмотьев, из заплат ухитрялась компоновать не платья —загляденья.
В колхоз не записывалась: зачем, портнихой зарабатывала в разы больше. В тридцатые и в военное время мастерицу не трогали: жёны партийных работников тоже хотели одеваться модно. Из района, из города к ней приезжали наряжаться.
А при Хрущёве не прокатило. Ах так, не хочешь приближать светлое будущее и поднимать сельское хозяйство?! Ну, и сослали саботажницу, а заодно всю зажиточную родню в вечную мерзлоту.
«А ведь не случись тогда всех этих пертурбаций, – думаю я, – вполне возможно, столица мод из Парижа перекочевала бы в Алтухино. И носил бы сейчас весь мир платья не от Шанель, а от Алтухиной».
– Айда те-ка, что покажу, – обещает Фёдор. Из чулана вынес немаленький потёртый сундук. На нём старинные врезные латунные замочки. Сквозь хорошо сохранившуюся красную краску читаются вырезанные слова с ятями: 1908 год… Полк… Имя, фамилия, отчество, чин владельца…
Внутри – как тогда было принято, – крышка оклеена открытками, вырезками из журналов. В центре Августейшая семья. Портреты бравых генералов. И тут же женские головки из рекламы «чудесныя пудры» и «крема, придающего коже изумительныя белизну и бархатистость». Ну, энти мужики, ну охальники: что современные дальнобойщики, облепляющие кабины красотками, что служивые сто лет назад.
Внутри дерево ничуть не потемнело: как будто вчера из-под деревообрабатывающего станка. И лёгонькое, как пластик: Павел вынес сундук под мышкой. Открыл со звоном солдатский уютный, домашний мирок.
– Вот полочка мыльно-рыльная. Здесь солдатики держали помазок, бритву, ремень для правки. Здесь хранили чай-сахар, мешочек с сухарями. Кисет с табаком, иконку, письма с поклонами. Пуговицы, иголки-нитки. Вот потайные ящички для казённых денег.
Ящички до сих пор выдвигаются туда-сюда бесшумно, как по маслу. Боже, куда пропали секреты умельцев, деревянных дел мастеров? Куда пропали сами мастера, что спустя сто лет мы погрязли в третьесортных «мэйд ин чайна»?!
И вот ведь какая любопытная история. Сундук этот, где только ни путешествовал пять лет, ища своего хозяина. И не только не пропал – иголки из него не потерялось! А время было смутное. И посылки с едой в ту голодную пору адресата находили. Настолько честные, порядочные были люди.
А ещё в Фёдоровой пристройке стоит старинная самодельная круглая табуретка. От старости дерево приобрело драгоценный цвет чернёного серебра. Сиденье отполировано, как срез агата. Три изящно, «венски» выгнутых наружу ножки – из обычных суков!
Да тут музей можно открывать! Даже заляпанная старенькая, но крепкая, долблённая из цельного ствола куриная кормушка. Отмыть, отскрести – и под музейное стекло.
В полутьме хлева бессонно топочут овцы. В клетках прядают ушами кролики. За домом – пасека. Припозднившиеся пчелиные трудяжки пулями приземляются у летков.
– Знаете, сколько должна вылетать пчела, чтобы собрать одну ложку мёда? Две тысячи раз!
А несколько лет назад приключился пчелиный мор. Двадцать семей враз выкосило. Фёдор лечил, обрабатывал ульи, ставил поилки с лекарственной водичкой. Оставшиеся в живых пчёлы потихоньку выправились. Очистили жилища, вытащили трупики. Захлопотали, наращивая соты. Ожили. Нынче, слава Богу, три роя снял.
– В перестройку-то встрепенулись, завели восемь коров, – продолжает Фёдор. – Но прогорели: корма, налоги. В магазины навезли заграничной молочной диковинки – народ от родного молока отвернулся. Пришлось продать новый фундамент, чтобы рассчитаться.
Потом прогорели в прямом смысле. Барачные жгли сухой бурьян, перекинулось на забор, на баню, а там и на новую избу из бруса: только под крышу подвели.
Рассказывая (в сущности, трагические, драматические вещи), Фёдор покоен. Не всплёскивает, не машет руками, не жестикулирует. Кисти тяжко висят вдоль тела: отдыхают, пользуясь случаем. Не суетится лицом, изображая сожаление, горе, изумление, растерянность. Ни один мускул не дрогнет. Простой, ясный умный взгляд: как будто в себя немножко вглядывается.
Скажи ему, что у него иконописное лицо – он страшно удивится. Правильные черты, удлинённый овал, прямой нос. В последнее время выхолощено понятие цвета «синий». Синими называют серо-голубые, с лёгким оттенком голубизны, аквамариновые.
У Павла глаза – как будто на детской палитре капнули воды в густую синюю акварель. «Видели бы вы у Ксении, пока она не заболела. Вот это синие! Облака перед грозой, у-у!».
За стеклом на стене висит семейная фотография, ещё с дедом и бабушкой. Красивые, строгие пожилые и молодые лица. Сыновья как будто смущаются громадного роста и плеч. Молодая женщина с кротким, точно писанным тонкой кистью, ангельским лицом.
– Ксения Алфёрова! – воскликнула я.
– Ксения. Только не Алфёрова, а Алтухина, жена моя.
Всё-таки человеческая порода удивительная вещь. Сохранилась от поколения к поколению, сама сберегла себя в чистоте, передаваясь от отцов к детям, от детей к внукам. Не мешалась кровью – а с кем? В непроходимых-то лесах, в самом что ни на есть медвежьем углу.
Классическая, первозданная, природная красота – та, которую наши звёзды шоу-бизнеса за бешеные деньги суетливо пытаются слепить из скромных внешних данных.
Заказывают небесно-синие линзы для блёклых глаз. Хирургическими ножами правят далёкие от идеалов носы и рты. Ушивают и подтягивают дряблые шеи и овалы лица. Шьют и порют, подгоняют под модные лекала непородистые талии и бёдра. Так Фёдорова тётя в начале прошлого года безжалостно и решительно перелицовывала старое тряпьё, чтоб «было красивше».
В полутьме Фёдоровой пристройки стоит новенький разбитый серебристый «Рено Логан». Разбитый страшно: капот в гармошку, будто гигантской рукой безжалостно, играючи смяли в комок шоколадную фольгу. Кузов вдавлен, снесён почти полностью. Лобовое стекло – в стеклянную пудру.
– Об этой аварии писали в газете – не читали? Сыновья на днях ехали к Ксении на день рождения, да с картошкой помочь. И тут – лось в прыжке, полтонны весом. Животное – на смерть. Старший пришёл в себя, рядом брат без сознания. Выбрался (ещё с дверцы кровь не смыта).
Трасса оживлённая, людей мимо много едет. Видели и сбитого лося, и кровь, и людей без сознания. И никто не то, что не остановился – в полицию и «скорую» не позвонили, – вот тут Фёдор единственный раз скупо проявил эмоции: обескуражено, недоумённо приподнял и опустил плечи.
– Страховку выплатят?
– На случаи с животными страховка не распространяется. Мы должны заплатить штраф сорок тысяч за лося.
И снова в голосе Фёдора – ни сожаления, ни растерянности, ни раздражения. Случилось и случилось. Главное, сыновья живы. Младший до сих пор в больнице с черепно-мозговой.
Как будто кто-то невидимый, поколение за поколением, испытывает алтухинский род на прочность. Напасти сыплются как из дырявого мешка. Ссылка, разорение, пожар. Страшная болезнь Ксении, пчелиный мор, и вот авария…
Возвращаемся поздно. Место с муравейником объезжаем с другой стороны. Не утерпели, вылезли посмотреть. Муравейник практически принял прежнюю коническую форму. Раны зализаны, ходы запечатаны, мелкие обитатели отдыхают в своих норках, набираются сил перед долгим днём.
– Вот только не надо проводить параллель, – морщится муж. – Получится выспренно, слащаво, шито белыми нитками.
А я и не собиралась ничего проводить. Просто написала как есть. Муравейник и муравейник.