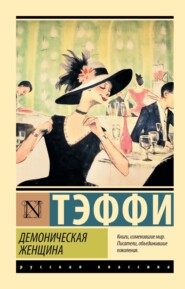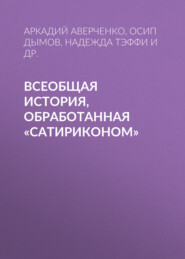По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кусочек жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Vraiment il n’y a que ?a dans la vie![43 - На самом деле ничего, кроме этого, в жизни нет! (фр.)]
Лапушка остановилась, посмотрела растерянно своими глазами, как у собаки с подпалинами, злыми и несчастными, и, быстро повернувшись, снова подошла к лентам.
Лизавета Петровна два раза подогревала рисовую кашу, а Лапушка все не возвращалась.
Потом совершилось нечто совсем необычайное – ее позвали к телефону.
Вернулась она страшно растерянная, остановилась на пороге и руками развела.
– Верно, под автомобиль попала. Господи, Господи!
Оказалось, спросил ее по телефону какой-то француз, есть ли у нее дочь и как ее зовут. А потом ничего не объяснил, поблагодарил и повесил трубку.
Что-то значит случилось. Какая-то беда.
Подумали сначала идти в полицию, потом решили ждать.
В восьмом часу Лапушка пришла. Сказала, что совсем не знает, кто спрашивал. Голос у нее был хриплый, и лица не показывала, смотрела вбок. Прошла в свою закутку и заперлась. Лизавета Петровна постучала. Она долго не отзывалась и вдруг закричала с визгом, не своим голосом:
– Ах, да отвяжитесь вы все от меня!
Утром, однако, вышла в обычное время, села к столу. Лицо было злое и похудевшее.
Лизавета Петровна, закрыв дверь на задвижку, чтобы прислуга не видела, гладила белье электрическим утюгом.
Лапушка долго молча и злобно смотрела, шевелила своими бровями-подпалинами. Губы у нее скривились и побелели.
– А вы все по-прежнему электричество воруете?
Мать испуганно посмотрела на нее.
Говорила Лапушка громко, но беззвучно, точно она в подушку кричала, как кричат во сне.
– Все воруете? Все крадете?
Зубы оскалила, не то засмеется, не то укусит.
– И напрасно вы спиртовку прячете. Все равно все видят… все насмехаются… все всё знают. Никого не обманете!
– Лапушка! Христос с тобой!..
– Лапушка! Да что ты?.. Сама не знаешь, что говоришь!
Но Лапушка вся дрожала, и бледные губы прыгали. А в злобных глазах ее огоньком разгорелась иступленная радость, и видно было, что уж замолчать она не может.
– Вы… вы… нищие… попрошайничаете да воруете! Россию свою ждете? Очень вы нужны России-то, две тетерьки старые! Не-нави-жу! Пусть на вас протокол напишут, пусть вы тоже приказчикам руки поцелуете… Вы! Вы! Вы во всем виноваты! Вы! Не-на-ви-жу!
Хлопнула дверью и ушла в коридор.
– Только не надо у нее ничего спрашивать. Понимаешь? Все это, конечно, пустяки. Я даже ни одного слова не понял… да… не понял – такие это все пустяки. Только не надо спрашивать…
Он смотрел на Лизавету Петровну умоляющими глазами, и щеки у него дрябло отвисли и дрожали.
А та перебирала на груди синими пальцами рваные бахромки платка, и все лицо у нее плакало, а слезы не текли.
Он встал и поспешно пристегнул воротничок.
– Нет. Довольно. Теперь будет все иначе. Довольно!
Он пошел к телефону и вызвал Шнека.
Телефонистки долго путали, но он добивался своего, а когда добился, узнал, что Шнек еще месяц тому назад уехал в Берлин.
Ардальон Николаич долго стоял около телефона. Все казалось, можно еще куда-то позвонить и добиться.
Потом медленно пошел к себе на свой диван и так, не снимая воротничка, в полном параде лег и повернулся лицом к стене.
Лизавета Петровна молча работала. Подбирала мотки и клубки, все чего-то валившиеся со стола.
Она ни о чем не спрашивала.
День
Гарсон долго вертелся в комнате. Даже пыль вытер – чего вообще никогда не делал.
Очень уж его занимал вид старого жильца.
Жилец на службу не пошел, хотя встал по-заведенному в семь часов. Но вместо того чтобы, кое-как одевшись, ковылять, прихрамывая, в метро, он тщательно вымылся, выбрился, причесал остатки волос и – главное чудо – нарядился в невиданное платье – твердый узкий мундир с золотым шитьем, с красными кантами и широкими красными полосами вдоль ног.
Нарядившись, жилец достал из сундучка коробочку и стал выбирать из нее ленточки и ордена. Все эти штуки он нацепил себе на грудь с двух сторон, старательно, внимательно, перецеплял и поправлял долго. Потом, сдвинув брови и подняв голову, похожий на старую сердитую птицу, осматривал себя в зеркало.
Поймав на себе весело-недоумевающий взгляд гарсона, жилец смутился, отвернулся и попросил, чтобы ему сейчас же принесли почту.
Никакой почты на его имя не оказалось.
Жилец растерялся, переспросил. Он, по-видимому, никак этого не ожидал.
– Мосье ведь никогда и не получал писем.
– Да… но…
Когда гарсон ушел, жилец тщательно прибрал на своем столике рваные книжки – Краснова “За чертополохом” и еще две с ободранными обложками, разгладил листок календаря и написал на нем сверху над числом: “День ангела”.
– H-да. Кто-нибудь зайдет.
Потом сел на свое единственное кресло, прямо, парадно, гордо. Просидел так с полчаса. Привычная постоянная усталость опустила его голову, закрыла глаза, и поползли перед ним ящики, ящики без конца, вниз и вверх. В тех ящиках, что ползут вниз длинной вереницей, скрепленной цепями, лежат пакеты с товаром. Пакеты надо вынуть и бросить в разные корзины. Одни в ту, где написано “Paris”, другие туда, где “Province”. Надо спешить, успеть, чтобы перехватить следующий ящик, не то он повернется на своих цепях и уедет с товаром наверх. Машина…[44 - Париж (фр.).][45 - Область (фр.).]
Ползут ящики с утра до вечера, а потом ночью, во сне, в полусне – всегда. Ползут по старым письмам, которые он перечитывает, по “Чертополоху”, по стенным рекламам метро…