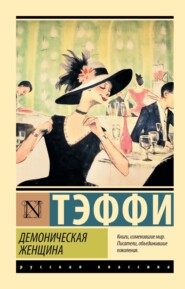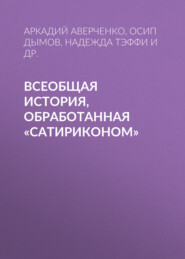По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жена
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Что это вы играете? – очнулся он. – Что за брехня! На сколько делится?
– На четыре четверти, – уныло протянул ученик.
– Так зачем же вы считаете на три?
– Это вы считаете, – робко ответил тот.
– Я? Форменное идиотство… Кстати, вы разве любите музыку?
– Мама любит.
– Может быть, лучше бы она сама и играла…
* * *
Ушастый мальчик ушел. Хорошо бы прилечь… Но Мане будет обидно. Ей всегда кажется, что он валяется в те часы, когда мог бы «творить». А никогда не поймет, что именно в те часы, когда творить не может…
– Маня, кажется, у меня этот урок сорвется. Мальчишка бездарен.
– Да тебе-то что? Хочет учиться, так и пусть.
– Нет, я так не могу. Это мне тяжело.
Она опустила голову, и он видел, как задрожало ее лицо.
– Маня! – крикнул он. – Только не плачь! Голубчик! Я на все согласен, только не плачь.
Тогда она, видя, что все равно слез уже не спрячешь, громко охнув, повалилась грудью на стол и зарыдала.
– Тяжело! Ему тяжело!.. Мне очень легко! Я молчу… я все отдала… Разве я женщина? Разве я человек? Отойди от меня! Не смей до меня дотрагиваться… Не за себя мучаюсь – за теб-бя-а! Ведь брошу тебя – на чердаке сдохнешь! Уй-ди-и!
– Милая… Милая!.. – мучился он. Топтался на месте, не знал, что делать. – Милая… Ты успокойся. Ну, хорошо, я уйду, если тебе мое присутствие… и немножко пройдусь…
Она оттолкнула его обеими руками, но когда он был уже на лестнице, она выбежала и, свесившись через перила, прокричала:
– Надень кашне! Ненавижу тебя… Не попади под трамвай.
* * *
Был вечер ясный и радостный, не конец дня, а начало чудесной ночи.
Алексей Иванович закинул голову и остановился.
– Умрешь на чердаке… – прошептал он, подумал и улыбнулся. – Собственно говоря, так ли уж это плохо?
Он повернул лицо прямо к закатному пламенно-золотому сумраку, вдруг запевшему, загудевшему для тайного тайных души его таким несказанно блаженным созвучием, что слезы восторга выступили на глазах его.
– Господи, Господи! Бедная ты моя, милая… Так ли уж это плохо?