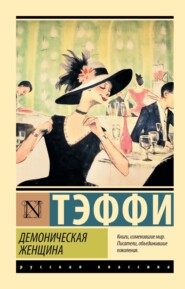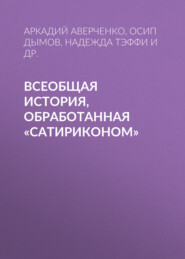По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Кусочек жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Во веки веков, – отвечают им.
Можно ли перенести эту фразу на улицы Парижа, Лондона, Берлина?
Слова древнего, непоколебленного благочестия. Вспоминается предсказанное Мицкевичу:
– В жизнь твою войдет человек. Имя Божие будет его приветствием.
– Благословенно имя Его, – сказал Товианский, великий мистик, постучав в двери Мицкевича.
И слова эти стали рычагом его жизни.
Имя Божие так тесно вплетено в речь славянскую, что без него в речи этой нет жизни и цвета.
Русское “не дай Бог”, “слава Богу”, “прости Господи”, “Боже упаси”, “дай-то Бог”, восклицание – “Господи, Боже мой!”. И то же в речи польской. Француз и немец скажут “Mon Dieu”, “Mein Gott” (и при этом, как ни странно, всегда в фразе, выражающей негодование), и то очень редко. Англичанин – никогда.[63 - Бог мой! (фр. и нем.)]
Вот эта особенность так роднит кровно речь русскую и польскую душу речи, не говоря уже о настоящем родстве общих истоков. И все это волнует и радостью, и печалью, как весть о близком, которого не увидишь.
Завтра окунусь в варшавскую жизнь.
Приключение
Ищу нитей к прежним варшавским знакомым. Вспомнила о редакторе одной русской газеты – о Самойлове-Горвице. Ответили:
– Убит большевиками.
Стала расспрашивать. Один сказал, что погиб, разыскивая жену в России. Другие, будто служил он разведчиком одновременно у чехословаков, у большевиков, у румын, у англичан и у японцев. Когда сложная эта работа открылась – бежал к большевикам – там его расстреляли.
С Самойловым связано у меня занятное приключение “военного образца”, о котором теперь и вспомнила.
Познакомилась я с Самойловым в Варшаве в 1913 году. Он был очень любезен, услужлив, был хорошим собеседником.
Приехав в Варшаву в 1916 году, я увидала его в военной форме. Он служил в армии и заведовал шпионами. Рассказывал много интересного.
Мне тогда ужасно хотелось проехать на фронт, только не в тихую и мирную его полосу, куда ездили общественные деятели с подарками и актеры со спектаклями, а в самую гущу, в самое пекло войны.
А Самойлов еще раззадоривал:
– Есть там одно удивительное место – густые заросли на горке. Если кусты раздвинуть – все немецкие позиции как на ладони. Очень любопытно. Но зато, чуть вы эти кусты раздвинете – бац, пуля в лоб. В одно мгновенье. Ловко метят.
И до того он меня этими зарослями отравил – сама теперь не понимаю почему, что стала я, несмотря на всю свою лень, хлопотать о разрешении проехать на передовые позиции. Но в качестве чего? Корреспондентов-женщин не пускали. Сестер милосердия без специального назначения не пускали. Как пробраться?
Генералы Красного Креста очень меня жалели, очень сочувствовали, но ничего сделать не могли. Пошла к помощнику генерал-губернатора – милому, чудесному Д.Л. – другу нашей семьи.
– Ради бога, дайте проехать на передовые позиции.
Он даже руками всплеснул.
– Опомнитесь! Это такой ужас! В окопах грязь, солома. Летит снаряд, разрывается – никого не убивает. Сколько стоит? – Пять тысяч. Летит второй, разрывается, никого не убивает. – Сколько стоит? Ужас! Ужас! Шесть тысяч! Нет, дорогая, не ездите на фронт.
В полном унынии позвала Самойлова.
– Не пойду я. Не пускают.
Самойлов – длинный, черный – зашагал озабоченно по комнате. Потом остановился, улыбнулся, показав свои платиновые зубы.
– Я придумал. Я вас повезу как разведчицу.
– ?
– Завтра утром я везу на фронт шпиона, который должен перейти на ту сторону. Возьму вас с собою. Трудно будет проехать через Новогеоргиевскую крепость, а там на фронте свои люди – там вас спрячут. Только бы крепость проехать. Но если задержат, я скажу, что вы разведчица.
План был интересный. Решили, что поеду в платье сестры милосердия – меньше обратят внимание.
Начала снаряжаться. Достала кожаную куртку, огромные высокие сапоги, косынку. Сапоги хлюпали на ногах, куртка пахла козлятиной, надушили ее “Ориганом Коти”. Через плечо повесила сумочку с самыми необходимыми предметами: паспортом, пудрой и шоколадом. Менее необходимые были завязаны в узелок. Несессера брать было нельзя – слишком нарядный вид.
В семь часов утра Самойлов был уже у меня.
– Ну, как вы меня находите?
– Вполне удачно. Хотя почему-то напоминаете… кота в сапогах. И выражение лица слишком довольное.
Внизу нас ждала коляска с кучером-солдатом.
– А шпион?
– Шпион сядет за городом.
Едем.
Страшновато. Но Самойлов спокоен. Рассказывает о разведчиках, как они ловко переходят немецкую сторону и как тот шпион, которого мы повезем, идет уже в третий раз.
Один раз украл около Лодзи немецкий аэроплан и на нем прилетел на наши позиции.
Интересно все это и жутковато. Вот, думаю, мне бы так…
Остановились у какого-то трактирчика. Тотчас же вышел небольшого роста субъект в клетчатой, надвинутой на нос фуражке. Воротник его пальто был высоко поднят, и шел он к нам, не глядя на нас, и влез в коляску, не говоря ни слова. Вот это так конспирация! Еду, мол, с ними, но ничего общего не имею.
Вид у шпиона был самый шпионский, точно он одевался и гримировался под кинематографического сыщика. Встретить такого на улице, невольно бы обернулся:
– Смотрите! Кого он тут вышпионивает? Кого выслеживает? От кого прячется?
Шпион сел к нам боком, натянул воротник до самых бровей.
Едем.
Помню, останавливались на каком-то постоялом дворе, обедали. Шпион ел отдельно, на подоконнике, тыкая вилкой между козырьком фуражки и воротником.
Под вечер подъехали к Новогеоргиевску. Застава. Подходят солдаты.