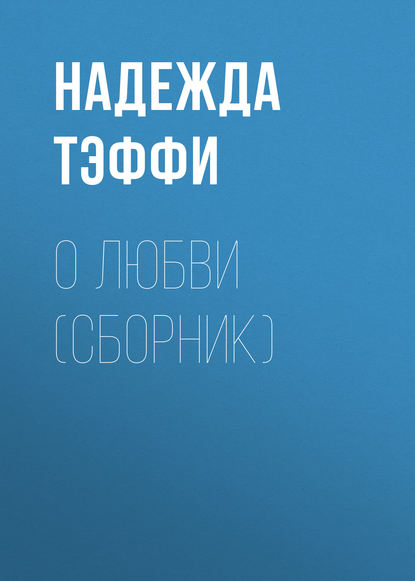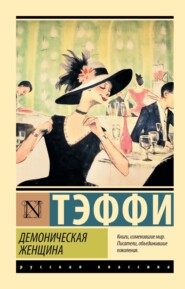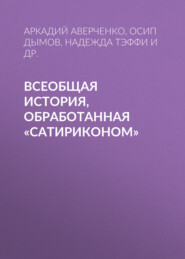По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
О любви (сборник)
Автор
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, что нового? Давно не видали нашу красавицу? Я про Любашу…
Фифиса даже ножницы уронила.
– Ох, милая моя! Ну и дела! Уж не следовало бы говорить, да вам ведь можно. Была я там третьего дня. Вызвала меня, значит, ногти делать. Ну, пришла я, а самой-то еще нету. Вижу, все благополучно, еврейный лакей двери отпирает, новая собачка бегает, хорошенькая, как купидон. Цветов всюду наставлено гибель, по комнатам англичанка ходит, за прислугами смотрит. Ну, значит, все слава богу, взят, значит, американец за зебры.
Ну я, значит, в будуарчике села, инструменты достала – жду. И вдруг нежданно-негаданно – звонок, является сам фон-барон, а он теперь, я знаю, за городом работает. Ну, поздоровался, он меня любит, «я, – говорит, – Анфиса Петровна, только Люлечку дождусь, меня в город по делу прислали, и нет ли чего пожевать». Ну и предложила я наскоро яишенку сварганить. И так он простодушно сказал: «Сварганить так сварганить». Ну, я живым манером, раз-два все ему в столовой на уголок стола поставила – сидит ест. А сама принесла горячей воды, села в будуарчик – жду. И минутки не прождала – влетает моя барынька, веселая, ну прямо купидон. «Живо, – кричит, – Фифиса, я тороплюсь». И не успела она шляпу снять, как слышим – звонок. И вбегает в комнаты, прямо в будуарчик, этот пузан, американский черт. Рожа вся на сторону, губы лиловые, как у медведицы… Не здоровается ничего и прямо: «Я, – говорит, – сам видел, как вы подъезжали и кто вас провожал», – рожа такая наглая. По-французски говорит – баронесса-то по-американски ни кукареку, как и мы, грешные. Баронесса себя сдержала и говорит: «Это что же значит?» – «А то, – говорит, – значит, что вы, верно, стареть начали, что за мальчишками бегать стали». Ведь это подумать только – такой богатый человек и такие простые слова произносит! Тут баронесса спокойно говорит: «Уходите вон и не смейте возвращаться». А он губы распялил и: «Сами позовете!» Подумать только! И ведь ушел! В передней дверью хлопнул. Только погодите, дело-то еще только начинается. Он, значит, дверью хлопнул, а с другой стороны, слышим, точно кто заикается: «А-а-а… а-а-а…» Оборачиваемся – барон! Лицо задрал – одни ноздри, и в бороде кусок яичницы трясется. Хочет что-то выговорить и не может. Ну до того страшно! Я чего-то особенно этой яичницы в бороде испугалась. Последние, думаю, времена наступили. А баронесса побелела вся, однако смеется: «Грива, Грива, ты чего?» А он все заикается и вдруг: «Кто это у вас сейчас был?» А она, верите ли, растерялась! Ну кто бы подумал! Такая баба умница… Ну сказала бы: «Кто был, того нет» или… мало ли как. А она только «Грива» да «Грива». Тут уж я набралась духу и говорю: «А это, разве не знаете, один тут старичок блаженненький». Тут она немножко в себя пришла и говорит: «Чего ты? Не понимаю. Это нужный человек, он мне помогает на бирже играть». А тот опять за свою волынку: «А-а-а, а о ком он говорил?» А баронесса смеется. «Представь себе, – говорит, – этот старый шут, кажется, в меня влюбился… И во всяком случае, ему, по-видимому, обидно, что я каталась с Верочкой и ее мужем, а его мы в свою компанию не принимаем». Ну и затарантила… Гляжу – он и отошел, улыбаться стал. Потом попрощался и пошел. Все, кажется, обошлось, а тут опять комедь. Баронесса моя глаза закатила, да как завизжит: «Боюсь, боюсь, боюсь!» Ногами бьет, всю ее корчит… Уж и намучилась я с ней – и водой, и одеколоном, – прямо всю даже ботэ[44 - От beaute (фр.) – красота.] с лица смыла, – потом, как пришла в себя, к Кева звонила, скорее мамзель с красотой прислать. И чего она так – понять не могу. Я уж допытывалась, что не того ли она боится, что американец совсем ушел и деньги унес. Так она даже улыбнулась. «Я, – говорит, – его сама больше на порог не пущу. Уж если человек смел таким тоном заговорить, так такой человек больше никуда не годится. Он как яблоко с червем, не знаешь, как кусить, откуда пакость вылезет». Со мной-то она откровенна, знает, что я никому никогда… Целый день по домам ходишь – мало ли чего наслушаешься, если начать сплетни разносить, тоже хорошего мало.
– Чего же она испугалась? – спросила Наташа.
– А кто ее знает. Мне уж даже в голову пришло – да уж очень как-то невероятно, – неужели она испугалась, что барон что-то понял? Неужто он и впрямь ничего не знает! Тут перед самым его носом такая, как говорится, щепетильная жизнь, и вдруг он ничего не замечает. Воля ваша – поверить трудно. Что ж он, уже совсем идиот, что ли?
– А может быть, так любит, что не хочет видеть? – задумчиво сказала Наташа.
– А если не хочет, так чего же вылез? Чего ноздри раздул? Ну и дела! И до чего же все это было страшно! Ну, думаю, бог с ними и с деньгами. Не пойду больше к ним ни за что, еще в свидетели попадешь. Ну, однако, вчера все как будто утихомирилось. Американец три корзинищи роз приворотил. Она его и на порог не пустила – верно, этого самого червя боится, хю-хю-хю! Ну и дела! Я, между прочим, думаю, что у ней, пожалуй, какой-нибудь другой ерш на прицепе, а то бы так не фыркала…
* * *
Если бы все всё время не говорили о Гастоне, Наташа давно бы его забыла.
Но о нем говорил у Велевич отставной Галтимор, потому что упомянул о Любаше, а у Любаши была стофранковка с зеленым пятном, происхождение которой так и осталось невыясненным. О Гастоне говорила Фифиса, потому что опять-таки рассказывала о Любаше. О Гастоне говорили собственные Наташины руки, потому что Гастон советовал подкрасить ногти…
Внешне жизнь текла обычно и ровно. В мастерской спешно сдавали последние заказы, назначили день для сольд, манекены и продавщицы толковали между собой о каникулах и о том, кто куда поедет.
Манекен Вэра вела себя загадочно, о своих планах никому не рассказывала, но давала понять, что все, может быть, удивятся. Мосье Брюнето был погружен в работу по уши. Он непритворно хлопотал, разъезжал, звонил по телефону, рылся в счетах и торговых книгах.
Что касается мадам Манель – то тут появилось нечто новое. Появилась неожиданная почти нежность к Наташе. Она кивала ей головой, улыбалась, любовно поправляла ей локоны и всячески выделяла из общей стаи легконогих девиц. В своей тоске и тревоге Наташа почти не замечала этой лестной для нее перемены. Дело в том, что в мастерской тоже говорили о Гастоне, потому что говорили о дансерах, а о дансерах говорил Галтимор, когда рассказывал, что встретил Любашу. И говорили о ночных ресторанах, и она вспомнила тот вечер, когда увидела его «с покойным другом» его отца.
Она «прекрасно сознавала, что ни капельки в этого типа не влюблена», но он внес в ее жизнь что-то ядовито-тревожное, замутил, как морская сепия, воду ее жизни, и в этой черной воде где-то шевелилось чудовище, которое погубит ее, и она не видела его и имени его не знала, но чувствовала, что оно здесь, и плакала во сне…
Так прошло время. И настал день…
14
Tes pleurs coulaient pour moi,
ma l?vre a bu tes pleurs.
Anatole France[45 - Твои слезы текли для меня, мои губы выпили твои слезы. Анатоль Франс (фр.)]
Je t’apporterai un jeune pavot
aux pеtales de pourpre.
Theocrite. Le Cyclope[46 - Я принесу тебе свежий мак с пурпурными лепестками. Феокрит. «Циклоп» (фр.)]
– Такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах, – то, без которых жить-то нам невозможно!
Ф. Достоевский.
«Братья Карамазовы»
Она только что пришла из мастерской, когда он постучал к ней в дверь и, не ожидая ответа, вошел.
Наташу поразил его возбужденный, почти безумный вид. Щеки горели, запавшие глаза были красны и лихорадочно томны.
– Я уже два раза был здесь сегодня, – сказал он. – Ходил, ждал перед вашей мастерской и не видел, как вы прошли.
Он вдруг опустился на колени, схватил Наташины руки, прижался к ним лицом и заплакал. Наташа вся затихла и ждала. Ей самой было странно, что вся истерическая тревога последних дней вдруг отошла от нее, и это нежданное и такое удивительное появление Гастона не взволновало и именно не удивило ее, а, напротив, как-то чудесно успокоило.
Он поднялся, встал рядом с ней заплаканный, как ребенок, с припухшим ртом.
– Наташа! – говорил он. – Вы одна у меня на свете, вы – единственное существо, которое можно и надо любить. Вы не знаете, какие есть подлые, низкие души. Они не успокоются, пока не сделают из вас негодяя… Нет, этого им мало! Они хотят сделать из вас самого черта, и тогда… тогда отшвырнут его… потому что с ним стыдно показаться, все видят его рога и копыта…
Он снова зарыдал.
Наташа ласково гладила его по голове.
– Вас обидели, бедный мой мальчик? – спросила она.
– Наташа! – бормотал он. – Наташа, полюби меня, удержи меня около себя, не отпускай. Я люблю тебя… Будем вместе с сегодняшней ночи навсегда…
Он плакал и целовал ее солеными от слез горячими губами.
– Я не уйду от тебя сегодня… Ты не прогонишь меня? Я такой несчастный… Я пришел к тебе навсегда… Ты не оттолкнешь меня?
– Нет, – ответила Наташа очень серьезно и грустно. – Нет. Я ждала тебя.
* * *
Уже светало. На улице гремели жестянки мусорщиков. Постукивая глухим звонком, прошел трамвай.
Гастон спал, закинув голову, стонал и метался во сне.
Наташа нагнулась к его лицу. Оно пылало…
«Он болен?»
Она провела рукой по его лбу. Он открыл мутные, красные глаза и со стоном закрыл их снова.
– Ты болен, Гастон?
– Ужасно болит голова…
Она встала, поправила ему подушку, прикрыла его одеялом, села рядом на стул и долго, жадно рассматривала его.
Вот он – этот неведомый и жуткий, так странно вошедший в ее жизнь. И во сне у него то же детское пухлое лицо, рот обиженного ребенка, нежная молодая шея. И вдруг она вздрогнула: на подушке рядом с этим милым лицом лежала его рука, огромная, с далеко отставленным, непомерно длинным большим пальцем.
Рука душителя!