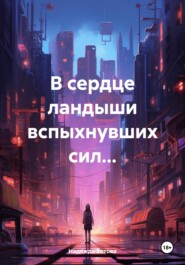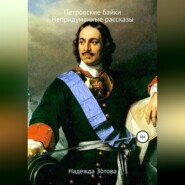По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Петровские байки и непридуманные рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Обнял Пётр Ляксеич мужика и говорит:
– Ну, спасибо тебе, Андрей Михайлов Ковшов, за правду твою да за то, что не за задницу свою, а за дело душой болеешь. Вижу теперь, что поднимем Русь, коли русский мужик так берется, верю, что быть России державой великой! А тебе от меня за мастерство и за правду твою вот на память червонец золотой. Своих сынов вырасти да прикажи, чтобы славы твоей не роняли и России, как ты, служили, чтобы дальше тебя пошли и память твою добрыми делами вершили!
Поцеловал Пётр Ляксеич Андрея и дальше вместе с Алексашкой пошел. Тот только и успел головой покачать и руками развести: фортуна, мол.
Андрей Ковшов, говорят, в купцы потом выбился, разбогател, дело крепко держал, а почином тому будто червонец царский был.
КАК ЦАРЬ ПЕТР КУПЧИХУ СВАТАЛ
Царь Пётр Ляксеич тогда уж в годы вошел, в Петербурге жить зачал. А токмо нет-нет да и завернет в первопрестольную поразведать, как она, матушка, туточко без его хозяйского глаза. Знамо дело, ты хоть кого заместо себя оставь, а все едино с хозяйской рукой ничто не сравнить. В кумпанстве с ним и Алексашка Меншиков увязался. Энтот, как пес, везде за царем таскался и в такую силу при нем вошел, что и придворным боярам не снилось. Советчик первый при Петре Ляксеиче был. Деньгами крутил немеренно и в полном доверии у царя был. И так навострился царевы желания сполнять, что тот, бывало, токмо рот открыть хочет, а Алексашка уж во фронте: все, мол, сполнено, мин херц. Это он царя так называл по-немчурински, вроде как друг сердешный.
Ну, мужик ведь завсегда мужик, ежели мужик, хучь в каком чине ни будь. Вот и Пётр-то Ляксеич с Алексашкой святыми-то не были. Все же естество свое берет. Да и то сказать, эдакий мужичина да чтоб монахом прожил! Ни в жисть такому не бывать!
Я те больше скажу. Иной и смирный и тихий, живет себе никого не трогает. Так нет тебе! Обязательно шельма какая попадется, все мужчинское нутро перемутит, спокою лишит и зачнет, стерва, куражиться: вот, мол, я какая, возьми меня съешь. А токмо мужик сунется по простоте душевной – накося выкуси! И опять круть да верть перед его носом.
Иные просто болеть зачинают, сердешные, не пьют, не едят, до сухости доходят, а энтих еще больше забирает оттого, что власть такую над мужиком заимели. Одним словом, сучье племя адово, ядри их в кудыкину гору!
Ну, вот, значится, Пётр-то Ляксеич с Алексашкой свои государственные дела сделали и решили передохнуть малость после трудов праведных. Москва не Петербург. Кругом попы да бояре, и все воют да жалятся, а то Петру Ляксеичу хуже ножа вострого. Покуда долгогривых да долгобородых с места сдвинешь, сам упреешь. Им бы сидеть коптеть да брюхо растить, а царь покоя не дает, аж сам запалился.
Вот и собрались они с Алексашкой чуток в кабаке охолонуть, душу отвести. Царь и говорит Алексашке:
– Ты, Данилыч, петушиное-то свое скинь, одень чего попроще. Запросто пойдем, а то ты враз меня обнаружишь, а я хочу так побыть-послушать.
Меншиков-то пыль в глаза пустить любил, но царя ослушаться не посмел, переоделся по-купечески.
Пришли они в кабак. Сели. Кругом шум, гам. Мужики пьяные песни орут, пляшут. Ну, кто во что горазд. Половые только штофы успевают подносить. Смотрят, за одним столом мужик сам с собой сидит. По виду купец, справный мужик, токмо смурной очень. И тянет горькую одну за другой, будто воду пьет. Царь подмигнул Алексашке, дескать, тащи сюда его. А купец ни в какую, сидит недвижимо и токмо головой мотает и пьяные слезы вытирает.
Царь не погордился, сам к нему подсел, Алексашка туто ж присобачился. Налил Пётр Ляксеич всем по чарочке, чокнулся с мужиком и говорит:
– Выпей со мной, мил человек, за здоровье мое с кумпаньоном моим да и за свое тоже.
Выпили. Поставил купец чарочку на стол, встал, царю поклонился.
– Благодарствуем, – говорит, – за угощение и долгого вам жития.
Тут царь его и спрашивает:
– Прости, – мол, – если не в свое дело лезу, только с чего ты так печалишься-кручинишься? По виду-то ты мужик не промах, собой ладный да и не голь перекатная, али горе у тебя какое непоправимое?
Мужик только рукой махнул и опять за горькую.
– Э, – царь говорит, – в пустое дело ты ударился. Сия водица горю не поможет, а самого сгубить может, – и хвать его за руку. – Ты лучше расскажи нам с кумпаньоном моим про горе свое, вдруг чем пособим и тебе душе полегчает.
– Верно, – Алексашка подхватил. – Ничего хуже нет горе с самим собой мыкать, надорвешь нутро – потом не выправишься. Сказывай лучше, что за беда с тобой приключилась.
– Эх, люди добрые, – вздохнул купец, – не знаю, как и приступиться к рассказу моему. Оттого молчу, что насмешек боюсь, сколь вынес их – не счесть, стыдно и рот открыть.
Царь с Алексашкой переглянулись.
– Уж не баба ли виной всему? – Алексашка спрашивает. – Они ведь на всякие такие штуки горазды до невозможности.
– Угадал ты, – мужик отвечает, – баба, купчиха наша, соседка моя Акулина Карповна.
Алексашка царю незаметно подмигнул, дескать, слушай государь. Царь трубочку прикурил, помалкивает, а сам купца глазами ест.
– Ну, дак что ж дальше, рассказывай, коли начал, – толкнул Алексашка мужика.
– Да чего уж там, – мужик отвечает, – люди, я вижу, вы нездешные, авось, если насмешку и сделаете, то где в другом месте, а мне, может, и вправду легче станет.
Он тряхнул копной кудрявых черных волос и медленно начал.
– Так что, люди добрые, зовусь я Антипом Тимофеевым Иголкиным, купеческого звания. Бога гневить неча: двор крепкий имею, хозяйство доброе, что от тятеньки перешло, да двух сестер замужних, тоже за справных купцов отданных, да матушку, что со мной осталась. Я к нашему делу сызмальсва приучен. Бывало, родитель наш, куда ни поедет, с собой тянет, пущай, мол, приучается да помогает: и копейка целее будет и надежнее свой-то глаз. Так я уж поднаторел под рукой-то его. Дела шли – лучше не надо. У батюшки, вишь, нюх прямо на барыш был. Иной кто пока расторопится, а он уж взял свое. Завидовали многие, козни всякие строили. Сколь раз спалить хотели, только бог миловал. Он ведь шельму метит. А только батюшка все едино не уберегся. Как-то по весне с обозом ехал, а одни сани возьми да и в полынью провались, тонуть зачали.
Товару-то на санях много. Жалко, что пропадет зазря. Вот батюшка и почал нырять в ледяную купель добро спасать. Знамо ведь, как горбом своим тяжело наживать. Кое-как с мужиками сани-то вытащили, а тятенька больно сильно охолонул да с тех пор грудью и занемог. Пролежал в горячке с месяц, сердешный, да и преставился, Антип набожно перекрестился. – С тех пор один я со всем стал управляться. Поначалу боязно было, за отцовой спиной кто не герой? Сторожко, по шажку, дело и пошло. Еще две лавки открыл, широко зажил. Коли б батюшка жив был, должно, доволен бы мной остался.
А по соседству с нами другой купец жил. Силантий Еремеевич Порфирьев, по-улишному Сила. Уж борода вполовину седая и голова с плешью, а все в бобылях. Хозяин он дюже справный, только не в меру жаден был. Среди купцов и то, бывало, ропот, что Сила из-под себя сожрать готов.
И вдруг, как гром средь ясного неба, Сила женится. По всему порядку гул, гудеж. Бабы с девками все языки отмотали, кто да что. Знамо, сколь кумушек с дочками на такой кусок зуб имели, да мимо рта пронесли. А Сила-то хитер оказался. Он девку эту давно уж присмотрел, только виду не показывал. Спугнуть боялся. Она, вишь, почитай годков на тридцать моложе его. Одна дочка у родителев среди шести братьев. Попробуй, обидь али что – зашибут до смерти. Опять же не голь какая, мошной не возьмешь. И зачал он на кривой кобыле их объезжать. В кумпанство к ним втерся да возьми и подставь их в казенном деле, так их в долги и вогнал. Рыпнулись они было чего, а он им векселя долговые, те и за головы схватились. «Отдавайте, – говорит, – девку за меня, не то всем вам каторга». Ну, те повыли-повыли и согласились.
– А что за казенное дело такое? – Царь тут спрашивает.
– Да по нашей купеческой части, – Антип отвечает. – Царевым служивым провиянт да мануфактуру поставить. Коли что залежалось да гнить зачало, то туда запросто. За ничто гнилья накупят да с царскими ворами барыши и поделят, будто хорошего товару купили. Поди, потом разбери, кто виноват. А солдатик-то и вовсе человек казенный, кому ж ему жалиться?
Пётр Ляксеич прямо с лица почернел и головой задергался. Сидит, трясется весь, ажник стол ходуном ходит. Алексашка в муравья ужался. Тож шельма был, царев кулак за то не раз испробовал, знал, пес блудливый, за что бивали.
– Сыграли свадьбу, – снова продолжил свой рассказ Антип. – Прямо скажу вам, вроде и богато было и гостей довольно, а токмо веселья живого, радости никаких. Отец с братьями, как тучи, сидели смурные, что и зеленая их не брала, а матушка-то аж в голос выла, будто на похоронах. А невеста, изукрашенная вся, как с Силой на лавку села, так во всю свадьбу и глаз не подняла, будто каменная сидела. Гости-то закричат «Горько!», а она прямо побелеет вся, словно покойница, ни кровиночки в лице. Один Сила рад, расцвел, репей старый, и все ее бесстыже руками загребает да мнет без терпежу.
– Что ж девка так уж хороша, что твой хрыч стыда лишился? – Прищурив загоревшийся глаз, спросил царь и ущипнул себя за ус. – Заесило что ли так, что порты загорелись?
– То-то что заесило, подтвердил Антип, – должно, и порты загорелись. Я сам, как ее увидел, будто огнем меня опалили. Высоконька, не толста, но в теле, волос густой, темно-русый, а брови соболиной черноты, и глаза темны с огоньками, с лица дюже пригожая и статью хороша. Маков цвет девка, а такому хрену досталась! И вошла она в меня, как заноза, с той свадьбы. Не велю себе о ней думать, а она из головы нейдет, мимо дома ихнего иду – все глаза просмотрю, не мелькнет ли где в окошке, куда ни пойду, не чаю встретить. А Сила, сучий сын, как чует, никуда не пускает. Сидит моя кралечка одна взаперти да, прости господи, этого старого черта поджидает. – Антип широко перекрестился и сплюнул. – В церкви только и видались, как в воскресенье ходили, и то он там боле глазами зыркал по сторонам, чем крестился. К ней и баб никаких не подпускал, старуху только приставил доглядывать да его нахваливать, та все и шипела на всех окромя его. К отцу-матери и то не пущал, видать чуял, что не по себе сук срубил. Знамо дело, зять старше тестя… Да и жлоб тож, расходов лишних не допускал, снегу зимой не выпросишь. Так прошло два года.
– Деток-то, стало быть, не было у них? – Вмешался Алексашка. – В добре-то уж парочка бы и прибыла.
– Не было, – улыбнулся Антип. – Уж Бог ли не допустил от аспида такого или еще что, а не было. Не принесла ему Акулина Карповна ни сынка, ни дочки. Не бери не свое, все едино счастья не будет. Одна маята.
– Ты дальше говори, – поторопил его царь, снова наливая всем по чарке. – Промочи-ка горло да закуси для смака, – он пододвинул Антипу миску с жирной вареной бараниной, – веселей рассказ пойдет.
Чокнувшись, выпили и, жадно вгрызаясь в сочные куски, оба – и Алексашка и царь – вперились в Антипа горячими глазами.
– К тому времени, – снова начал Антип, – надумала матушка меня оженить. Уж и невесту присмотрела, нашу дальнюю сродственницу, и зачала ко мне издалека подступаться. Зря хулить не стану, видал я ее, хорошая девушка – и работящая и собой не плоха, а только не к моему сердцу. Я уж и так и эдак отшучусь – не унимается матушка.
«Пора, – говорит, – тебе, милок, своим домом, своей семьей жить, а мне внуков качать. Отец-то не дожил до того, стало быть, на мне долг сей висит и мне его сполнять. А хозяйство у нас большое, и руки работящие мне в подмогу нужны. Допрежь она до всего дойдет, сколь воды утечет. Да и пора уж тебе в мужиках ходить, а не в парнях». Зудит и зудит, спасу нет. А как скажешь, что другая люба, да еще мужняя жена, да Силина хозяйка!
Антип тяжело вздохнул и опять, молча, подвинул свою чарку к штофу. Так же, не проронив ни слова, царь опрокинул пузырь и доверху налил Антипу водки, аж полилась даже через край. Залпом опустошив чарку, он утерся рукавом своей рубахи и продолжал:
– Знамо, в купеческом деле как: деньга сперва, хозяйство. А уж что шуры-муры какие, то дело десятое. Сроду так, кого мать с отцом присмотрят, те и суженая с суженым. Ослушаться воли родительской не моги – проклянут. Голышом со двора сгонят. Опять же никакой надежи на Акулину Карповну у меня не было, одна сухота. Может, думаю и впрямь жениться, клин-то клином вышибают, авось, отобьется от души заноза. На масленицу смотрины сделали, уговорились на Красную Горку свадьбу справить. Матушка зарадовалась до невозможности. И Сила зыркать на меня перестал. Что ж, дело решенное, со своей бабой теперича буду, ему, знать, спокойнее оттого. А только душа-то у меня не на месте, ровно рвется что-то внутри. Вот уж и матушка замечать стала, что не в себе я. «Что это ты, голубок мой, не захворал ли часом, не приведи господь?», – спрашивает. А сама смотрит так, как наскрозь сверлит. Я молчу, а внутри-то все трясется, вот-вот лопнет, самому-то и то страшно. А она не отступает: «Скажи да скажи, что с тобой деется, материнское сердце вещее, единственному сыну не враг». Бухнулся я ей тут в ноги и повинился. «Что хошь, – говорю, – матушка делай со мной, а только не жени, потому как не будет мне жизни без Акулины Карповны, Силиной жены. А пуще того боюсь, что безвинную душу загублю будущей своей суженой, потому как любить ее не могу и доли ей со мной не будет». Маменька в слезы. «За что, – воет, – бог наказал? Ведь, ежели Сила узнает, со света сживет. Ему, нехристю, человека сгубить да по миру пустить, греха никакого. Дознается, старый черт, хлебнем лиха! И от людей сраму не оберешься, сколь языков злых да завистливых вокруг!».
– Эка ты, парень дурень, – Алексашка тут говорит. – Да слыханное ли дело у купца жену отбивать! Уж родителю яснее, кто тебе сгоже. А ты бы норов свой кобелиный за пазуху спрятал да и держал его там до поры до времени. Жизня-то долгая, глядишь, и обломится чего и, може, оттуда, откуда и не ждешь!