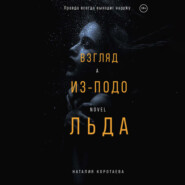По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Взгляд из-подо льда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У него не было возможности говорить с ней, прикасаться к ней. Но он питал себя любовью к ней, мечтая и представляя, как однажды они встретятся.
***
Выдался теплый августовский денек, солнце очень медленно и как-то особенно неторопливо взбиралось ввысь по ясному небу. К полудню, перед обедом, пациентов вывели на прогулку. По лестнице, не держась даже за поручни, спускалась Адриана. На ее лице виднелся чуть заметный румянец, длинные блестящие волосы были рассыпаны по спине, а несколько передних прядей были заколоты, но даже так самые тонкие волосы находились у лица, они не причиняли ей дискомфорта и не щекотали ее, а колыхались от дуновений теплого ветра. Она была уже опрятно одета, в глазах отсутствовала прежняя чертовщинка. Весь ее образ, снисходительный взгляд и мягкие движения руками делали ее похожей на сошедшего с небес на землю ангела.
Своим появлением она привлекла взгляды прогуливающихся по двору больницы пациентов и санитаров. На нее смотрел и ее тайный воздыхатель. Ему хотелось взять ее за руку и отвести в храм! Встать вместе с ней на клирос и вместе с ангелами воспевать славу Божию. До чего она была прекрасна…
Девушка спустилась со ступеней, огляделась по сторонам и направилась в его сторону. Молодой человек впервые почувствовал внутренний подъем, какая-то щекочущая волна прошлась по низу живота, заставив его слегка сгорбиться. Адриана прошла мимо, и лишь ветер, устремляющийся за ней и ударивший ему в лицо, привел молодого человека в чувства. Он огляделся. Рядом с ними никого не было. Он последовал за ней. Он шел крадучись, пока не понял, куда она направляется. Адриана шла в зеленый сад. Больницу с обеих сторон окружали дворы. С парадной стороны находились распашные высокие ажурные ворота в готическом стиле с гербом клиники в виде мифической птицы Симпати. По широкой вымощенной дороге они вели на небольшой двор перед клиникой. Также этот двор имел пешеходные тропинки. С боков находились церковь и школа. В отдельном небольшом здании располагалась хозяйственная часть. Задний двор не соединялся с передним, был отделен высокими решетчатыми воротами с прутьями различного диаметра и вычурными завитками, покрытыми от старости мхом. На задний двор можно было зайти только через одну дверь больницы, ведущую во двор. Эта территория предназначалась только для больных. Она была большой, при выходе из больницы во двор находились столики с кушетками для сиденья, тропинки вели в зеленый сад, высаженный еще первым держателем клиники в год образования. Сам сад далеко расстилался вглубь. Но для безопасности и дабы не терять больных из виду сотрудники отрезали и оградили его железной сеткой, за которую проходить запрещалось. В саду была хорошая почва, поэтому и наполняемость деревьями, источающими свежий приятный аромат, радовала глаз.
Нагнав Адриану, молодой человек окликнул ее. Она, чуть не подпрыгнув на месте, повернулась к нему.
– Откуда ты знаешь мое имя? – подозрительно спросила она. Ее взгляд посуровел, в нем проступила внутренняя настороженность, а тело приняло оборонительную позу.
– Я слышал его, когда тебя привезли сюда. Ты не заметила меня, но я тогда тоже был в приемном отделении.
– Мы одновременно попали сюда? – безэмоционально спросила она.
– Нет, я здесь давно. А тогда просто оказался там поблизости, помогал медсестре.
– Давно? Да ты, выходит, настоящий псих, – вздернув брови, улыбаясь с издевкой, сказала Адриана.
Жар обдал щеки парня, и в этот раз совсем не от смущения, а от ярости. Обычно издевки давались ему легко, но в этот раз он внутри затормозил, будто организм остановил всю работу. И Адриана, будто почувствовав это, еще более дерзко бросила:
– Хм, тебе даже нечего на это ответить, псих, – и направилась дальше вглубь сада легкой походкой.
Парень, доведенный до предела, развернувшись, пошел обратно во двор, ступая жестко на стопы и повторяя про себя: «Рингель, Рангель, Роза….». И тут в его голове будто загорелась лампочка. И он побежал догонять Адриану. Увидев ее вдалеке, он свернул с тропинки направо в чащу деревьев и пошел за ней, но уже пробираясь сквозь хвойные ветви, листья папоротника и скрываясь из виду за стволами. Шорох в чаще насторожил Адриану, и она огляделась. Всмотревшись в окружающие зеленые массивы, она продолжила идти, но уже не так быстро. Молодому человеку пришлось спуститься на колени, чтобы его не было видно из-за куста можжевельника. Нащупав на земле небольшой камень, он бросил его в ноги Адриане. Она оцепенела.
– Кто здесь? – не слишком громко, не до конца уверенным голосом проговорила она в пустоту.
Тишина. Она очень медленно стала поворачиваться вокруг себя, слегка прищурив глаза, будто желая видеть лучше. Повернувшись на сто восемьдесят градусов, она еще не знала, что сзади изваянием застыл он. Парень приблизился к ней одним широким шагом. Адриана собиралась взвизгнуть, но он зажал правой рукой ей рот. Они вместе дышали очень быстро и глубоко. Она – потому что была дико напугана, а он – от удовольствия, которое принесла ему удавшаяся охота на дикую лань. Он приблизил губы к уху Адрианы и произнес:
– Что же ты пошла сюда одна, Адриана, если поблизости одни сплошные психи?
***
Джон. 2000 год.
Джон Рихтер был сиротой из приюта города Дрезден, не знавшим своих погибших родителей. Детский дом распахнул перед ним двери, когда ему было три года. Став сиротой в столь юном возрасте, остаешься сиротой уже на всю жизнь, – считал Джон. Тебя могут усыновить, приютить родственники, но той внутренней полноты уже не вернуть.
В пятилетнем возрасте он часто лежал в своей кроватке с продавленным матрасом и представлял, что за ним придут новые родители, что его полюбят, в таком возрасте ему еще этого хотелось. А позже мысли заводили его к тому, что он не хочет, чтобы за ним кто-то приходил. Он принял эту свою судьбу и не собирался что-то менять. И это было не от хладнокровия, он не был таким, наоборот, он рос слишком добрым мальчиком, его часто обижали, придумывали клички, чаще всего связанные с его худощавым телосложением и большим ростом, а иногда из-за очков, которые он начал носить в одиннадцать лет. Но в его сердце никогда не таились ни злость, ни обида. Он не жаловался на судьбу. Нет, такого не было. И даже воспитателям на своих обидчиков он тоже не доносил.
Но в отношении себя он был весьма строг. Поводов для критики находилось достаточно: и внешность, и походка, да буквально все. Начиная с того, что он априори считал себя человеком, отличающимся от тех других, вне детского дома. Он считал себя странным, принижал себя, взращивая внутри неуверенность. Возможно, и обиды он терпел, потому что считал, что так должно быть. Его неуверенность не давала ему даже посещать кружки по плаванью, борьбе вместе со своими одноклассниками. Плавать он боялся, ему казалось, что существу, предназначенному дышать, вредно и почти невыносимо задерживать дыхание и погружаться полностью под воду, да и к чему это все, ведь он и не представлял, что люди могут получать удовольствия от занятий плаваньем. Насчет борьбы все было еще более категорично. Он считал, что его и так достаточно бьют, поэтому куда уж больше получать тумаки.
У него не было друзей, из-за замкнутости он не обзавелся ими. Замкнутость стала неотъемлемой частью в сознательном возрасте благодаря жизни в приюте, когда он видел, как открытые и добрые ребята подвергались издевательствам со стороны обозленных, не знающих, что они творят, сирот. Джон тогда решил, что останется человеком, не уподобится мерзостям, которые окружали его, но сохранит это только для жизни «за пределами» приюта. И вообще, вся его жизнь, как он считал, должна начаться только после совершеннолетия, когда он уйдет из приюта. Джон отлично учился в приюте, его особенно привлекала математика. Он видел в числах особую магию и любил решать самые сложные задачи.
Жизнь в приюте отличалась от жизни в семьях. В семьях есть родители, которые только и ждут успехов своих детей, ждут, чтобы за них порадоваться, похвалить и показать, как они гордятся и любят их. В приюте же все наоборот: за отличия в учебе или поведении другие дети злятся, кидаются на тебя, превращают всеми силами это в твой недостаток, а воспитатели и подавно даже не обращают внимания на таких. Им просто не хватает на это времени. Они заняты тем, чтобы следить за негодяями, разнимать драчунов и вымещать злость и усталость на тех же детях. Поэтому, будучи отличником, Джон не привлекал внимания преподавателей, а больше походил на невидимку.
В четырнадцать его перевели в приют при старшей школе. К тому времени его замкнутость достигла апогея и воспринималась людьми как высокомерие. Джона часто замечали с книгой в руках, и не только с немецкой литературой, но и произведениями авторов других стран, в том числе русскими. Стивен Хокинг, Франц Кафка, из русской классики – Булгаков, Гоголь. Он прочитывал по три книги в неделю, да читал бы и больше, если бы мог легко находить переведенные книги. Но с этим были проблемы. Если же книга была ему слишком интересной, он брался за перевод самостоятельно. Обладая усидчивостью и сосредоточенностью, он мог часами сидеть и заглядывать то в книгу, то в словарь, из-за чего казался окружающим ненормальным. Ведь в шестнадцать дети увлекаются совершенно другими вещами, хотя никто не высказывал ему этого во всеуслышание. Но однажды, проснувшись утром, Джон обнаружил в своей кровати дохлую ворону со свернутой шеей и выкрашенную белой краской. А потом неделю он слышал вслед: «Белая ворона!», но своим спокойствием он быстро потушил желание сверстников сделать из него изгоя.
То, что над ним не издевались, потому что попросту не считали это забавным для себя, не прибавляло Джону количества друзей к его и так абсолютному нулю. Его отличала от многих эрудированность, хорошие память и манеры, потому он не то чтобы был скучным другим, а более непонятным. Недалеким ребятам из-за собственного незнания были недоступны его грамотные, богатые, хорошо выстроенные речи. Из-за отсутствия воспитания – почему он манерничает. У Джона отсутствовало желание поиздеваться над найденными во дворе насекомыми, отрывая им крылышки или закапывая в землю жужжащую в зажатой ладони пойманную муху, как это делали все остальные. Он не включался в те игры, которые были интересны остальным, и с самого детства не занял среди сверстников ни одну из социальных ролей, приобретаемых детьми в процессе игры, и воспринимался ими как пустое место. Одиночество нарастало, но он старался об этом не думать. И представлял, что, когда будет поступать в университет, уедет из приюта в собственный настоящий дом – квартиру, которую получит от государства как ребенок-сирота. Он этого ждал, приют со своими волчьими законами и отсутствием прав Джону смертельно надоел. Он был уверен, что начнется его настоящая жизнь, повстречаются другие люди на жизненном пути, он заведет семью и уже никогда не вспомнит о том, что был когда-то детдомовцем…
***
Шарите. Июнь 2018 года.
Для них двоих наступила сладкая пора, прекрасное время. В воздухе пахло сахарной ватой, и птицы пели иными мелодиями, более чистыми и светлыми. Они уже и не знали, что находятся в лечебнице, они сами уже определяли место, а не место заключало их в себе. Все, что было прежде с каждым из них, не имело никакого значения.
Адриана изменилась внешне. Она похорошела, черные полукружья под глазами перестали уродовать ее. Она стала смыслом, молодой человек влюбился в нее. Его демоны внутри, с которыми он поступил в больницу, будто заснули или покинули его навсегда, он стал прежним. Преданным, как когда-то своей маме.
А Адриана стала мыслить рационально и вести себя в больнице так, чтобы ей как можно меньше причиняли боль, наказывая за непокорность. Старалась стать привилегированным пациентом, чтобы было проще, но она была слишком избалованной.
В их мире существовало одно главное правило: скрывать свои отношения как можно тщательней и не допускать ни одного промаха. Чаще всего они общались по ночам, когда молодой человек пробирался в ее отделение. Спустя время Адриану стали допускать в компьютерный класс. Там под клавиатурой они оставляли друг другу письма.
Адриана начала ходить в церковь при больнице. Ей это нравилось, она ощущала, будто на ней развязывался тугой узел, стискивающий кровоточащее сердце, она постепенно забывала то, что с ней произошло, но по-прежнему оставалась взбалмошной. К тому же ее настроение менялось с невообразимой скоростью.
Как-то раз она стояла в холле больницы на втором этаже у окна, скрестив руки на талии, и смотрела вдаль сквозь полотно из падающих капель дождя. Молодой человек заметил ее издалека и, осмотревшись, подошел мягко к ней.
– Адриана, что ты тут стоишь? – посмотрев на ее лицо, он ужаснулся, ему показалось, будто ее щеки исчерчены дорожками слез, но это оказалась лишь тень, отбрасываемая от струек воды, стекающих по стеклу. Он дотронулся до нее, желая, чтобы она повернулась к нему, но она, упорствуя, стояла твердо на месте перед окном. Качнувшись, она отстранилась от его прикосновения.
– Ничего, – не придавая никаких эмоций своему ответу, произнесла она. Но в ответе было столько холода, что парень почувствовал дрожь по всему телу.
– Адриана, что случилось? – продолжал он мягким голосом, пытаясь пробиться сквозь воздвигнутую перед ним стену.
– Я тебе сказала – ничего! Ты что, не слышишь? Ты глухой, неразумный, непонятливый? Слово «ничего» тебе говорит о чем-то? – разъяренно закричала она, развернувшись к молодому человеку и размахивая руками перед его лицом. Доведенная до истерики, она замахнулась, чтобы ударить его.
Ощутив бессилие перед ее приступом ярости, молодой человек понуро побрел прочь, задаваясь лишь вопросом о том, что это было.
– Отстань от меня! – кричала ему вслед Адриана.
В другие дни они так же могли встретиться, и Адриана прилежно, сама того желая, вела с ним диалог.
– Как дела, милая? – в надежде на хорошее настроение интересовался парень.
– У меня все хорошо, – с радостью в голосе отвечала она. – А как ты? Хочу прогуляться, ты пойдешь гулять? – как озорной котенок, желая говорить, игриво интересовалась она, и все ее поведение показывало, как она рада его видеть.
В другой день молодой человек снова обращался к ней:
– Милая, что ты хочешь?
– Сам скажи, что я хочу! – не отрываясь от журнала и перекидывая ногу на ногу, спокойно, почти ласково, но уверенно произносила она.
– Откуда мне знать? Я спрашиваю это у тебя, – легко, улыбаясь и всем видом показывая, что ради нее он готов на все, отзывался он.
Она вставала перед ним, отложив журнал и упираясь взглядом в него, говорила ему уголками губ: «Ничего не хочу!».
И у него все тут же рушилось, земля уходила из-под ног. Адриана могла еще после сутками не говорить с ним, наслаждаясь собственным одиночеством. Могла проходить мимо, обдавая его жутким, леденящим кровь холодом, а у него сердце останавливалось, и он почти никогда не знал, что ему делать и как быть. Любые его попытки примириться заканчивались жуткими криками, ему это было совершенно не на руку. Их отношения он старался сохранить в тайне.
Все менялось только тогда, когда ей этого хотелось. Она могла стоять, улыбаясь, перед его палатой, когда тот выходил на завтрак, безумно красивая, опрятно одетая, с уложенными волосами и бархатистой светящейся кожей. Он сиял в ответ на ее лоск, подходил, брал за руку и просто говорил: «Пойдем, ты же голодная». И все, с этого момента все начиналось сначала. Они вместе мечтали, вместе смеялись в своих записках. А иногда, находясь порознь, ловили взгляды друг друга и, подолгу не отводя их, просто были счастливы.