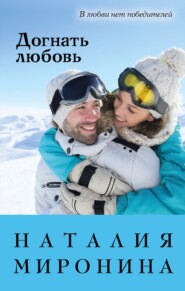По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Завтрак для Маленького принца
Автор
Серия
Год написания книги
2016
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Папа, это обязательно? – спросил я его тайком. Случившиеся события словно поставили нас на одну доску, стерли грани возраста и семейной субординации.
– Она так захотела. Как бы то ни было, она имеет право знать, где ты будешь жить.
– Скажи… там… – я замялся. – Там обо мне знают?
– Да, я все рассказал.
Меня успокоило, что отец ответил именно так. Во-первых, он не оказался трусом, он смог признаться при всех и избежать скандала, а во-вторых, я очень боялся слова «повинился». Тогда бы получалось, что его сын – это его вина. Сейчас, с позиции двадцатипятилетнего возраста, я понимаю смехотворность и наивность таких суждений, но в тот момент мне была важна каждая мелочь.
Дом, в котором жил отец, находился в центре. Я вспомнил, что во время наших прогулок мы этот район обходили стороной. «Не могли без меня, что ли, познакомиться?» – подумал я, войдя в кабину старого лифта. От нервного ожидания, от напряжения у меня вдруг губы стали расплываться в дурацкой улыбке. И когда на пятом этаже лифт остановился, переполошив весь дом лязгом и грохотом цепей, словно привидение, я расхохотался. Родители озабоченно переглянулись, и отец дернул меня за руку:
– Саша, успокойся! Все хорошо!
Эта фраза меня насмешила еще больше – в моем понимании хорошо никогда уже не будет. Невозможно собрать из мельчайших кусочков зеркало. Из этого можно лишь сделать мозаику, в которой все – лица, интерьеры, пейзажи – будет искажено. Я отчетливо помню, как перед дверью отец замешкался. Тогда я этому не придал значения, сейчас я отлично понимаю причину: он не знал, как лучше, деликатнее поступить – открыть дверь своим ключом или позвонить. Открыть по-хозяйски, своим ключом, означало обидеть мать, от которой этот жест не ускользнет, позвонить – означало поступить лицемерно по отношению к жене. Все время сам открывал, а тут на тебе, как чужой. Я тогда даже не задумывался, что должна была чувствовать приятная женщина, которая внезапно открыла перед нами дверь.
– Добрый день, проходите! – Хозяйка отступила назад, в прихожую.
Сейчас я пониманию, что рос среди очень красивых людей. Мать высокая, длинноногая – ростом она была почти с отца, – с белокурыми волосами до пояса. Черты ее лица были мягкими, но высокие скулы добавляли породы, делали лицо немного нестандартным, не только красивым, но и интересным. Глаза у нее большие, синие и всегда блестящие, вроде как наполненные слезами. Ни у кого я больше не видел такого блеска в глазах.
Отец был худощав, его удлиненное лицо с немного сердитыми серыми глазами всегда выражало спокойствие. Наверное, поэтому его улыбка действовала так ошеломляюще – он преображался, превращаясь в киногероя.
Женщина, которая открыла нам дверь, совсем не была похожа на брошенную и обманутую жену. Более того, я, подросток, для которого только-только начали существовать девочки с их заморочками, не мог не удивиться поступку отца. Его жена была очень молода, почти так же, как и моя мать. Она была тоже красива, только эта красота была очень утонченной, необычной, я сказал бы, изысканной. Татьяна Николаевна, так она представилась, была небольшого роста, очень тоненькая, почти девочка. Одетая во что-то темное и узкое – мой мальчиковый взгляд детали не разглядел – и коротко подстриженная. Я, приученный педагогами следить за осанкой, поворотами головы и шеи, удивился ее профилю – маленькая аккуратная головка на длинной шее. Помню, что на душе у меня стало легче – жена отца мне представлялась старой толстой теткой, которая вымещала бы на мне свою злость.
Я не знаю, что произошло между моим отцом и его женой, как она встретила его признание, что она ему сказала и как при этом себя вела, но сейчас, увидев на пороге своей квартиры нашу троицу, она была спокойна, сдержанна и уважительна. Она отступила на шаг, давая возможность нам войти, и специально улыбнулась мне. Я уловил еле заметное движение ее руки – она, видимо, хотела подать руку матери, но вовремя справилась со своими хорошими манерами.
– Добрый день… – Татьяна Николаевна посмотрела на мужа.
– Таня, это – Лю… это Людмила. – Всегда уверенный отец запнулся и покраснел.
– Здравствуйте. – Женщина не улыбаясь посмотрела на мать.
Я не помню, как мы расселись в большой квадратной комнате, что при этом говорилось, кто как себя вел. Я помню только ощущение от квартиры, от дома. Понятно, мне было слишком мало лет, я не улавливал детали и нюансы, но в тот момент я переживал одну из самых больших неприятностей в своей жизни, в тот момент рушилась моя семья, а потому я был чувствителен к воздуху, к тем волнам, которые неизбежно касались меня. И должен сказать, что в этом доме было то, чего никогда не могло бы быть в нашей с матерью квартире. Здесь, несмотря на измену, присутствовала прочность. Здесь был уклад, ненарушаемый порядок, традиции и законы. Я почувствовал, что именно здесь был дом отца. У нас с матерью этого не было, как не может быть этого всего в доме, в котором есть вечное ожидание, вечное «завтра», вечное «когда-нибудь». Тогда я это не мог внятно сформулировать, но смог это почувствовать.
Еще я обратил внимание на обстановку. Здесь всему было много лет – креслам, картинам, книгам, облепившим стену. Здесь было немного сумрачно, немного пыльно, но ощущения беспорядка или грязи не было. В нашем доме, где все было светлое, легкое, новое, малейшее пятнышко или не положенный на свое место предмет создавали ощущение хаоса.
Я помню, что пил чай. Взрослые о чем-то говорили – я не прислушивался, а тихонько изучал женщину, с которой мне предстояло жить под одной крышей. Ту, которая могла быть смертельно обижена на моего отца, могла ненавидеть мою мать и вряд ли питала теплые чувства ко мне, как к символу этой незаконной, вероломной любви. Я боялся ее, злился на себя, поймав на желании понравиться ей, не любил сейчас отца – он казался мне обманщиком, и я совсем не понимал мать, стыдясь ее яркой, невероятной красоты. Мне казалось, что она специально грозится уехать, чтобы напугать отца, чтобы подтолкнуть его к выбору, к уходу из семьи.
– Саша, ты успеешь собраться за неделю?
Вопрос прозвучал внезапно, и я, оглушенный своими мыслями и переживаниями, не понял, что надо отвечать.
– Саша, тебе же надо вещи собрать, книги… Я просто хочу перед твоим приездом сделать ремонт в комнате, которая теперь будет твоей. – Татьяна Николаевна обращалась ко мне, совершенно не замечая родителей. – Если хочешь, пойдем посмотрим ее сейчас?
Она уже встала, как бы приглашая последовать ее примеру, и мне ничего не оставалось делать. За столом, на котором гостеприимно были расставлены чашки с блюдцами, тарелка с блинами, варенье и конфеты, остались растерянные мать и отец.
– Послушай, – обратилась ко мне Татьяна Николаевна, когда мы вышли за дверь, – перестань волноваться. Представь себе, что ты приехал к очень близким родственникам, погостить, пожить. Отец будет рядом с тобой, это уже здорово, мама будет писать и приезжать. Что касается меня, я постараюсь, чтобы тебе здесь было хорошо. Тем более у тебя такой сложный год. Мне все известно и про балет, и про твои выступления. Я все о тебе знаю и думаю, что мы подружимся.
– А как же вы? – Этот вопрос вырвался у меня сам по себе.
Татьяна Николаевна на секунду растерялась, но потом улыбнулась:
– Поживем – увидим, но хорошо, что такой парень появился в нашем доме.
Я не знаю, чего стоил ей этот разговор. Чего стоила эта доброта, это прощение, но с этой минуты я почему-то совершенно перестал волноваться. Моя жизнь сделала неожиданный вираж, и причиной этого снова была любовь. Но уже любовь того, другого, неизвестного мне человека, который, оказывается, много лет был влюблен в мою мать и теперь ждал ее в далеком Кемерове.
Глава вторая
Те, кто решил заниматься балетом, живут совсем другой жизнью. И учатся они иначе, и дружат по-иному. Когда мне исполнилось шесть лет, отец меня отвел в кружок при Академии балета имени Вагановой. Желающих заниматься было много, хотя никаких гарантий дальнейшего поступления в академию не давалось. Но был престиж, была школа. Мне в кружке нравилось и давалось поначалу все легко – прыжок у меня был высокий да и гибкостью природа не обделила. Времени там мы проводили много – занятия проходили несколько раз в неделю, – и именно так я и познакомился с Егором. Мы были настолько разными, что постороннему человеку дружба между нами казалась невероятной. Но она случилась, и даже сейчас мы, потерявшие другу друга из виду, вспоминаем о ней с самыми теплыми чувствами.
Мы действительно были непохожи. Я был спокоен, терпелив, легко соглашался с любыми обстоятельствами, тогда как Егор был упрямым бунтарем, склонным к рискованным выходкам. В балет его приволокли, в буквальном смысле этого слова – мать тащила его за руку по дождливой мостовой, а он цеплялся за изгородь, скамейки и кусты. Делалось все это молча, почти без звука, с ожесточенным сопением. Его мама что-то приговаривала, пытаясь отвлечь сына, но это не имело никакого успеха. В конце концов Егора схватили в охапку, тряхнули за плечи, раздели и поставили перед комиссией.
– Ну, что ты умеешь делать? Изобрази что-нибудь.
И Егор изобразил. Он, скривившийся от злости, дергал руками, ногами, подпрыгивал, извивался. На все это безмятежно взирали взрослые тети и дяди.
– Извините, он так себя вел… – восклицала потом его мама.
– Приводите его к нам. Очень артистичный мальчик и, если подростком не поправится, будет танцевать.
Позже я удивлялся, почему при таких способностях, терпении, трудолюбии и выдержке Егор так не хотел в балет. Однажды я спросил его:
– Зачем так сопротивлялся, тебе же нравится здесь учиться?
– «Только не кидай меня в терновый куст, Братец Лис!» – процитировал друг известную сказку. А потом пояснил: – Понимаешь, предки меня решили наказать за поведение в школе и дома. Если бы они знали, что я хочу в балет, ни за что бы не отдали, это точно.
Я понимающе кивнул, но поверить – не поверил. Мне показалось, что в этом ответе была обычная его любовь к позерству и сочинительству.
В кружок нас привели в шесть лет, в училище мы поступили в десять, когда перешли в пятый класс. Именно в этот год мы распрощались с обычной школой – в училище мы одновременно и занимались балетом, и получали среднее образование. В силу специфики занятий мы не тратили время и силы на переезды, дорогу – все наше обучение проходило в одном месте и было направлено на то, чтобы превратить нас в артистов балета. Мы понимали, что танцевальный век недолог – если в восемнадцать ты становишься артистом, а около сорока выходишь на пенсию, тратить свою жизнь на что-то не имеющее отношение к балету непозволительная роскошь. Занятия в училище спасли меня еще от одной неприятности – никто не догадывался о том, что отец у меня «приходящий». У нас у всех была настолько отличная от сверстников жизнь, что обращать внимание на житейские несуразности не было возможности, да порой они и не бросались в глаза. Большая часть детей была из других городов, жили они в интернате и своих родственников видели в лучшем случае раз в месяц. Формально же все правила были соблюдены – я носил фамилию отца и был записан в паспорт матери.
Мой друг так и не поправился – он вытянулся, потерял детскую рыхлость, его прыжок приобрел легкость. Егор стал танцевать почти играючи, трудных па для него как будто не существовало. И только характер, взбалмошный, упрямый, несговорчивый, мешал ему в училище. Безобразия, на которые он был мастак, повергали в ужас администрацию и педагогов. Вызывали его родителей, ругали на педсоветах – все это имело эффект временный. Спасал Егора его талант. Он был таким очевидным, что даже мы, дети, не могли не признать этого. Перевоплощение в характер было настолько явным и ярким, что во время его танца все замирали. Я гордился другом, а он с удовольствием «пинал» меня:
– Ну, что ты как пломбир?! Сладкий, липкий, растекающийся…
Я отмалчивался – у меня была совсем другая манера выступления и слабость в характерных партиях. Но высокомерие друга и желание унижать мне не мешало. Я догадывался о какой-то обиде и… какой-то зависти. Нас в училище рано приучили смотреть на свое отражение в зеркале. Видно было, что Егор некрасив, что его темные, неукладывающиеся ни в одну стрижку вихры делают его похожим на черта, сходства добавляли смугло-желтоватый цвет кожи и маленькие глубокие глаза. На его фоне я выглядел классическим принцем из любой сказки братьев Гримм. Мы дружили, несмотря на различие в темпераменте и несмотря на его детскую злость. Когда моя семья так внезапно изменила «конфигурацию», Егор оказался ближе всех:
– Ну, Пломбир, можно, конечно, ей что-нибудь подстроить… – Его глаза загорелись азартным огнем.
– Кому? – не понял я.
Егор и сам не понял, кого он имеет в виду, но только он точно знал, что что-то надо предпринять.
– Пломбир, не дрейфь, только скажи. Можно этой, его жене… Или…
– Или… – насупился я.
– Да, ну все равно кому! Кто-то же виноват в том, что ты будешь с мачехой жить!
Егор, как всегда, произнес то, что я и так знал, но в его устах это прозвучало словно приговор. Первым побуждением было дать ему в морду, но что-то остановило меня. Я решил показать всем, в том числе и другу, что в моей жизни происходят желанные перемены. И потом, в свои двенадцать лет я понимал, что особенно виноватых здесь нет. Есть пострадавшие, заблуждавшиеся, ошибившиеся, но только не виноватые. Никого из близких считать таковым я не осмеливался.
– Она так захотела. Как бы то ни было, она имеет право знать, где ты будешь жить.
– Скажи… там… – я замялся. – Там обо мне знают?
– Да, я все рассказал.
Меня успокоило, что отец ответил именно так. Во-первых, он не оказался трусом, он смог признаться при всех и избежать скандала, а во-вторых, я очень боялся слова «повинился». Тогда бы получалось, что его сын – это его вина. Сейчас, с позиции двадцатипятилетнего возраста, я понимаю смехотворность и наивность таких суждений, но в тот момент мне была важна каждая мелочь.
Дом, в котором жил отец, находился в центре. Я вспомнил, что во время наших прогулок мы этот район обходили стороной. «Не могли без меня, что ли, познакомиться?» – подумал я, войдя в кабину старого лифта. От нервного ожидания, от напряжения у меня вдруг губы стали расплываться в дурацкой улыбке. И когда на пятом этаже лифт остановился, переполошив весь дом лязгом и грохотом цепей, словно привидение, я расхохотался. Родители озабоченно переглянулись, и отец дернул меня за руку:
– Саша, успокойся! Все хорошо!
Эта фраза меня насмешила еще больше – в моем понимании хорошо никогда уже не будет. Невозможно собрать из мельчайших кусочков зеркало. Из этого можно лишь сделать мозаику, в которой все – лица, интерьеры, пейзажи – будет искажено. Я отчетливо помню, как перед дверью отец замешкался. Тогда я этому не придал значения, сейчас я отлично понимаю причину: он не знал, как лучше, деликатнее поступить – открыть дверь своим ключом или позвонить. Открыть по-хозяйски, своим ключом, означало обидеть мать, от которой этот жест не ускользнет, позвонить – означало поступить лицемерно по отношению к жене. Все время сам открывал, а тут на тебе, как чужой. Я тогда даже не задумывался, что должна была чувствовать приятная женщина, которая внезапно открыла перед нами дверь.
– Добрый день, проходите! – Хозяйка отступила назад, в прихожую.
Сейчас я пониманию, что рос среди очень красивых людей. Мать высокая, длинноногая – ростом она была почти с отца, – с белокурыми волосами до пояса. Черты ее лица были мягкими, но высокие скулы добавляли породы, делали лицо немного нестандартным, не только красивым, но и интересным. Глаза у нее большие, синие и всегда блестящие, вроде как наполненные слезами. Ни у кого я больше не видел такого блеска в глазах.
Отец был худощав, его удлиненное лицо с немного сердитыми серыми глазами всегда выражало спокойствие. Наверное, поэтому его улыбка действовала так ошеломляюще – он преображался, превращаясь в киногероя.
Женщина, которая открыла нам дверь, совсем не была похожа на брошенную и обманутую жену. Более того, я, подросток, для которого только-только начали существовать девочки с их заморочками, не мог не удивиться поступку отца. Его жена была очень молода, почти так же, как и моя мать. Она была тоже красива, только эта красота была очень утонченной, необычной, я сказал бы, изысканной. Татьяна Николаевна, так она представилась, была небольшого роста, очень тоненькая, почти девочка. Одетая во что-то темное и узкое – мой мальчиковый взгляд детали не разглядел – и коротко подстриженная. Я, приученный педагогами следить за осанкой, поворотами головы и шеи, удивился ее профилю – маленькая аккуратная головка на длинной шее. Помню, что на душе у меня стало легче – жена отца мне представлялась старой толстой теткой, которая вымещала бы на мне свою злость.
Я не знаю, что произошло между моим отцом и его женой, как она встретила его признание, что она ему сказала и как при этом себя вела, но сейчас, увидев на пороге своей квартиры нашу троицу, она была спокойна, сдержанна и уважительна. Она отступила на шаг, давая возможность нам войти, и специально улыбнулась мне. Я уловил еле заметное движение ее руки – она, видимо, хотела подать руку матери, но вовремя справилась со своими хорошими манерами.
– Добрый день… – Татьяна Николаевна посмотрела на мужа.
– Таня, это – Лю… это Людмила. – Всегда уверенный отец запнулся и покраснел.
– Здравствуйте. – Женщина не улыбаясь посмотрела на мать.
Я не помню, как мы расселись в большой квадратной комнате, что при этом говорилось, кто как себя вел. Я помню только ощущение от квартиры, от дома. Понятно, мне было слишком мало лет, я не улавливал детали и нюансы, но в тот момент я переживал одну из самых больших неприятностей в своей жизни, в тот момент рушилась моя семья, а потому я был чувствителен к воздуху, к тем волнам, которые неизбежно касались меня. И должен сказать, что в этом доме было то, чего никогда не могло бы быть в нашей с матерью квартире. Здесь, несмотря на измену, присутствовала прочность. Здесь был уклад, ненарушаемый порядок, традиции и законы. Я почувствовал, что именно здесь был дом отца. У нас с матерью этого не было, как не может быть этого всего в доме, в котором есть вечное ожидание, вечное «завтра», вечное «когда-нибудь». Тогда я это не мог внятно сформулировать, но смог это почувствовать.
Еще я обратил внимание на обстановку. Здесь всему было много лет – креслам, картинам, книгам, облепившим стену. Здесь было немного сумрачно, немного пыльно, но ощущения беспорядка или грязи не было. В нашем доме, где все было светлое, легкое, новое, малейшее пятнышко или не положенный на свое место предмет создавали ощущение хаоса.
Я помню, что пил чай. Взрослые о чем-то говорили – я не прислушивался, а тихонько изучал женщину, с которой мне предстояло жить под одной крышей. Ту, которая могла быть смертельно обижена на моего отца, могла ненавидеть мою мать и вряд ли питала теплые чувства ко мне, как к символу этой незаконной, вероломной любви. Я боялся ее, злился на себя, поймав на желании понравиться ей, не любил сейчас отца – он казался мне обманщиком, и я совсем не понимал мать, стыдясь ее яркой, невероятной красоты. Мне казалось, что она специально грозится уехать, чтобы напугать отца, чтобы подтолкнуть его к выбору, к уходу из семьи.
– Саша, ты успеешь собраться за неделю?
Вопрос прозвучал внезапно, и я, оглушенный своими мыслями и переживаниями, не понял, что надо отвечать.
– Саша, тебе же надо вещи собрать, книги… Я просто хочу перед твоим приездом сделать ремонт в комнате, которая теперь будет твоей. – Татьяна Николаевна обращалась ко мне, совершенно не замечая родителей. – Если хочешь, пойдем посмотрим ее сейчас?
Она уже встала, как бы приглашая последовать ее примеру, и мне ничего не оставалось делать. За столом, на котором гостеприимно были расставлены чашки с блюдцами, тарелка с блинами, варенье и конфеты, остались растерянные мать и отец.
– Послушай, – обратилась ко мне Татьяна Николаевна, когда мы вышли за дверь, – перестань волноваться. Представь себе, что ты приехал к очень близким родственникам, погостить, пожить. Отец будет рядом с тобой, это уже здорово, мама будет писать и приезжать. Что касается меня, я постараюсь, чтобы тебе здесь было хорошо. Тем более у тебя такой сложный год. Мне все известно и про балет, и про твои выступления. Я все о тебе знаю и думаю, что мы подружимся.
– А как же вы? – Этот вопрос вырвался у меня сам по себе.
Татьяна Николаевна на секунду растерялась, но потом улыбнулась:
– Поживем – увидим, но хорошо, что такой парень появился в нашем доме.
Я не знаю, чего стоил ей этот разговор. Чего стоила эта доброта, это прощение, но с этой минуты я почему-то совершенно перестал волноваться. Моя жизнь сделала неожиданный вираж, и причиной этого снова была любовь. Но уже любовь того, другого, неизвестного мне человека, который, оказывается, много лет был влюблен в мою мать и теперь ждал ее в далеком Кемерове.
Глава вторая
Те, кто решил заниматься балетом, живут совсем другой жизнью. И учатся они иначе, и дружат по-иному. Когда мне исполнилось шесть лет, отец меня отвел в кружок при Академии балета имени Вагановой. Желающих заниматься было много, хотя никаких гарантий дальнейшего поступления в академию не давалось. Но был престиж, была школа. Мне в кружке нравилось и давалось поначалу все легко – прыжок у меня был высокий да и гибкостью природа не обделила. Времени там мы проводили много – занятия проходили несколько раз в неделю, – и именно так я и познакомился с Егором. Мы были настолько разными, что постороннему человеку дружба между нами казалась невероятной. Но она случилась, и даже сейчас мы, потерявшие другу друга из виду, вспоминаем о ней с самыми теплыми чувствами.
Мы действительно были непохожи. Я был спокоен, терпелив, легко соглашался с любыми обстоятельствами, тогда как Егор был упрямым бунтарем, склонным к рискованным выходкам. В балет его приволокли, в буквальном смысле этого слова – мать тащила его за руку по дождливой мостовой, а он цеплялся за изгородь, скамейки и кусты. Делалось все это молча, почти без звука, с ожесточенным сопением. Его мама что-то приговаривала, пытаясь отвлечь сына, но это не имело никакого успеха. В конце концов Егора схватили в охапку, тряхнули за плечи, раздели и поставили перед комиссией.
– Ну, что ты умеешь делать? Изобрази что-нибудь.
И Егор изобразил. Он, скривившийся от злости, дергал руками, ногами, подпрыгивал, извивался. На все это безмятежно взирали взрослые тети и дяди.
– Извините, он так себя вел… – восклицала потом его мама.
– Приводите его к нам. Очень артистичный мальчик и, если подростком не поправится, будет танцевать.
Позже я удивлялся, почему при таких способностях, терпении, трудолюбии и выдержке Егор так не хотел в балет. Однажды я спросил его:
– Зачем так сопротивлялся, тебе же нравится здесь учиться?
– «Только не кидай меня в терновый куст, Братец Лис!» – процитировал друг известную сказку. А потом пояснил: – Понимаешь, предки меня решили наказать за поведение в школе и дома. Если бы они знали, что я хочу в балет, ни за что бы не отдали, это точно.
Я понимающе кивнул, но поверить – не поверил. Мне показалось, что в этом ответе была обычная его любовь к позерству и сочинительству.
В кружок нас привели в шесть лет, в училище мы поступили в десять, когда перешли в пятый класс. Именно в этот год мы распрощались с обычной школой – в училище мы одновременно и занимались балетом, и получали среднее образование. В силу специфики занятий мы не тратили время и силы на переезды, дорогу – все наше обучение проходило в одном месте и было направлено на то, чтобы превратить нас в артистов балета. Мы понимали, что танцевальный век недолог – если в восемнадцать ты становишься артистом, а около сорока выходишь на пенсию, тратить свою жизнь на что-то не имеющее отношение к балету непозволительная роскошь. Занятия в училище спасли меня еще от одной неприятности – никто не догадывался о том, что отец у меня «приходящий». У нас у всех была настолько отличная от сверстников жизнь, что обращать внимание на житейские несуразности не было возможности, да порой они и не бросались в глаза. Большая часть детей была из других городов, жили они в интернате и своих родственников видели в лучшем случае раз в месяц. Формально же все правила были соблюдены – я носил фамилию отца и был записан в паспорт матери.
Мой друг так и не поправился – он вытянулся, потерял детскую рыхлость, его прыжок приобрел легкость. Егор стал танцевать почти играючи, трудных па для него как будто не существовало. И только характер, взбалмошный, упрямый, несговорчивый, мешал ему в училище. Безобразия, на которые он был мастак, повергали в ужас администрацию и педагогов. Вызывали его родителей, ругали на педсоветах – все это имело эффект временный. Спасал Егора его талант. Он был таким очевидным, что даже мы, дети, не могли не признать этого. Перевоплощение в характер было настолько явным и ярким, что во время его танца все замирали. Я гордился другом, а он с удовольствием «пинал» меня:
– Ну, что ты как пломбир?! Сладкий, липкий, растекающийся…
Я отмалчивался – у меня была совсем другая манера выступления и слабость в характерных партиях. Но высокомерие друга и желание унижать мне не мешало. Я догадывался о какой-то обиде и… какой-то зависти. Нас в училище рано приучили смотреть на свое отражение в зеркале. Видно было, что Егор некрасив, что его темные, неукладывающиеся ни в одну стрижку вихры делают его похожим на черта, сходства добавляли смугло-желтоватый цвет кожи и маленькие глубокие глаза. На его фоне я выглядел классическим принцем из любой сказки братьев Гримм. Мы дружили, несмотря на различие в темпераменте и несмотря на его детскую злость. Когда моя семья так внезапно изменила «конфигурацию», Егор оказался ближе всех:
– Ну, Пломбир, можно, конечно, ей что-нибудь подстроить… – Его глаза загорелись азартным огнем.
– Кому? – не понял я.
Егор и сам не понял, кого он имеет в виду, но только он точно знал, что что-то надо предпринять.
– Пломбир, не дрейфь, только скажи. Можно этой, его жене… Или…
– Или… – насупился я.
– Да, ну все равно кому! Кто-то же виноват в том, что ты будешь с мачехой жить!
Егор, как всегда, произнес то, что я и так знал, но в его устах это прозвучало словно приговор. Первым побуждением было дать ему в морду, но что-то остановило меня. Я решил показать всем, в том числе и другу, что в моей жизни происходят желанные перемены. И потом, в свои двенадцать лет я понимал, что особенно виноватых здесь нет. Есть пострадавшие, заблуждавшиеся, ошибившиеся, но только не виноватые. Никого из близких считать таковым я не осмеливался.