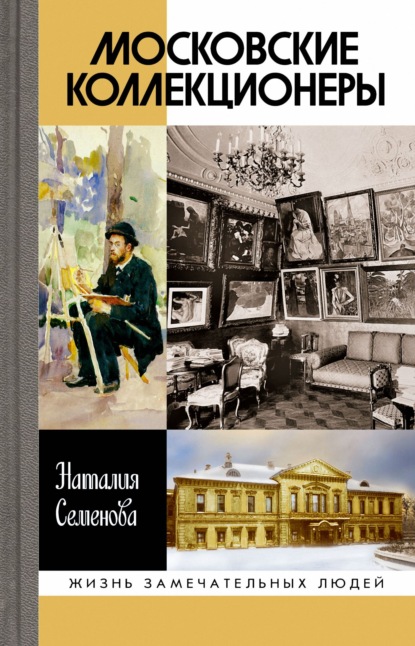По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Московские коллекционеры: С. И. Щукин, И. А. Морозов, И. С. Остроухов. Три судьбы, три истории увлечений
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Своих Добиньи, Коро, Курбе, Милле, Руссо и Тройона Дмитрий Петрович покупал через парижских маршанов – Гупиля, братьев Пти, Дюран-Рюэля. Будучи коммерсантом, Боткин старался не переплачивать, действуя по принципу: «Задорого купить может каждый, купить дешево – вот настоящее искусство». Покупать у художников напрямую, без посредников, ему помогал Алексей Петрович Боголюбов, художник, коллекционер и главный художественный эксперт императора Александра III. «Когда я оставлял моих благодетелей (прославленный маринист давал уроки живописи будущему царю и его супруге. – Н. С.), наследник Цесаревич сказал: “Пишите мне, что встретите интересного по художеству, да и приобретайте, что найдете достойным”», – вспоминал Боголюбов. А если великий князь появлялся в Париже, Боголюбов просвещал его по части парижских художественных новинок: водил по галереям и мастерским художников; Д. П. Боткин и С. М. Третьяков двигались тем же маршрутом.
А. П. Боголюбов не только консультировал других, но и сам собирал. Со своей коллекцией он поступил благородно: подарил городу Саратову. Так в провинциальной России появился первый общедоступный музей, который, по желанию дарителя, назвали «Радищевским» – автор знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев приходился художнику дедом. Прежде чем оказаться в Саратове, картины прибывали в Москву вместе с последними французскими покупками Дмитрия Петровича. Их доставляли по адресу: «Покровка, собственный дом Д. П. Боткина» (ныне Покровка, 27), значившемуся даже в путеводителе Бедекера – с разрешения хозяина три «картинные комнаты» (два салона и кабинет с итальянским окном) в определенные часы мог посмотреть любой.
Итак, подтолкнуть к собирательству Сергея Щукина мог, во-первых, пример Д. П. Боткина, коллекция которого в восьмидесятых годах насчитывала более ста картин, а во-вторых, отцовского приятеля Кузьмы Терентьевича Солдатёнкова, чья галерея тоже фигурировала в московских путеводителях. Солдатёнков, хотя и не состоял с Щукиными в кровном родстве, оказался самым близким их семейству человеком. И. В. Щукин и К. Т. Солдатёнков оставались неразлучны с юных лет – странно было слышать, как два старца фамильярно обращались друг к другу «Ваня» и «Кузьма». Если сопоставить факты и даты, получается, что именно благодаря Солдатёнкову его друг Иван Щукин попал к Боткиным в Петроверигский, где встретил свою будущую жену. «Связующим звеном» в этой цепочке мог стать либо историк Т. Н. Грановский (в сороковых годах Василий Боткин уговорил отца сдать ему половину бельэтажа), либо доктор П. Л. Пикулин, ближайший друг Щукина и Солдатёнкова, он же муж Анетты – Анны Петровны Боткиной-Пикулиной, сестры Екатерины Петровны Боткиной-Щукиной. Пикулин, чей кабинет современник называл «последним центром, где сходились люди 40-х», постоянно появлялся в кружке Станкевича, где обсуждались вопросы философии, эстетики и литературы, активными членами которого были Василий Петрович Боткин и Грановский. Сейчас фамилия Грановский скорее ассоциируется с улицей, на которой проживали советские партийные деятели, а в 1840-х годах это имя гремело: «ни один русский профессор не производил на аудиторию такого неотразимого и глубокого впечатления», как историк Тимофей Грановский.
К. Т. Солдатёнков и И. В. Щукин были не только партнерами по бизнесу и ровесниками. Они росли в купеческих семьях, служили в лавках своих отцов, вместе начинали на Таганке (на двоих купили ткацкий станок и наняли рабочего ткать кисею), вместе богатели, занимали должности, держали ложу в Большом театре и жили на даче в Кунцеве. Только Солдатёнков стал публичной фигурой, и поэтому о нем написано много и подробно, а о И. В. Щукине вспоминают лишь как об отце прославленных коллекционеров. Несомненно, Кузьма Терентьевич был персонаж гораздо более колоритный, чем старший Щукин. «Я всегда удивлялся, как человек, не получивший образования даже на медные гроши (а ведь он до старости писал плохо и ни на каком языке, кроме русского, не говорил), был так развит <…> это был истинно русский ум, не без практической жилки, но такой глубокий и разносторонний…» – вспоминал художник А. А. Риццони. В Солдатёнкове все было необычно. Старообрядец и при этом убежденный западник. Жил в гражданском браке с француженкой Клеманс Карловной Дюпюи, которая так и не научилась говорить по-русски (она звала его Кузей, а он ее Клемансой). Купил за огромные деньги у князей Нарышкиных дачу в Кунцеве, построил на Мясницкой особняк по индивидуальному проекту – с молельней и салоном в стиле Людовика XVI; собрал картинную галерею, огромную библиотеку.
Собирать Солдатёнков начал в 1852 году – на целых четыре года раньше самого Павла Третьякова, о чем, впрочем, редко когда вспоминают. В искусстве коллекционер-нувориш разбирался слабо, но признаваться в этом не стеснялся. Николай Петрович Боткин, названный Фетом красавцем туристом, познакомил Солдатёнкова в Риме с художником Александром Ивановым (судьбы Боткиных, Щукиных, Солдатёнковых и Третьяковых постоянно пересекаются: один круг, ничего не поделаешь). Иванова первого Кузьма Терентьевич попросил помогать и покупать ему русских художников на его вкус и выбор. В 1860-х Солдатёнков сделался обладателем прекрасной коллекции русской живописи и даже удостоился любовного прозвища Московский Медичи[20 - Принадлежавшие К. Т. Солдатёнкову 230 полотен русских мастеров, коллекция скульптур и гравюр, а также картины иностранных мастеров и двадцатитысячетомная библиотека – все было завещано Румянцевскому музею.]. «Если бы не Прянишников[21 - Федор Иванович Прянишников (1793–1867) – директор почтового департамента, собрал коллекцию картин русских художников. Его галерея была единственным русским частным собранием, купленным после смерти владельца казной. Поступила в Румянцевский музей в Москве; ныне в составе Государственной Третьяковской галереи.], Третьяков и Солдатёнков, то русским художникам некому было и продать свои картины: хоть в Неву их бросай», – любил повторять художник Риццони.
Крупнейший российский торговец бумажной пряжей тратил свои миллионы на разнообразные культурные и общественные нужды, а не только «задавал лукулловские обеды и сжигал роскошные фейерверки с громадными щитами, снопами из ракет, бенгальскими огнями» на даче в Кунцеве, где по соседству проживали Третьяковы, Боткины и Щукины. Более всего известен Солдатёнков некоммерческой издательской деятельностью и бесплатной больницей для бедных «без различия званий, сословий и религий». Раньше больница называлась Солдатёнковской, а после революции была переименована в Боткинскую. Вряд ли Солдатёнков обиделся, узнав, что больница, на которую он потратил более миллиона, получила имя доктора Сергея Петровича Боткина, одного из братьев Боткиных, с семьей которых он был так дружен.
Жизнь и судьба каждого из Боткиных – захватывающий сюжет с неизменным участием их доброго гения В. П. Боткина. Сергей Боткин, в детстве считавшийся чуть ли не умственно отсталым, тоже всем обязан Василию Петровичу. Старший брат нанял ему хорошего домашнего учителя, который распознал у Сергея выдающиеся математические способности. Математиком С. П. Боткин не стал, поступил на медицинский факультет, прошел ординатуру в Европе на завещанные ему старшим братом деньги и стал великим врачом, основателем отечественной школы клинической медицины.
Родившиеся в 1810-х годах В. П. Боткин, К. Т. Солдатёнков и И. В. Щукин редко «проговаривались» о своем детстве и юности. Поэтому столь поразительно признание, сделанное Василием Петровичем Боткиным в письме младшему брату: «Из моего детского возраста – нет отрадных воспоминаний: добрая, простая мать, которая кончила тем, что беспрестанно напивалась допьяна, – и грубый, суровый отец. И какая дикая обстановка кругом. Но, несмотря на суровость, – отец, при всем невежестве, был очень неглуп и в сущности добр. Поверишь ли, что память моя сохранила из моей ранней молодости, исполненной такой грязи и гадости, – что даже отвратительно вспоминать себя». Как это похоже на детство Солдатёнкова, который «родился и вырос в очень грубой и невежественной среде Рогожской заставы, не получил никакого образования, еле обучен был русской грамоте и всю свою юность провел “в мальчиках” за прилавком своего богатого отца, получая от него медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах».
Купечество было людьми второго разряда. А если вспомнить, что у многих вдобавок имелись крепостные прадеды, то неудивительно, с какой энергией и напором они устремились сначала в бизнес, а затем в собирательство – достойное обладателя больших денег увлечение, позволяющее доказать себе и окружающим собственную избранность.
Глава третья
Иван-младший
Ивану Васильевичу Щукину исполнилось пятьдесят, когда родился последний из его сыновей, Иван-младший. Ни о каких поездках в немецкую школу в Выборг или петербургский пансион речи уже никто не заводил. До пятнадцати лет Ваня учился дома – отец организовал для младших детей «целый штат гувернеров, воспитателей и преподавателей», а потом определил сына в Катковский лицей[22 - Лицей цесаревича Николая, привилегированное мужское учебное заведение, был основан в 1867 году М. Н. Катковым и задуман как образцовое для других русских гимназий и вузов учебное заведение.]. Дети привилегированных и состоятельных родителей учились в двух московских заведениях: либо в Поливановской, имевшей все права казенной гимназии, либо в Катковском лицее, не важно, купцы или аристократы. Если бы не фамилия, в Иване Ивановиче Щукине (1869–1908) никто и не заподозрил бы купеческого сына: внешностью он пошел в боткинскую родню, был строен и элегантен – не в пример мужиковатым коротконогим старшим братьям. Был «умен, талантлив, остроумен, но не глубок», как в старости напишет учившийся вместе с ним И. Э. Грабарь. В средине 1880-х пятнадцатилетний лицеист смотрел на однокашника по историко-филологическому отделению с нескрываемым обожанием. «Особенно импонировала мне безапелляционность его отзывов: тот – безграмотен, этот – бездарность, третий – пошляк. Я принимал все на веру и только удивлялся ошеломлявшей меня осведомленности – память у Ивана, – вспоминал Грабарь, – была феноменальной, он постоянно что-то читал – по-русски, по-французски, по-немецки. Щукин знал не только всех русских художников, но и французских, немецких, английских, испанских и передавал о них подробности, которые я готов был выслушивать целыми днями». Высокомерием Иван-младший тоже отличался с юности. Грабарь вспоминал, как тот постоянно язвил насчет директора и его педагогических методов. «Подобно мне, он ни в коей мере не разделял мнение своего отца о величии Каткова… повторяя слышанное где-то на стороне, но, конечно, не дома, где все было по старинке и где Каткова называли не иначе как по имени-отчеству». Учитывая, что М. Н. Катков дружил с В. П. Боткиным и входил в уже упоминавшийся кружок Станкевича, старший Щукин не мог не относиться к основателю московского лицея с пиететом.
Если переселение душ все-таки существует, то Иван Щукин несомненно стал реинкарнацией Василия Петровича Боткина. Племянник мог бы посоревноваться с дядей в эрудиции и литературном таланте: студентом Иван Иванович, как вспоминал он сам, «усиленно строчил в московских изданиях, получая по пять копеек за строчку», потом сотрудничал в суворинском «Новом времени», в «Петербургских ведомостях». Теперь он подписывал свои заметки «Жан Броше» – «Иван Щука», если переводить дословно, так как числился нештатным зарубежным корреспондентом. В 1893 году Иван Иванович уехал в Париж – Россию он всегда не любил, считал отсталой, провинциальной и не раз признавался, что «азиатская душа» Москвы ему чужда. Вот чем обернулись западничество и космополитизм старших, однако западничество умеренное. «Западник, только на русской подкладке, из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко», – говорил о В. П. Боткине А. А. Фет.
Иван Иванович рано или поздно все равно перебрался бы за границу, а тут подвернулся благородный повод: сопровождать на лечение брата Владимира, горбатого от рождения. «Он был задушевный человек, в особенности любил брата Ивана, с которым вместе рос, и няню Эмму Карловну», – вспоминал Петр Иванович, не скрывавший, что «несчастного брата» знал плохо – большая разница в возрасте не способствовала близости старших и младших. В конце августа 1895 года Владимир Щукин умер в Париже от туберкулеза мозга. В память о нем Московский университет получил 70 тысяч рублей и две стипендии для студентов физического и две – для учащихся медицинского факультета, который окончил В. И. Щукин. Поездка на похороны – брата похоронили в Покровском монастыре – была последним визитом Ивана Ивановича в Москву. В Париж он вернулся с «эгоистическим чувством некоторого облегчения». Отныне с Россией его больше ничего не связывало. Денежные вопросы он уладил, передав свой пай в семейном деле в управление Петру (брат регулярно выплачивал ему приличную сумму).
«Ехать в Москву теперь не помышляю – да минует меня чаша сия! А с Вами был бы рад повидаться и потолковать, но только здесь, на гнилом Западе», – звал Иван в «столицу мира» Остроухова (они когда-то вместе занимались живописью, а потом Илья Семенович женился на его кузине Наде Боткиной[23 - Их взаимоотношения подробно описаны в части третьей.]). Связями, знаниями, наконец, средствами Ивана Ивановича пользовались очень многие, и очень многие его не любили, называли самонадеянным и циничным, но только за глаза. Особенно нелицеприятно отзывался об Иване Ивановиче А. Н. Бенуа. Читая расшифрованный упорными исследователями дневник Александра Николаевича 1906 года, понимаешь, насколько рискованное занятие – исповедаться бумаге. Ощущение от записей Бенуа, как и от дневников Юрия Нагибина, двойственное – от «совершенной искренности» часто делается неловко. «Прочел несколько “Парижских акварелей” Щукина[24 - Речь идет о газетных и журнальных публикациях И. И. Щукина, выходивших под заголовком «Парижские акварели» и затем объединенных в книгу с тем же названием (см.: Щукин И. И. Парижские акварели: Очерки и корреспонденции. СПб., 1901).]. Не абсолютно бездарно, но его ненависть к русским за границей ужасно хамская»; «Завтракал со Щукиным. – Кислота скепсиса»; «Обедал с Сережей у содержанки Щукина. – Курьезное общество… – Похабные разговоры… Щукин ни к чему. Дешевый скептицизм, сплетни». Бенуа плевался, но ни разу не отказался пойти со Щукиным на обед или на выставку, потому что перед ним открывались любые двери и благодаря его протекции можно было попасть хоть на великосветский прием, хоть в мастерскую Родена.
Иван Иванович Щукин был если не самым известным из парижских русских, то точно одним из них. Адрес «Авеню Ваграм, 91» в русской колонии знал каждый. Если бы на доходном доме на углу авеню Ваграм и рю де Курсель установили мемориальную доску, список знаменитых посетителей вторников Жана Ваграмского (как в шутку называл Ивана Ивановича Грабарь) был бы длинным: Боборыкин, Суворин, Чехов, Мережковский, Максим Ковалевский, Василий Немирович-Данченко, Волошин, Грабарь, Александр Бенуа, Бальмонт, Казимир Валишевский, Онегин-Отто. Впрочем, если бы доску устанавливали французы, то они начали бы со своих: Роден, Дега, Ренуар, Гюисманс, Дюран-Рюэль…
Иван Иванович предвидел, что в России о нем никто не вспомнит и его историческими исследованиями не заинтересуется. Случилось именно так, как он и предполагал: дело ограничилось несколькими некрологами, и то скорее по причине его загадочной смерти. «Вот вы говорите, что я якобы “нужен своей родине”, но это мне кажется не совсем так… На родине мне прежде всего пришлось бы бросить теперешние работы, ибо там за некоторые взгляды по головке не погладят», – делился Иван Иванович с Остроуховым. Чем же таким предосудительным занимался Щукин? Ну, принимал у себя политических эмигрантов, заранее предупреждая гостей, что за обедом будут люди самых разных лагерей и направлений – надо же русским где-нибудь встречаться на чужбине. Ну, входил в правление Русской высшей школы общественных наук в Париже, руководимой М. М. Ковалевским[25 - Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – профессор государственного права. Лидер партии демократических реформ. Руководил Русской высшей школой общественных наук (полный курс три года), основанной в 1900 году в Париже, где читались лекции по гражданскому праву, философии, психологии, всеобщей истории, социологии, истории религий, литературе и пр. Школа располагалась в снятом для нее помещении Школы социальных наук напротив Сорбонны. Лекции проходили в большой аудитории, украшенной картой России. Плата была чисто номинальной – 20 франков год. Взнос анонимной жертвовательницы в 20 тысяч франков позволил существовать школе несколько лет. Лекции в школе читали видные ученые и политические деятели: Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Е. В. де Роберти, Ю. С. Гамбаров, М. М. Винавер, Е. В. Аничков, П. Н. Милюков, М. И. Туган-Барановский, В. М. Чернов, В. И. Ленин и другие.], на которую в Петербурге «смотрели с подозрением». Иван Иванович читал в школе курсы по истории христианства, религиозному и общественному движению в средневековой Европе, по истории русского права и истории живописи. Он, как и его коллеги, искал интересных лекторов, чтобы привлечь их к преподаванию. «Вся история религий легла в этом году на меня и совершенно задавила меня своей тяжестью. <…> Читаю я “историю христианства в первые 3 века”; основной идеей курса является постепенное проникновение греческих элементов в иудейские верования, др[угими] слов[ами] – процесс эллинизации восточных доктрин. Читаю я в настоящую минуту “иудаизм”, не дошел еще даже до Христа и, конечно, в этом году курса закончить не успею», – писал Иван Иванович в феврале 1903 года Вяч. И. Иванову, согласившемуся по его просьбе прочитать в школе курс лекций «по религии греков»[26 - В 1901/02 учебном году И. И. Щукин читал курс «Религиозное и общественное движение в XIV и XV веках», а среди «дополнительных курсов и отдельных лекций» – «Введение в изучение истории; Литература истории русского права». В программе школы на 1903/04 учебный год имени Щукина уже нет. Через кого И. И. Щукин познакомился с Ивановым, неизвестно, но летом 1896 года Иванов уже совершает «обычные визиты» к Щукину, часто в сопровождении И. М. Гревса. (См.: Николай Богомолов. К истории вхождения Вяч. Иванова в литературный мир.)]. Как же все изменилось: сын истово религиозного Ивана-старшего, Иван-младший относится к религии как к науке, пишет трактат о самосожжении у старообрядцев и не считает себя обязанным хранить верность нормам христианской морали.
Далеко не праведный образ жизни не мешал Ивану Ивановичу проявлять щедрость и благородство. Он собрал уникальную библиотеку по истории русской философии, истории и религиозной мысли, потратив на нее уйму денег. Широким жестом он преподнес большую ее часть Школе восточных языков (Еcole des Langues Orientales – в которой, покинув Школу общественных наук, читал курс русской истории), за что был удостоен ордена Почетного легиона – скромной красной ленточки в петлице, которой, по его собственным словам, «вожделел каждый француз». В том же 1905 году старший брат Петр Иванович сделал аналогичный жест: подарил собранный им Музей древностей с многотысячной коллекцией, зданиями и землей Москве и получил в награду чин действительного статского советника (равнозначный по табели о рангах штатскому генералу).
После смерти Ивана Ивановича Школа восточных языков умоляла Петра Ивановича выкупить оставшуюся часть драгоценной библиотеки его брата. «Как вам известно, наша страна нашла способ отблагодарить Ив. Ив. за его заслуги, – обращался к Петру Ивановичу один из руководителей Школы восточных языков, обещая, что Франция не останется перед ним в долгу. – Я попрошу заказать… ваш личный ex-libris, который потом будет отпечатываться по вашему личному указанию на каждом томе. Сумма на аукционе 5—10 тыс. фр.». Однако Петр Иванович, вынужденный улаживать дела по наследству младшего брата, употребил средства на более насущные нужды. Почти шесть тысяч стоили похороны, еще четыре были заплачены за могилу на Монмартрском кладбище и гранитную плиту. В день аукциона щукинской библиотеки директор Школы неожиданно получил чек на 10 тысяч франков, выписанный сыном Сергея Ивановича Григорием. Место предусмотрительный Петр Иванович купил на четверых, так что было где потом похоронить Сергея Ивановича, его вторую жену Надежду Афанасьевну и их дочь Ирину Сергеевну.
Глава четвертая
«Упадок или возрождение?»
Андрей Белый, знавший обоих Щукиных, Сергея и Ивана, больше симпатизировал первому. «…Тот был брюнет (на самом деле Сергей Иванович был седой – говорили, что он поседел в ночь смерти первой жены, но на фотографиях видно, что седина появилась гораздо раньше, только борода оставалась темной. – Н. С.); этот – бледный блондин; тот – живой, этот – вялый; тот – каламбурист наблюдательный, этот – рассеянный, тот – наживатель, а этот ученый… Я ходил к [Ивану Ивановичу] Щукину, где между мебелей, книг и картин, точно мощи живые, сидел Валишевский, известный историк <…> Запомнился слабо-рассеянный, бледный хозяин, клонивший угрюмую голову, прятавший в блеске очков голубые глаза; вид – как будто сосал лимон; лоб большой, в поперечных морщинах».
Еще Белый вспоминал, что Иван Иванович служил в Лувре и давал в «Весах» первосортные отчеты о выставках, хотя тот лишь рецензировал новые книги[27 - Допущенная А. Белым в воспоминаниях неточность по поводу службы в Лувре была взята как достоверный факт и до сих пор повторяется в большинстве биографий И. И. Щукина.]. В Лувре И. И. Щукин тоже никогда не служил, однако в парижском художественном мире, или, как теперь выражаются, «художественной тусовке», считался своим. Жан Ваграмский собирал у себя «образованных снобов», ученых, артистов, писателей, владельцев галерей, модных художников. Когда-то Иван Иванович и сам учился рисовать. Один из его соучеников по студии А. А. Киселева потом вспоминал: «Одновременно со мною пришел другой ученик, лет 22–23, брюнет с гладкими волосами, очень скромный и благовоспитанный, чуть-чуть робкий, с размеренной речью <…> Я с ним начал разговаривать, так как хорошо помнил типичную фигуру его отца, давнишнего дачника в когда-то любимом мной Кунцеве <…> Киселев дал нам работу… я встал для передышки и попросил позволения… подойти к его мольберту. О, изумление! Ив. Ив. голубое небо рисовал чистым кармином, я глазам своим не верил… Одну минуту я стоял в раздумье: неужели это фортель, неужели это для вящего эффекта?.. Когда я задал вопрос своему учителю Киселеву, он ответил: “Видите ли, Ив. Ив. дальтоник, красок не разбирает. Но он так любит живопись, ему так хочется чему-либо научиться, что мне жалко разочаровать его”».
Анекдот это или нет, но Грабарь обошел в своих воспоминаниях такую вкусную деталь, как дальтонизм. Зато не забыл, как купеческий сынок, «распутник и прожигатель жизни», делился «достававшимися ему столь легко» тюбиками масляных красок, а потом в Париже водил «по разным импрессионистическим местам». По тем же местам Иван Иванович наверняка водил и старшего брата Сергея, с которым Грабарь прежде не встречался. В автомонографии «Моя жизнь» Игорь Эммануилович вспоминает, что впервые увидел С. И. Щукина в 1901 году: он ехал с князем Щербатовым в поезде, и Сергей Иванович оказался их попутчиком. Грабарь только вернулся в Россию после долгого отсутствия: жил в Германии, учился у Антона Ажбе в Мюнхене, преподавал в его школе, а потом стал давать уроки молодому, способному князю С. А. Щербатову. Собственно, князь и представил его С. И. Щукину, «человеку лет пятидесяти, с сильно поседевшими, зеленого цвета волосами и бородкой».
Грабарь запомнил эту случайную встречу в поезде надолго. Критики редко знакомятся с читателями, а тут коллекционер-миллионер признается, что начал покупать новую живопись исключительно благодаря его статье о современных течениях и что именно она впервые «убедила в важности искусства и зажгла к нему интерес». Речь шла об очерке «Упадок или возрождение?», помещенном в приложении к «Ниве», самому популярному русскому журналу. Четверть миллиона подписчиков для полуграмотной страны в 1904 году, в год смерти издателя «Нивы» А. Ф. Маркса, были таким же рекордом, как и тридцать три миллиона экземпляров газеты «Аргументы и факты» в перестроечном 1990 году. «Журнал политики, литературы и общественной жизни», хотя и печатался на газетной бумаге, был иллюстрированным изданием. Ориентировался он на «буржуазного и мещанского читателя», поэтому от Грабаря требовали писать о художниках, которых он именовал «любимцами мещанских гостиных». «Как я ни старался хоть несколько переключить “Ниву” на приличные художественные рельсы, мои мечты и хитроумные планы разбивались о личный вкус Маркса… И все же упорно и медленно, тихой сапой, мне понемногу удалось внести – правда, в самой скромной дозе – освежающую струю в подбор картинок из иностранных журналов и с русских выставок. На страницах чопорной “Нивы” постепенно стали появляться художники, которые за несколько лет перед тем и мечтать не могли о такой “чести”. Тексты тоже значительно изменились, и к середине 90-х годов В. В. Стасов, встретившись с Марксом на Передвижной выставке, крикнул своим зычным голосом на весь зал: “Вам тут нечего делать, Адольф Федорович, ведь тут декадентских картин не бывает, а в “Ниве” давно уже свили гнездо декаденты”».
Весной 1896 года «Нива» устроила Грабарю зарубежную командировку, пообещав ежемесячный гонорар в сто рублей за обещание регулярно присылать статьи о современном западном искусстве. Так Грабарь оказался в Париже, где все прошлые его представления о живописи претерпели серьезные изменения. «Я был огорошен, раздавлен, но не восхищен. Был даже несколько сконфужен. Помню, одна назойливая мысль не давала мне покоя: значит, писать можно не только так, как пишут… Бенары, Аман-Жаны и другие, – но и вот так, как эти». Подобную реакцию у начинающего критика и бывшего ученика Академии художеств вызвало посещение лавки некого Воллара на рю Лафитт, где он увидел «написанные в странной манере картины». Из названных хозяином имен он сумел тогда запомнить лишь три: Гоген, Ван Гог, Сезанн. Вскоре Игорь Грабарь написал «Упадок или возрождение?».
«Наше время – это дни не упадка, не страстей мелких художников – это дни… надежд и упований. <…> Теперь, когда мы дожили до времени такого возрождения, когда являются братья великих мастеров прошлого… должно быть, недалеко то время, когда явятся люди, которые сумеют… двинуться дальше… Кто будут эти желанные люди, в каком направлении они сделают свой шаг вперед – этого сказать нельзя». В довершение Грабарь пренебрежительно отозвался об академизме и натурализме и заявил, что право на существование в искусстве имеет не только «правда жизненная», но и «правда художественная», а кроме «впечатления глаз» есть еще и «впечатления чувств», что, собственно, и провозгласили импрессионисты.
На читателей очерк «Упадок или возрождение?», по словам ее автора, произвел «эффект разорвавшейся бомбы». В числе читателей оказался и Сергей Иванович Щукин, который, как напишет спустя тридцать лет И. Э. Грабарь, «по натуре и темпераменту был собирателем искусства живого, активного, действенного, искусства сегодняшнего, или, еще вернее, завтрашнего, а не вчерашнего дня». Насчет «завтрашнего дня» и «спортивного азарта» Щукина, «любившего позлорадствовать над толстосумами, берущими деньгой, а не умением высмотреть вещь», Грабарь попал в самую точку. А вот насчет того, что особое удовольствие Сергею Ивановичу доставляла дешевизна еще не «омузеенных» картин, слегка переборщил, как и насчет того, что картины величайших мастеров XIX века при жизни их авторов стоили сущие пустяки. Случалось, конечно, и С. И. Щукину платить по триста франков, а то и меньше, но по большей части картины доставались ему отнюдь не за бесценок. Даже импрессионисты, которых он начал покупать с легкой руки своих парижских родственников – Ивана Щукина и Федора Боткина, стоили тогда, конечно, не сотни, а тысячи, а иногда и десятки тысяч франков, примерно столько, сколько хорошие русские картины.
Возможно, не окажись в нашем распоряжении писем сына Сергея Ивановича, мы бы продолжали считать, что именно статья Грабаря решила судьбу коллекционера С. И. Щукина. Вот что ответил в 1972 году Иван Сергеевич Щукин на вопрос А. А. Демской, откуда у его отца появился интерес к новой французской живописи: «Думаю, что это произошло под влиянием его брата Ивана Ивановича, у которого было уже в это время небольшое, но хорошее собрание импрессионистов. Сергей Иванович мог видеть произведения лучших мастеров этой школы. Статья Грабаря (товарища по гимназии Ивана Ивановича) и общение с Ф. Влад. Боткиным (милым дилетантом) никакого значения не имели в деле собирательства Сергея Ивановича. Наоборот, он считался с мнением своего брата, с которым был очень дружен… После смерти Ивана Ивановича часть его картин досталась мне».
Всю жизнь избегавший расспросов о коллекции отца, Иван Сергеевич Щукин сделал два исключения. За несколько лет до своей смерти он ответил на письма А. А. Демской и согласился встретиться с американкой Беверли Кин. Не будучи ни историком, ни искусствоведом, не зная ни русского, ни французского языка, Кин была настолько потрясена увиденным в музеях Москвы и Ленинграда, где побывала в конце 1960-х, что взялась за исследование феномена «Щукин – Морозов» и написала прекрасную книгу «All the Empty Palaces» («Покинутые дворцы»). Благодаря возможности (в том числе финансовой) путешествовать по миру, она полетела в Бейрут к Ивану Сергеевичу и повидалась в Париже с внуком С. И. Щукина Рупертом Келлером. Так что время от времени мы будем ссылаться на ее беседы с ними.
Итак, все-таки не Грабарь, а Иван Иванович «зажег интерес» к импрессионистам, которых в России «ни в оригиналах, ни в репродукциях» в середине 1890-х не видели – если не считать нескольких полотен Дега, Моне и Ренуара, показанных на Французской выставке 1896 года. Большинство посетителей были шокированы этими «диковинными картинками», но кое для кого они стали настоящим откровением: неизвестно, как бы сложилась судьба Василия Кандинского, а заодно и абстракционизма, если бы студент-юрист не увидел на той выставке пейзаж Моне.
Надо признать, что импрессионизм в Россию пробивался с трудом: русской живописи в отличие от французской сложно было выйти из-под сильного влияния литературы, во власти которой она находилась. Невозможно себе представить, вспоминал Бенуа, «до какой степени русское общество было в целом тогда провинциальным и отсталым. В музыке и литературе русские шли в ногу с Германией, Францией, Англией, иногда даже заходили вперед и оказывались во главе всего художественного движения. Но в живописи и вообще в пластических художествах мы плелись до такой степени позади, что больших усилий стоило и передовым элементам догнать хотя бы “арьергард”… Русское общество, когда-то умевшее оценивать мастерство как таковое… закостенело в 1870-х годах полным равнодушием к чисто художественным задачам, что, между прочим, сказалось и на коллекционерстве».
Новое искусство противоречило тогдашним вкусам отнюдь не в силу новизны живописной техники, но в силу совершенно иного отношения к миру. Импрессионисты отбросили все, чем пользовались их предшественники-реалисты для объективной передачи мира: свет стал для них главным и единственным элементом реальности, с помощью которого они фиксировали меняющиеся состояния природы и вещей. Художникам-импрессионистам, устроившим первую групповую выставку в 1874 году, удалось добиться признания лишь в 1880-х, причем во многом благодаря многолетним усилиям Поля Дюран-Рюэля, торговца картинами и коллекционера.
Весной 1898-го, спустя год после публикации статьи «декадента Грабаря», в галерею Дюран-Рюэля на рю Лафитт зашли трое русских – братья Сергей и Петр Щукины, а с ними их кузен Федор Владимирович Боткин[28 - Ф. В. Боткин (1861–1905) окончил юридический факультет, потом уехал в Италию, учился в Миланской академии, приехал в Париж в 1893-м, выставлялся в парижских Салонах, писал под сильным влиянием Мориса Дени и набидов. В России, писал в его некрологе в «Историческом вестнике» И. И. Щукин, Боткина «знали мало, разве по слухам, и по русской привычке, не видя его вещей, усердно за глаза бранили… Для большинства же особливо гордых своим невежеством российских мастеров он так и остался каким-то причудливым декадентом заграничной формации».]. Боткин вызвался сопровождать московских родственников, проявивших интерес к современной живописи. Парижский маршан, у которого многие годы покупали картины Д. П. Боткин и С. М. Третьяков, а потом и И. И. Щукин, был в добрых отношениях с Федором Боткиным[29 - В январе 1899 года Ф. В. Боткин обращался к Илье Остроухову, мужу своей кузины, с просьбой «дать указания для осмотра Москвы с художественной стороны и искусства, старого и нового» молодому Дюран-Рюэлю, едущему на выставку «Мир искусства» в Петербург.].
У Дюран-Рюэля были выставлены последние, совсем свежие работы Камила Писсарро. «…Мои “Оперные проезды” развешаны у Дюран-Рюэля. У меня отдельный большой зал, там двенадцать “Проездов”, семь или восемь… “Бульваров”», – писал сыну патриарх импрессионизма, которому в 1898 году было уже под семьдесят. Братья Щукины соблазнились парижскими видами и купили себе по картине. Петр выбрал «Площадь Французского театра», заплатив за летний пейзаж с зелеными кронами каштанов четыре тысячи франков (порядка 1600 рублей, что примерно втрое дешевле, чем стоили тогда пейзажи Левитана). Сергей через год приобрел более романтичный «Оперный проезд», к названию которого художник-импрессионист приписал: «Эффект снега. Утро» (когда Писсарро писал площадь, день был пасмурный и в Париже шел град).
А. П. Боголюбов не только консультировал других, но и сам собирал. Со своей коллекцией он поступил благородно: подарил городу Саратову. Так в провинциальной России появился первый общедоступный музей, который, по желанию дарителя, назвали «Радищевским» – автор знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищев приходился художнику дедом. Прежде чем оказаться в Саратове, картины прибывали в Москву вместе с последними французскими покупками Дмитрия Петровича. Их доставляли по адресу: «Покровка, собственный дом Д. П. Боткина» (ныне Покровка, 27), значившемуся даже в путеводителе Бедекера – с разрешения хозяина три «картинные комнаты» (два салона и кабинет с итальянским окном) в определенные часы мог посмотреть любой.
Итак, подтолкнуть к собирательству Сергея Щукина мог, во-первых, пример Д. П. Боткина, коллекция которого в восьмидесятых годах насчитывала более ста картин, а во-вторых, отцовского приятеля Кузьмы Терентьевича Солдатёнкова, чья галерея тоже фигурировала в московских путеводителях. Солдатёнков, хотя и не состоял с Щукиными в кровном родстве, оказался самым близким их семейству человеком. И. В. Щукин и К. Т. Солдатёнков оставались неразлучны с юных лет – странно было слышать, как два старца фамильярно обращались друг к другу «Ваня» и «Кузьма». Если сопоставить факты и даты, получается, что именно благодаря Солдатёнкову его друг Иван Щукин попал к Боткиным в Петроверигский, где встретил свою будущую жену. «Связующим звеном» в этой цепочке мог стать либо историк Т. Н. Грановский (в сороковых годах Василий Боткин уговорил отца сдать ему половину бельэтажа), либо доктор П. Л. Пикулин, ближайший друг Щукина и Солдатёнкова, он же муж Анетты – Анны Петровны Боткиной-Пикулиной, сестры Екатерины Петровны Боткиной-Щукиной. Пикулин, чей кабинет современник называл «последним центром, где сходились люди 40-х», постоянно появлялся в кружке Станкевича, где обсуждались вопросы философии, эстетики и литературы, активными членами которого были Василий Петрович Боткин и Грановский. Сейчас фамилия Грановский скорее ассоциируется с улицей, на которой проживали советские партийные деятели, а в 1840-х годах это имя гремело: «ни один русский профессор не производил на аудиторию такого неотразимого и глубокого впечатления», как историк Тимофей Грановский.
К. Т. Солдатёнков и И. В. Щукин были не только партнерами по бизнесу и ровесниками. Они росли в купеческих семьях, служили в лавках своих отцов, вместе начинали на Таганке (на двоих купили ткацкий станок и наняли рабочего ткать кисею), вместе богатели, занимали должности, держали ложу в Большом театре и жили на даче в Кунцеве. Только Солдатёнков стал публичной фигурой, и поэтому о нем написано много и подробно, а о И. В. Щукине вспоминают лишь как об отце прославленных коллекционеров. Несомненно, Кузьма Терентьевич был персонаж гораздо более колоритный, чем старший Щукин. «Я всегда удивлялся, как человек, не получивший образования даже на медные гроши (а ведь он до старости писал плохо и ни на каком языке, кроме русского, не говорил), был так развит <…> это был истинно русский ум, не без практической жилки, но такой глубокий и разносторонний…» – вспоминал художник А. А. Риццони. В Солдатёнкове все было необычно. Старообрядец и при этом убежденный западник. Жил в гражданском браке с француженкой Клеманс Карловной Дюпюи, которая так и не научилась говорить по-русски (она звала его Кузей, а он ее Клемансой). Купил за огромные деньги у князей Нарышкиных дачу в Кунцеве, построил на Мясницкой особняк по индивидуальному проекту – с молельней и салоном в стиле Людовика XVI; собрал картинную галерею, огромную библиотеку.
Собирать Солдатёнков начал в 1852 году – на целых четыре года раньше самого Павла Третьякова, о чем, впрочем, редко когда вспоминают. В искусстве коллекционер-нувориш разбирался слабо, но признаваться в этом не стеснялся. Николай Петрович Боткин, названный Фетом красавцем туристом, познакомил Солдатёнкова в Риме с художником Александром Ивановым (судьбы Боткиных, Щукиных, Солдатёнковых и Третьяковых постоянно пересекаются: один круг, ничего не поделаешь). Иванова первого Кузьма Терентьевич попросил помогать и покупать ему русских художников на его вкус и выбор. В 1860-х Солдатёнков сделался обладателем прекрасной коллекции русской живописи и даже удостоился любовного прозвища Московский Медичи[20 - Принадлежавшие К. Т. Солдатёнкову 230 полотен русских мастеров, коллекция скульптур и гравюр, а также картины иностранных мастеров и двадцатитысячетомная библиотека – все было завещано Румянцевскому музею.]. «Если бы не Прянишников[21 - Федор Иванович Прянишников (1793–1867) – директор почтового департамента, собрал коллекцию картин русских художников. Его галерея была единственным русским частным собранием, купленным после смерти владельца казной. Поступила в Румянцевский музей в Москве; ныне в составе Государственной Третьяковской галереи.], Третьяков и Солдатёнков, то русским художникам некому было и продать свои картины: хоть в Неву их бросай», – любил повторять художник Риццони.
Крупнейший российский торговец бумажной пряжей тратил свои миллионы на разнообразные культурные и общественные нужды, а не только «задавал лукулловские обеды и сжигал роскошные фейерверки с громадными щитами, снопами из ракет, бенгальскими огнями» на даче в Кунцеве, где по соседству проживали Третьяковы, Боткины и Щукины. Более всего известен Солдатёнков некоммерческой издательской деятельностью и бесплатной больницей для бедных «без различия званий, сословий и религий». Раньше больница называлась Солдатёнковской, а после революции была переименована в Боткинскую. Вряд ли Солдатёнков обиделся, узнав, что больница, на которую он потратил более миллиона, получила имя доктора Сергея Петровича Боткина, одного из братьев Боткиных, с семьей которых он был так дружен.
Жизнь и судьба каждого из Боткиных – захватывающий сюжет с неизменным участием их доброго гения В. П. Боткина. Сергей Боткин, в детстве считавшийся чуть ли не умственно отсталым, тоже всем обязан Василию Петровичу. Старший брат нанял ему хорошего домашнего учителя, который распознал у Сергея выдающиеся математические способности. Математиком С. П. Боткин не стал, поступил на медицинский факультет, прошел ординатуру в Европе на завещанные ему старшим братом деньги и стал великим врачом, основателем отечественной школы клинической медицины.
Родившиеся в 1810-х годах В. П. Боткин, К. Т. Солдатёнков и И. В. Щукин редко «проговаривались» о своем детстве и юности. Поэтому столь поразительно признание, сделанное Василием Петровичем Боткиным в письме младшему брату: «Из моего детского возраста – нет отрадных воспоминаний: добрая, простая мать, которая кончила тем, что беспрестанно напивалась допьяна, – и грубый, суровый отец. И какая дикая обстановка кругом. Но, несмотря на суровость, – отец, при всем невежестве, был очень неглуп и в сущности добр. Поверишь ли, что память моя сохранила из моей ранней молодости, исполненной такой грязи и гадости, – что даже отвратительно вспоминать себя». Как это похоже на детство Солдатёнкова, который «родился и вырос в очень грубой и невежественной среде Рогожской заставы, не получил никакого образования, еле обучен был русской грамоте и всю свою юность провел “в мальчиках” за прилавком своего богатого отца, получая от него медные гроши на дневное прокормление в холодных торговых рядах».
Купечество было людьми второго разряда. А если вспомнить, что у многих вдобавок имелись крепостные прадеды, то неудивительно, с какой энергией и напором они устремились сначала в бизнес, а затем в собирательство – достойное обладателя больших денег увлечение, позволяющее доказать себе и окружающим собственную избранность.
Глава третья
Иван-младший
Ивану Васильевичу Щукину исполнилось пятьдесят, когда родился последний из его сыновей, Иван-младший. Ни о каких поездках в немецкую школу в Выборг или петербургский пансион речи уже никто не заводил. До пятнадцати лет Ваня учился дома – отец организовал для младших детей «целый штат гувернеров, воспитателей и преподавателей», а потом определил сына в Катковский лицей[22 - Лицей цесаревича Николая, привилегированное мужское учебное заведение, был основан в 1867 году М. Н. Катковым и задуман как образцовое для других русских гимназий и вузов учебное заведение.]. Дети привилегированных и состоятельных родителей учились в двух московских заведениях: либо в Поливановской, имевшей все права казенной гимназии, либо в Катковском лицее, не важно, купцы или аристократы. Если бы не фамилия, в Иване Ивановиче Щукине (1869–1908) никто и не заподозрил бы купеческого сына: внешностью он пошел в боткинскую родню, был строен и элегантен – не в пример мужиковатым коротконогим старшим братьям. Был «умен, талантлив, остроумен, но не глубок», как в старости напишет учившийся вместе с ним И. Э. Грабарь. В средине 1880-х пятнадцатилетний лицеист смотрел на однокашника по историко-филологическому отделению с нескрываемым обожанием. «Особенно импонировала мне безапелляционность его отзывов: тот – безграмотен, этот – бездарность, третий – пошляк. Я принимал все на веру и только удивлялся ошеломлявшей меня осведомленности – память у Ивана, – вспоминал Грабарь, – была феноменальной, он постоянно что-то читал – по-русски, по-французски, по-немецки. Щукин знал не только всех русских художников, но и французских, немецких, английских, испанских и передавал о них подробности, которые я готов был выслушивать целыми днями». Высокомерием Иван-младший тоже отличался с юности. Грабарь вспоминал, как тот постоянно язвил насчет директора и его педагогических методов. «Подобно мне, он ни в коей мере не разделял мнение своего отца о величии Каткова… повторяя слышанное где-то на стороне, но, конечно, не дома, где все было по старинке и где Каткова называли не иначе как по имени-отчеству». Учитывая, что М. Н. Катков дружил с В. П. Боткиным и входил в уже упоминавшийся кружок Станкевича, старший Щукин не мог не относиться к основателю московского лицея с пиететом.
Если переселение душ все-таки существует, то Иван Щукин несомненно стал реинкарнацией Василия Петровича Боткина. Племянник мог бы посоревноваться с дядей в эрудиции и литературном таланте: студентом Иван Иванович, как вспоминал он сам, «усиленно строчил в московских изданиях, получая по пять копеек за строчку», потом сотрудничал в суворинском «Новом времени», в «Петербургских ведомостях». Теперь он подписывал свои заметки «Жан Броше» – «Иван Щука», если переводить дословно, так как числился нештатным зарубежным корреспондентом. В 1893 году Иван Иванович уехал в Париж – Россию он всегда не любил, считал отсталой, провинциальной и не раз признавался, что «азиатская душа» Москвы ему чужда. Вот чем обернулись западничество и космополитизм старших, однако западничество умеренное. «Западник, только на русской подкладке, из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко», – говорил о В. П. Боткине А. А. Фет.
Иван Иванович рано или поздно все равно перебрался бы за границу, а тут подвернулся благородный повод: сопровождать на лечение брата Владимира, горбатого от рождения. «Он был задушевный человек, в особенности любил брата Ивана, с которым вместе рос, и няню Эмму Карловну», – вспоминал Петр Иванович, не скрывавший, что «несчастного брата» знал плохо – большая разница в возрасте не способствовала близости старших и младших. В конце августа 1895 года Владимир Щукин умер в Париже от туберкулеза мозга. В память о нем Московский университет получил 70 тысяч рублей и две стипендии для студентов физического и две – для учащихся медицинского факультета, который окончил В. И. Щукин. Поездка на похороны – брата похоронили в Покровском монастыре – была последним визитом Ивана Ивановича в Москву. В Париж он вернулся с «эгоистическим чувством некоторого облегчения». Отныне с Россией его больше ничего не связывало. Денежные вопросы он уладил, передав свой пай в семейном деле в управление Петру (брат регулярно выплачивал ему приличную сумму).
«Ехать в Москву теперь не помышляю – да минует меня чаша сия! А с Вами был бы рад повидаться и потолковать, но только здесь, на гнилом Западе», – звал Иван в «столицу мира» Остроухова (они когда-то вместе занимались живописью, а потом Илья Семенович женился на его кузине Наде Боткиной[23 - Их взаимоотношения подробно описаны в части третьей.]). Связями, знаниями, наконец, средствами Ивана Ивановича пользовались очень многие, и очень многие его не любили, называли самонадеянным и циничным, но только за глаза. Особенно нелицеприятно отзывался об Иване Ивановиче А. Н. Бенуа. Читая расшифрованный упорными исследователями дневник Александра Николаевича 1906 года, понимаешь, насколько рискованное занятие – исповедаться бумаге. Ощущение от записей Бенуа, как и от дневников Юрия Нагибина, двойственное – от «совершенной искренности» часто делается неловко. «Прочел несколько “Парижских акварелей” Щукина[24 - Речь идет о газетных и журнальных публикациях И. И. Щукина, выходивших под заголовком «Парижские акварели» и затем объединенных в книгу с тем же названием (см.: Щукин И. И. Парижские акварели: Очерки и корреспонденции. СПб., 1901).]. Не абсолютно бездарно, но его ненависть к русским за границей ужасно хамская»; «Завтракал со Щукиным. – Кислота скепсиса»; «Обедал с Сережей у содержанки Щукина. – Курьезное общество… – Похабные разговоры… Щукин ни к чему. Дешевый скептицизм, сплетни». Бенуа плевался, но ни разу не отказался пойти со Щукиным на обед или на выставку, потому что перед ним открывались любые двери и благодаря его протекции можно было попасть хоть на великосветский прием, хоть в мастерскую Родена.
Иван Иванович Щукин был если не самым известным из парижских русских, то точно одним из них. Адрес «Авеню Ваграм, 91» в русской колонии знал каждый. Если бы на доходном доме на углу авеню Ваграм и рю де Курсель установили мемориальную доску, список знаменитых посетителей вторников Жана Ваграмского (как в шутку называл Ивана Ивановича Грабарь) был бы длинным: Боборыкин, Суворин, Чехов, Мережковский, Максим Ковалевский, Василий Немирович-Данченко, Волошин, Грабарь, Александр Бенуа, Бальмонт, Казимир Валишевский, Онегин-Отто. Впрочем, если бы доску устанавливали французы, то они начали бы со своих: Роден, Дега, Ренуар, Гюисманс, Дюран-Рюэль…
Иван Иванович предвидел, что в России о нем никто не вспомнит и его историческими исследованиями не заинтересуется. Случилось именно так, как он и предполагал: дело ограничилось несколькими некрологами, и то скорее по причине его загадочной смерти. «Вот вы говорите, что я якобы “нужен своей родине”, но это мне кажется не совсем так… На родине мне прежде всего пришлось бы бросить теперешние работы, ибо там за некоторые взгляды по головке не погладят», – делился Иван Иванович с Остроуховым. Чем же таким предосудительным занимался Щукин? Ну, принимал у себя политических эмигрантов, заранее предупреждая гостей, что за обедом будут люди самых разных лагерей и направлений – надо же русским где-нибудь встречаться на чужбине. Ну, входил в правление Русской высшей школы общественных наук в Париже, руководимой М. М. Ковалевским[25 - Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – профессор государственного права. Лидер партии демократических реформ. Руководил Русской высшей школой общественных наук (полный курс три года), основанной в 1900 году в Париже, где читались лекции по гражданскому праву, философии, психологии, всеобщей истории, социологии, истории религий, литературе и пр. Школа располагалась в снятом для нее помещении Школы социальных наук напротив Сорбонны. Лекции проходили в большой аудитории, украшенной картой России. Плата была чисто номинальной – 20 франков год. Взнос анонимной жертвовательницы в 20 тысяч франков позволил существовать школе несколько лет. Лекции в школе читали видные ученые и политические деятели: Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский, П. Г. Виноградов, Е. В. де Роберти, Ю. С. Гамбаров, М. М. Винавер, Е. В. Аничков, П. Н. Милюков, М. И. Туган-Барановский, В. М. Чернов, В. И. Ленин и другие.], на которую в Петербурге «смотрели с подозрением». Иван Иванович читал в школе курсы по истории христианства, религиозному и общественному движению в средневековой Европе, по истории русского права и истории живописи. Он, как и его коллеги, искал интересных лекторов, чтобы привлечь их к преподаванию. «Вся история религий легла в этом году на меня и совершенно задавила меня своей тяжестью. <…> Читаю я “историю христианства в первые 3 века”; основной идеей курса является постепенное проникновение греческих элементов в иудейские верования, др[угими] слов[ами] – процесс эллинизации восточных доктрин. Читаю я в настоящую минуту “иудаизм”, не дошел еще даже до Христа и, конечно, в этом году курса закончить не успею», – писал Иван Иванович в феврале 1903 года Вяч. И. Иванову, согласившемуся по его просьбе прочитать в школе курс лекций «по религии греков»[26 - В 1901/02 учебном году И. И. Щукин читал курс «Религиозное и общественное движение в XIV и XV веках», а среди «дополнительных курсов и отдельных лекций» – «Введение в изучение истории; Литература истории русского права». В программе школы на 1903/04 учебный год имени Щукина уже нет. Через кого И. И. Щукин познакомился с Ивановым, неизвестно, но летом 1896 года Иванов уже совершает «обычные визиты» к Щукину, часто в сопровождении И. М. Гревса. (См.: Николай Богомолов. К истории вхождения Вяч. Иванова в литературный мир.)]. Как же все изменилось: сын истово религиозного Ивана-старшего, Иван-младший относится к религии как к науке, пишет трактат о самосожжении у старообрядцев и не считает себя обязанным хранить верность нормам христианской морали.
Далеко не праведный образ жизни не мешал Ивану Ивановичу проявлять щедрость и благородство. Он собрал уникальную библиотеку по истории русской философии, истории и религиозной мысли, потратив на нее уйму денег. Широким жестом он преподнес большую ее часть Школе восточных языков (Еcole des Langues Orientales – в которой, покинув Школу общественных наук, читал курс русской истории), за что был удостоен ордена Почетного легиона – скромной красной ленточки в петлице, которой, по его собственным словам, «вожделел каждый француз». В том же 1905 году старший брат Петр Иванович сделал аналогичный жест: подарил собранный им Музей древностей с многотысячной коллекцией, зданиями и землей Москве и получил в награду чин действительного статского советника (равнозначный по табели о рангах штатскому генералу).
После смерти Ивана Ивановича Школа восточных языков умоляла Петра Ивановича выкупить оставшуюся часть драгоценной библиотеки его брата. «Как вам известно, наша страна нашла способ отблагодарить Ив. Ив. за его заслуги, – обращался к Петру Ивановичу один из руководителей Школы восточных языков, обещая, что Франция не останется перед ним в долгу. – Я попрошу заказать… ваш личный ex-libris, который потом будет отпечатываться по вашему личному указанию на каждом томе. Сумма на аукционе 5—10 тыс. фр.». Однако Петр Иванович, вынужденный улаживать дела по наследству младшего брата, употребил средства на более насущные нужды. Почти шесть тысяч стоили похороны, еще четыре были заплачены за могилу на Монмартрском кладбище и гранитную плиту. В день аукциона щукинской библиотеки директор Школы неожиданно получил чек на 10 тысяч франков, выписанный сыном Сергея Ивановича Григорием. Место предусмотрительный Петр Иванович купил на четверых, так что было где потом похоронить Сергея Ивановича, его вторую жену Надежду Афанасьевну и их дочь Ирину Сергеевну.
Глава четвертая
«Упадок или возрождение?»
Андрей Белый, знавший обоих Щукиных, Сергея и Ивана, больше симпатизировал первому. «…Тот был брюнет (на самом деле Сергей Иванович был седой – говорили, что он поседел в ночь смерти первой жены, но на фотографиях видно, что седина появилась гораздо раньше, только борода оставалась темной. – Н. С.); этот – бледный блондин; тот – живой, этот – вялый; тот – каламбурист наблюдательный, этот – рассеянный, тот – наживатель, а этот ученый… Я ходил к [Ивану Ивановичу] Щукину, где между мебелей, книг и картин, точно мощи живые, сидел Валишевский, известный историк <…> Запомнился слабо-рассеянный, бледный хозяин, клонивший угрюмую голову, прятавший в блеске очков голубые глаза; вид – как будто сосал лимон; лоб большой, в поперечных морщинах».
Еще Белый вспоминал, что Иван Иванович служил в Лувре и давал в «Весах» первосортные отчеты о выставках, хотя тот лишь рецензировал новые книги[27 - Допущенная А. Белым в воспоминаниях неточность по поводу службы в Лувре была взята как достоверный факт и до сих пор повторяется в большинстве биографий И. И. Щукина.]. В Лувре И. И. Щукин тоже никогда не служил, однако в парижском художественном мире, или, как теперь выражаются, «художественной тусовке», считался своим. Жан Ваграмский собирал у себя «образованных снобов», ученых, артистов, писателей, владельцев галерей, модных художников. Когда-то Иван Иванович и сам учился рисовать. Один из его соучеников по студии А. А. Киселева потом вспоминал: «Одновременно со мною пришел другой ученик, лет 22–23, брюнет с гладкими волосами, очень скромный и благовоспитанный, чуть-чуть робкий, с размеренной речью <…> Я с ним начал разговаривать, так как хорошо помнил типичную фигуру его отца, давнишнего дачника в когда-то любимом мной Кунцеве <…> Киселев дал нам работу… я встал для передышки и попросил позволения… подойти к его мольберту. О, изумление! Ив. Ив. голубое небо рисовал чистым кармином, я глазам своим не верил… Одну минуту я стоял в раздумье: неужели это фортель, неужели это для вящего эффекта?.. Когда я задал вопрос своему учителю Киселеву, он ответил: “Видите ли, Ив. Ив. дальтоник, красок не разбирает. Но он так любит живопись, ему так хочется чему-либо научиться, что мне жалко разочаровать его”».
Анекдот это или нет, но Грабарь обошел в своих воспоминаниях такую вкусную деталь, как дальтонизм. Зато не забыл, как купеческий сынок, «распутник и прожигатель жизни», делился «достававшимися ему столь легко» тюбиками масляных красок, а потом в Париже водил «по разным импрессионистическим местам». По тем же местам Иван Иванович наверняка водил и старшего брата Сергея, с которым Грабарь прежде не встречался. В автомонографии «Моя жизнь» Игорь Эммануилович вспоминает, что впервые увидел С. И. Щукина в 1901 году: он ехал с князем Щербатовым в поезде, и Сергей Иванович оказался их попутчиком. Грабарь только вернулся в Россию после долгого отсутствия: жил в Германии, учился у Антона Ажбе в Мюнхене, преподавал в его школе, а потом стал давать уроки молодому, способному князю С. А. Щербатову. Собственно, князь и представил его С. И. Щукину, «человеку лет пятидесяти, с сильно поседевшими, зеленого цвета волосами и бородкой».
Грабарь запомнил эту случайную встречу в поезде надолго. Критики редко знакомятся с читателями, а тут коллекционер-миллионер признается, что начал покупать новую живопись исключительно благодаря его статье о современных течениях и что именно она впервые «убедила в важности искусства и зажгла к нему интерес». Речь шла об очерке «Упадок или возрождение?», помещенном в приложении к «Ниве», самому популярному русскому журналу. Четверть миллиона подписчиков для полуграмотной страны в 1904 году, в год смерти издателя «Нивы» А. Ф. Маркса, были таким же рекордом, как и тридцать три миллиона экземпляров газеты «Аргументы и факты» в перестроечном 1990 году. «Журнал политики, литературы и общественной жизни», хотя и печатался на газетной бумаге, был иллюстрированным изданием. Ориентировался он на «буржуазного и мещанского читателя», поэтому от Грабаря требовали писать о художниках, которых он именовал «любимцами мещанских гостиных». «Как я ни старался хоть несколько переключить “Ниву” на приличные художественные рельсы, мои мечты и хитроумные планы разбивались о личный вкус Маркса… И все же упорно и медленно, тихой сапой, мне понемногу удалось внести – правда, в самой скромной дозе – освежающую струю в подбор картинок из иностранных журналов и с русских выставок. На страницах чопорной “Нивы” постепенно стали появляться художники, которые за несколько лет перед тем и мечтать не могли о такой “чести”. Тексты тоже значительно изменились, и к середине 90-х годов В. В. Стасов, встретившись с Марксом на Передвижной выставке, крикнул своим зычным голосом на весь зал: “Вам тут нечего делать, Адольф Федорович, ведь тут декадентских картин не бывает, а в “Ниве” давно уже свили гнездо декаденты”».
Весной 1896 года «Нива» устроила Грабарю зарубежную командировку, пообещав ежемесячный гонорар в сто рублей за обещание регулярно присылать статьи о современном западном искусстве. Так Грабарь оказался в Париже, где все прошлые его представления о живописи претерпели серьезные изменения. «Я был огорошен, раздавлен, но не восхищен. Был даже несколько сконфужен. Помню, одна назойливая мысль не давала мне покоя: значит, писать можно не только так, как пишут… Бенары, Аман-Жаны и другие, – но и вот так, как эти». Подобную реакцию у начинающего критика и бывшего ученика Академии художеств вызвало посещение лавки некого Воллара на рю Лафитт, где он увидел «написанные в странной манере картины». Из названных хозяином имен он сумел тогда запомнить лишь три: Гоген, Ван Гог, Сезанн. Вскоре Игорь Грабарь написал «Упадок или возрождение?».
«Наше время – это дни не упадка, не страстей мелких художников – это дни… надежд и упований. <…> Теперь, когда мы дожили до времени такого возрождения, когда являются братья великих мастеров прошлого… должно быть, недалеко то время, когда явятся люди, которые сумеют… двинуться дальше… Кто будут эти желанные люди, в каком направлении они сделают свой шаг вперед – этого сказать нельзя». В довершение Грабарь пренебрежительно отозвался об академизме и натурализме и заявил, что право на существование в искусстве имеет не только «правда жизненная», но и «правда художественная», а кроме «впечатления глаз» есть еще и «впечатления чувств», что, собственно, и провозгласили импрессионисты.
На читателей очерк «Упадок или возрождение?», по словам ее автора, произвел «эффект разорвавшейся бомбы». В числе читателей оказался и Сергей Иванович Щукин, который, как напишет спустя тридцать лет И. Э. Грабарь, «по натуре и темпераменту был собирателем искусства живого, активного, действенного, искусства сегодняшнего, или, еще вернее, завтрашнего, а не вчерашнего дня». Насчет «завтрашнего дня» и «спортивного азарта» Щукина, «любившего позлорадствовать над толстосумами, берущими деньгой, а не умением высмотреть вещь», Грабарь попал в самую точку. А вот насчет того, что особое удовольствие Сергею Ивановичу доставляла дешевизна еще не «омузеенных» картин, слегка переборщил, как и насчет того, что картины величайших мастеров XIX века при жизни их авторов стоили сущие пустяки. Случалось, конечно, и С. И. Щукину платить по триста франков, а то и меньше, но по большей части картины доставались ему отнюдь не за бесценок. Даже импрессионисты, которых он начал покупать с легкой руки своих парижских родственников – Ивана Щукина и Федора Боткина, стоили тогда, конечно, не сотни, а тысячи, а иногда и десятки тысяч франков, примерно столько, сколько хорошие русские картины.
Возможно, не окажись в нашем распоряжении писем сына Сергея Ивановича, мы бы продолжали считать, что именно статья Грабаря решила судьбу коллекционера С. И. Щукина. Вот что ответил в 1972 году Иван Сергеевич Щукин на вопрос А. А. Демской, откуда у его отца появился интерес к новой французской живописи: «Думаю, что это произошло под влиянием его брата Ивана Ивановича, у которого было уже в это время небольшое, но хорошее собрание импрессионистов. Сергей Иванович мог видеть произведения лучших мастеров этой школы. Статья Грабаря (товарища по гимназии Ивана Ивановича) и общение с Ф. Влад. Боткиным (милым дилетантом) никакого значения не имели в деле собирательства Сергея Ивановича. Наоборот, он считался с мнением своего брата, с которым был очень дружен… После смерти Ивана Ивановича часть его картин досталась мне».
Всю жизнь избегавший расспросов о коллекции отца, Иван Сергеевич Щукин сделал два исключения. За несколько лет до своей смерти он ответил на письма А. А. Демской и согласился встретиться с американкой Беверли Кин. Не будучи ни историком, ни искусствоведом, не зная ни русского, ни французского языка, Кин была настолько потрясена увиденным в музеях Москвы и Ленинграда, где побывала в конце 1960-х, что взялась за исследование феномена «Щукин – Морозов» и написала прекрасную книгу «All the Empty Palaces» («Покинутые дворцы»). Благодаря возможности (в том числе финансовой) путешествовать по миру, она полетела в Бейрут к Ивану Сергеевичу и повидалась в Париже с внуком С. И. Щукина Рупертом Келлером. Так что время от времени мы будем ссылаться на ее беседы с ними.
Итак, все-таки не Грабарь, а Иван Иванович «зажег интерес» к импрессионистам, которых в России «ни в оригиналах, ни в репродукциях» в середине 1890-х не видели – если не считать нескольких полотен Дега, Моне и Ренуара, показанных на Французской выставке 1896 года. Большинство посетителей были шокированы этими «диковинными картинками», но кое для кого они стали настоящим откровением: неизвестно, как бы сложилась судьба Василия Кандинского, а заодно и абстракционизма, если бы студент-юрист не увидел на той выставке пейзаж Моне.
Надо признать, что импрессионизм в Россию пробивался с трудом: русской живописи в отличие от французской сложно было выйти из-под сильного влияния литературы, во власти которой она находилась. Невозможно себе представить, вспоминал Бенуа, «до какой степени русское общество было в целом тогда провинциальным и отсталым. В музыке и литературе русские шли в ногу с Германией, Францией, Англией, иногда даже заходили вперед и оказывались во главе всего художественного движения. Но в живописи и вообще в пластических художествах мы плелись до такой степени позади, что больших усилий стоило и передовым элементам догнать хотя бы “арьергард”… Русское общество, когда-то умевшее оценивать мастерство как таковое… закостенело в 1870-х годах полным равнодушием к чисто художественным задачам, что, между прочим, сказалось и на коллекционерстве».
Новое искусство противоречило тогдашним вкусам отнюдь не в силу новизны живописной техники, но в силу совершенно иного отношения к миру. Импрессионисты отбросили все, чем пользовались их предшественники-реалисты для объективной передачи мира: свет стал для них главным и единственным элементом реальности, с помощью которого они фиксировали меняющиеся состояния природы и вещей. Художникам-импрессионистам, устроившим первую групповую выставку в 1874 году, удалось добиться признания лишь в 1880-х, причем во многом благодаря многолетним усилиям Поля Дюран-Рюэля, торговца картинами и коллекционера.
Весной 1898-го, спустя год после публикации статьи «декадента Грабаря», в галерею Дюран-Рюэля на рю Лафитт зашли трое русских – братья Сергей и Петр Щукины, а с ними их кузен Федор Владимирович Боткин[28 - Ф. В. Боткин (1861–1905) окончил юридический факультет, потом уехал в Италию, учился в Миланской академии, приехал в Париж в 1893-м, выставлялся в парижских Салонах, писал под сильным влиянием Мориса Дени и набидов. В России, писал в его некрологе в «Историческом вестнике» И. И. Щукин, Боткина «знали мало, разве по слухам, и по русской привычке, не видя его вещей, усердно за глаза бранили… Для большинства же особливо гордых своим невежеством российских мастеров он так и остался каким-то причудливым декадентом заграничной формации».]. Боткин вызвался сопровождать московских родственников, проявивших интерес к современной живописи. Парижский маршан, у которого многие годы покупали картины Д. П. Боткин и С. М. Третьяков, а потом и И. И. Щукин, был в добрых отношениях с Федором Боткиным[29 - В январе 1899 года Ф. В. Боткин обращался к Илье Остроухову, мужу своей кузины, с просьбой «дать указания для осмотра Москвы с художественной стороны и искусства, старого и нового» молодому Дюран-Рюэлю, едущему на выставку «Мир искусства» в Петербург.].
У Дюран-Рюэля были выставлены последние, совсем свежие работы Камила Писсарро. «…Мои “Оперные проезды” развешаны у Дюран-Рюэля. У меня отдельный большой зал, там двенадцать “Проездов”, семь или восемь… “Бульваров”», – писал сыну патриарх импрессионизма, которому в 1898 году было уже под семьдесят. Братья Щукины соблазнились парижскими видами и купили себе по картине. Петр выбрал «Площадь Французского театра», заплатив за летний пейзаж с зелеными кронами каштанов четыре тысячи франков (порядка 1600 рублей, что примерно втрое дешевле, чем стоили тогда пейзажи Левитана). Сергей через год приобрел более романтичный «Оперный проезд», к названию которого художник-импрессионист приписал: «Эффект снега. Утро» (когда Писсарро писал площадь, день был пасмурный и в Париже шел град).
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: