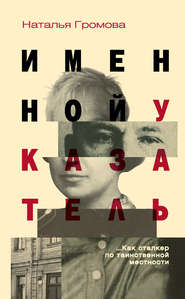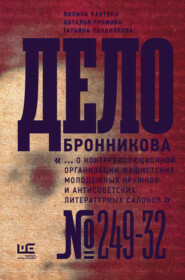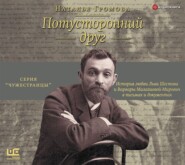По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ноев ковчег писателей. Эвакуация 1941–1945. Чистополь. Елабуга. Ташкент. Алма-Ата
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отсюда видно все. Лежит Москва,
Безмолвная, зенитками одета,
Колышутся и потухают зданья,
Неведомые отсветы играют
На затемненных крышах в чехарду.
В первые же дни войны НКВД принимает решение – маскировать здание Кремля. Один из вариантов предполагал “имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов, снятие крестов и имитация окраской и присыпкой на площади вокруг Кремля городских кварталов”[12 - Лубянка в дни битвы за Москву: По рассекреченным документам ФСБ РФ. М., 2002. С. 32.].
Немцы, когда бомбили Москву, пытались попасть в Кремль, поэтому много разрушений было именно в центре города. Возле Никитских ворот от удара бомбы образовалась огромная воронка, а памятнику Тимирязеву оторвало голову; нашли ее только через несколько дней на крыше возле Арбатской площади. Был разбит дом на Воровского, образующий угол с Мерзляковским переулком, где тогда находилась аптека. Считалось по теории вероятности, что дважды в одно и то же место снаряд попасть не может, однако через несколько дней в остатки аптеки снова попала бомба. Был разрушен Вахтанговский театр, а дежуривший ночью артист Куза был убит… В разбомбленных домах обнажились квартиры, стали видны кровати, диваны, картины на стенах.
Пока еще была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Переделкино.
Цветаева. Попытка отъезда
У многих людей дома почти целиком разрушены, – пишет в дневнике Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. – 9 часов вечера 28 июля 1941 года. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я по крайней мере немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше[13 - Эфрон Г .Дневники. В 2-х тт. Т. 1. М., 2004. С. 478.].
Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, но понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили пожилая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке, вспоминали о кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запахи старости и кошек для него смешиваются воедино. Он хочет вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Многим было невыносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура все эти мысли из области распада и разложения.
Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуированным, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми.
Теперь Цветаева каждый день ходила в Литфонд, чтобы получить возможность как-то покинуть город. Создавались все новые и новые группы эвакуированных, женщины с детьми рвались подальше от Москвы.
26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:
Попомню я русскую интеллигенцию <…>! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет[14 - Эфрон Г. Т. 1. С. 475.].
Счет к интеллигенции – по его мнению, это мечущиеся советские писатели – он будет предъявлять и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, которая была в крови отца, матери, старшей сестры, всю свою небольшую жизнь внутренне оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге ту же обывательскую среду, которая так раздражала родителей во французской буржуазной публике. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим мать.
В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боялся бомбежек и кто их не боялся.
Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодовалой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу; она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.
Москва-река Кама 8 августа
8 августа Борис Пастернак вместе с Виктором Боковым (он отправлял вещи для своей семьи) провожали пароход, отправляющийся с Речного вокзала, на котором была Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован стараниями той же Тамары Ивановой через Литфонд для родственников Всеволода Иванова, его сестры и тещи.
Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани и провожала Цветаеву вместе с Львом Александровичем Бруни. Она вспоминала, что из знакомых там оказался и Илья Эренбург. Она настаивала, что Оренбург был точно. Сама ушла раньше, так как торопилась в госпиталь. А Лев Бруни сказал ей, что поедет домой на машине Оренбурга.
Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. При полной собственной растерянности, непонимании, как поступить, положение усугублялось раздражением сына, уставшего от смены решений, от ее неуверенности. Пароход “Александр Пирогов” был старый, шел медленно. “Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мур, – но не стоит заботиться о комфорте – комфорт не русский продукт”[15 - Эфрон Г. Т. 1. С. 404.]. Но его утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын поэтессы-переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын детской писательницы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе.
Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.
Берта Михайловна Горелик, жена писателя и журналиста Иосифа Горелика[16 - Иосиф Горелик начал работать в “Известиях”, когда главным редактором был Бухарин, тогда же, как рассказывала Берта Михайловна, он познакомил ее со своей молодой женой.“– Барышня, – говорил он, – вы не знакомы с моей женой? Очаровательная женщина.Был остроумный, веселый. В то время входили в моду танго и фокстрот, он как-то пошутил: «Я думал, такое только ночью делают, оказывается, можно и днем».Когда пошли аресты, ее муж приходил с работы мрачный:– Ты знаешь, у нас каждый день на собрании все каются, а мне не в чем себя обвинить.Они жили на даче между Удельной и Отдыхом; там находился поселок «Известий». И каждый день забирали, из того домика, из того… ” (Устные рассказы Б. Горелик. Архив автора.)], была хирургом, а потому военнообязанной. 8 августа она оказалась в числе тех, кто плыл на пароходе вместе с Мариной Цветаевой и ее сыном. Отправив маленького, четырехлетнего, сына в Берсут, через месяц решила забрать его в Москву.
Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где они. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь.
23 июня 1941 года ей необходимо было явиться в часть к 5 часам утра.
В пять часов мальчик еще спал, – рассказывала Берта Михайловна, – моя приятельница осталась у меня ночевать, я должна была все узнать, как меня мобилизуют, я была капитаном медицинской службы. Ни свет ни заря я примчалась туда, где моя часть. Это оказалась школа, вышел сторож:
– Что, милая, пришла-то?
Я говорю:
– Вот моя часть…
– Да она уехала в три часа ночи.
– Как уехала?
– Да так, уехала.
Я говорю: как же мне быть? Ведь скажут, что я дезертировала. Меня обуял ужас. Я стала его просить подписать бумагу, что была здесь.
– Я сторож, что я могу подписывать? Идите в военкомат.
В пять утра ни живая ни мертвая пришла домой, была счастлива, что вернулась еще раз к ребенку. Он меня увидел и закричал:
– Мамочка, ты уже не едешь на фронт, тебя не убьют!
Моя приятельница принесла мне булку, тогда она называлась французской, и огурец – в повестке было написано взять с собой питание. Дома у меня ничего не было…
Иду в военкомат, он с девяти часов работает. Меня приняли абсолютно спокойно, понимали, что идет этот чертов бедлам. Они мне говорят: идите и работайте, когда понадобитесь, вызовем.
Была такая растерянность, люди не знали, что делать, бегали, магазины уже были пустые, все расхватали… Я все время боялась за ребенка, ведь бомбили каждый день. Ночью вставали и таскали его в убежище, а на каждого входившего мужчину он кричал: “Это Гитлер?”
И вот как-то пришел муж и сказал, что эвакуируют писательский детский сад. И предложил мне отправить его вместе с другими детьми. Я согласилась.
А когда отправляла, то буквально отдирала от себя, уже тогда поняла, что совершила чудовищную вещь. Пришла домой и сказала мужу: что же мы наделали!
Там ехали женщины с детьми, были мамы рядом, а мой – один. Он так кричал:
– Я буду ходить в бомбоубежище, мамочка, не отдавай меня!
Берта Горелик вспоминала:
12 дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бредельша ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву. Та была бледная, серого цвета, волосы бесцветные с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах… Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь.
В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда она приедет хлопотать в Литфонд о возможности жить и работать в Чистополе.
Из рассказа видно, что Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она – нет.
Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе. – “Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть”. Я ей говорю: ваше дело – писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что, существует такая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила: “Кому теперь нужны мои стихи?” Я ей сказала: “Вы знаете, я, конечно, с удовольствием вас возьму, но я же еду всего на две недели”.
Главные разговоры на пароходе: где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею все больше.
Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться:
В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот, она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов)[17 - Эфрон Г. Т. 1. С. 492. Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях “Тропинка во ржи”: “Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться… Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим – от нас. А тут вот не удалось”.].
Безмолвная, зенитками одета,
Колышутся и потухают зданья,
Неведомые отсветы играют
На затемненных крышах в чехарду.
В первые же дни войны НКВД принимает решение – маскировать здание Кремля. Один из вариантов предполагал “имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска позолоченных глав кремлевских соборов, снятие крестов и имитация окраской и присыпкой на площади вокруг Кремля городских кварталов”[12 - Лубянка в дни битвы за Москву: По рассекреченным документам ФСБ РФ. М., 2002. С. 32.].
Немцы, когда бомбили Москву, пытались попасть в Кремль, поэтому много разрушений было именно в центре города. Возле Никитских ворот от удара бомбы образовалась огромная воронка, а памятнику Тимирязеву оторвало голову; нашли ее только через несколько дней на крыше возле Арбатской площади. Был разбит дом на Воровского, образующий угол с Мерзляковским переулком, где тогда находилась аптека. Считалось по теории вероятности, что дважды в одно и то же место снаряд попасть не может, однако через несколько дней в остатки аптеки снова попала бомба. Был разрушен Вахтанговский театр, а дежуривший ночью артист Куза был убит… В разбомбленных домах обнажились квартиры, стали видны кровати, диваны, картины на стенах.
Пока еще была надежда, что война протянется недолго, многие писатели, спасаясь от бомбежек, жили в Переделкино.
Цветаева. Попытка отъезда
У многих людей дома почти целиком разрушены, – пишет в дневнике Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой. – 9 часов вечера 28 июля 1941 года. Ложусь (если сегодня ночью будут Москву бомбить, я по крайней мере немного посплю). В данный момент мы никуда не уезжаем, несмотря на ужас матери от моей службы пожарником на чердаке дома (очень опасной – чтобы тушить бомбы). Мне наплевать. Меня не отпускают в Казань (матери дали разрешение, но она без меня не едет), потому что мне 16 лет и я “годен к работе”. Посмотрим, что будет, но пока мы никуда не едем. Уезжают дети, больные, старики, матери, а мы не входим ни в одну из этих категорий. Мне наплевать на то, чтобы оставаться в Москве. Мать дрейфит из-за меня на крыше[13 - Эфрон Г .Дневники. В 2-х тт. Т. 1. М., 2004. С. 478.].
Цветаева металась, пытаясь спрятать взрослого сына от опасностей, но понимала, что это только отсрочка. Казалось, что за городом безопасней; они выехали на некоторое время на дачу к Кочетковым в Пески. Там жили пожилая поэтесса Вера Меркурьева, еще какие-то старые женщины, которые вели разговоры о пропавшей кошке, вспоминали о кошках, отравленных в Гражданскую войну. Мур с отвращением слушал, называя их в дневнике старыми идиотками. Запахи старости и кошек для него смешиваются воедино. Он хочет вырваться к молодым, ясным, здоровым людям. Мать для него воплощает то же прошлое, что и старухи на даче. Наступали страшные времена, когда о животных думать было неприлично. Многим было невыносимо смотреть им в глаза и понимать, что их придется бросить или уморить голодом. Для Мура все эти мысли из области распада и разложения.
Цветаева через Литфонд пыталась пристроиться к эвакуированным, которые выезжали 25 или 27 июля в Чистополь. Мур боялся, что может оказаться среди маленьких детей единственным шестнадцатилетним. Но их в эшелон не включили, поехали только инвалиды и матери с маленькими детьми.
Теперь Цветаева каждый день ходила в Литфонд, чтобы получить возможность как-то покинуть город. Создавались все новые и новые группы эвакуированных, женщины с детьми рвались подальше от Москвы.
26 июля Мур раздраженно пишет в дневнике:
Попомню я русскую интеллигенцию <…>! Более неорганизованных, пугливых, несуразных, бегающих людей нигде и никогда не видал. Литфонд – сплошной карусель не совершившихся отъездов, отменяемых планов, приказов ЦК, разговоров с Панферовым и Асеевым и Фединым. Все это дает ощущение бреда. Каковы же все-таки последние новости нашего несчастного отъезда? Как будто опять начинает сколачиваться группа писателей, для которой сейчас ищут место эвакуации – не то Тамбов, не то Марийскую АССР, не то опять Татарию. Что-то такое в этом роде намечается – для тех, кто не уехал в Чистополь. Но даже если что-нибудь выйдет с образованием этой группы, если найдут место и сговорятся с местными властями, еще совершенно неизвестно, удастся ли нам попасть в эту группу или нет[14 - Эфрон Г. Т. 1. С. 475.].
Счет к интеллигенции – по его мнению, это мечущиеся советские писатели – он будет предъявлять и в Елабуге, и в Чистополе, и в Ташкенте. Мур пройдет все круги писательской эвакуации, сохраняя свой насмешливый, отстраненный, злой взгляд на людей. Мальчик, выросший в атмосфере почитания интеллигенции, которая была в крови отца, матери, старшей сестры, всю свою небольшую жизнь внутренне оспаривает аргументы родителей. Он видит в писательском круге ту же обывательскую среду, которая так раздражала родителей во французской буржуазной публике. Наверняка он не мог отказать себе в удовольствии лишний раз уколоть этим мать.
В те дни он отмечает, что Москва разделилась на два лагеря: кто боялся бомбежек и кто их не боялся.
Лидия Либединская тоже ездила на дачу во Внуково с полугодовалой девочкой. Она рассказывала, что вскоре они с мамой и бабушкой перестали спускаться в убежище, хотя однажды на ее глазах от бомбы рухнул дом на Полянке. Ее тоже включили в списки эвакуированных; мать собрала теплые вещи, и Лидия с ребенком должна была плыть тем же пароходом, что и Цветаева. Но 18 июля с фронта привезли ее жениха, Ивана Бруни, с тяжелым ранением бедра. Это и решило ее судьбу; она устроилась в госпиталь, чтобы ухаживать за ним.
Москва-река Кама 8 августа
8 августа Борис Пастернак вместе с Виктором Боковым (он отправлял вещи для своей семьи) провожали пароход, отправляющийся с Речного вокзала, на котором была Цветаева с Муром. По слухам, этот пароход был организован стараниями той же Тамары Ивановой через Литфонд для родственников Всеволода Иванова, его сестры и тещи.
Лидия Либединская рассказывала, что она тоже была на пристани и провожала Цветаеву вместе с Львом Александровичем Бруни. Она вспоминала, что из знакомых там оказался и Илья Эренбург. Она настаивала, что Оренбург был точно. Сама ушла раньше, так как торопилась в госпиталь. А Лев Бруни сказал ей, что поедет домой на машине Оренбурга.
Цветаева уезжала из Москвы, преодолевая сопротивление Мура. При полной собственной растерянности, непонимании, как поступить, положение усугублялось раздражением сына, уставшего от смены решений, от ее неуверенности. Пароход “Александр Пирогов” был старый, шел медленно. “Мы спим сидя, темно, вонь, – пишет в дневниках Мур, – но не стоит заботиться о комфорте – комфорт не русский продукт”[15 - Эфрон Г. Т. 1. С. 404.]. Но его утешало наличие сверстников. Тот факт, что он не один взрослый мальчик, который отправляется в эвакуацию с женщинами, инвалидами и малыми детьми, успокаивал его. Рядом оказался Вадим Сикорский, сын поэтессы-переводчицы Татьяны Сикорской, и Александр Соколовский, сын детской писательницы Нины Саконской. Соколовский, хотя и окончил семь классов, был ровесником Мура. Тот писал о нем как о человеке культурном, разбирающемся в музыке. Вадим Сикорский был намного старше обоих мальчиков, ему было уже девятнадцать. Он учился в Литинституте, любил литературу, писал стихи. Мальчики подружились и время на пароходе проводили вместе.
Вместе они окажутся и в Елабуге. У каждого из подростков – трудные отношения с матерями, их силой вывозят из Москвы. Это же, видимо, объединило и трех матерей в Елабуге.
Берта Михайловна Горелик, жена писателя и журналиста Иосифа Горелика[16 - Иосиф Горелик начал работать в “Известиях”, когда главным редактором был Бухарин, тогда же, как рассказывала Берта Михайловна, он познакомил ее со своей молодой женой.“– Барышня, – говорил он, – вы не знакомы с моей женой? Очаровательная женщина.Был остроумный, веселый. В то время входили в моду танго и фокстрот, он как-то пошутил: «Я думал, такое только ночью делают, оказывается, можно и днем».Когда пошли аресты, ее муж приходил с работы мрачный:– Ты знаешь, у нас каждый день на собрании все каются, а мне не в чем себя обвинить.Они жили на даче между Удельной и Отдыхом; там находился поселок «Известий». И каждый день забирали, из того домика, из того… ” (Устные рассказы Б. Горелик. Архив автора.)], была хирургом, а потому военнообязанной. 8 августа она оказалась в числе тех, кто плыл на пароходе вместе с Мариной Цветаевой и ее сыном. Отправив маленького, четырехлетнего, сына в Берсут, через месяц решила забрать его в Москву.
Не знаю, как я вообще это пережила. Муж каждый день в Литфонд звонит, справляется, где они. Никто не отвечает, куда отвезли детей, говорили, разбомбили детский поезд, и когда я, наконец, узнала, что дети приехали в Чистополь, то пошла в военкомат и попросила дать мне две недели, чтобы забрать ребенка. Мне говорят, что бомбят Москву, все увозят детей. Я хочу его забрать. Муж узнал, что пароход идет в Чистополь.
23 июня 1941 года ей необходимо было явиться в часть к 5 часам утра.
В пять часов мальчик еще спал, – рассказывала Берта Михайловна, – моя приятельница осталась у меня ночевать, я должна была все узнать, как меня мобилизуют, я была капитаном медицинской службы. Ни свет ни заря я примчалась туда, где моя часть. Это оказалась школа, вышел сторож:
– Что, милая, пришла-то?
Я говорю:
– Вот моя часть…
– Да она уехала в три часа ночи.
– Как уехала?
– Да так, уехала.
Я говорю: как же мне быть? Ведь скажут, что я дезертировала. Меня обуял ужас. Я стала его просить подписать бумагу, что была здесь.
– Я сторож, что я могу подписывать? Идите в военкомат.
В пять утра ни живая ни мертвая пришла домой, была счастлива, что вернулась еще раз к ребенку. Он меня увидел и закричал:
– Мамочка, ты уже не едешь на фронт, тебя не убьют!
Моя приятельница принесла мне булку, тогда она называлась французской, и огурец – в повестке было написано взять с собой питание. Дома у меня ничего не было…
Иду в военкомат, он с девяти часов работает. Меня приняли абсолютно спокойно, понимали, что идет этот чертов бедлам. Они мне говорят: идите и работайте, когда понадобитесь, вызовем.
Была такая растерянность, люди не знали, что делать, бегали, магазины уже были пустые, все расхватали… Я все время боялась за ребенка, ведь бомбили каждый день. Ночью вставали и таскали его в убежище, а на каждого входившего мужчину он кричал: “Это Гитлер?”
И вот как-то пришел муж и сказал, что эвакуируют писательский детский сад. И предложил мне отправить его вместе с другими детьми. Я согласилась.
А когда отправляла, то буквально отдирала от себя, уже тогда поняла, что совершила чудовищную вещь. Пришла домой и сказала мужу: что же мы наделали!
Там ехали женщины с детьми, были мамы рядом, а мой – один. Он так кричал:
– Я буду ходить в бомбоубежище, мамочка, не отдавай меня!
Берта Горелик вспоминала:
12 дней мы не ехали, а стояли. Как бомбят, мы останавливались. Дамы поважнее сидели в каютах, а мы на палубе. Цветаева была с сыном. Я ее увидела, кажется, дня через два. Подошла к ней жена Вилли Бределя – антифашиста, она мне ее представила. Говорили друг с другом по-немецки. Почему-то Бредельша ко мне сразу расположилась, стала рассказывать про свои болезни. Она представила мне Цветаеву. Та была бледная, серого цвета, волосы бесцветные с проседью уже. Она была с такой тоской в глазах… Вообще ее жизнь я узнала только тогда, когда мы приехали в Чистополь.
В 20-х числах августа они встретятся – жена Бределя, Берта Михайловна и Цветаева, когда она приедет хлопотать в Литфонд о возможности жить и работать в Чистополе.
Из рассказа видно, что Цветаева оказалась среди общего горя, которое уравнивало всех в беде. Но было одно существенное отличие: все умели включаться в советскую систему отношений, а она – нет.
Когда мы ехали, она узнала, что я врач, – вспоминала Берта Горелик об их коротком разговоре на пароходе. – “Вы не могли бы меня взять посудомойкой, я могу и полы мыть”. Я ей говорю: ваше дело – писать стихи. Я же ничего не знала о ней. Знала то, что, существует такая писательница, что эмигрировала, но дальнейшая ее судьба мне была неизвестна. Она мне ответила: “Кому теперь нужны мои стихи?” Я ей сказала: “Вы знаете, я, конечно, с удовольствием вас возьму, но я же еду всего на две недели”.
Главные разговоры на пароходе: где жить и на что жить. Из разговоров становилось понятно, что у всех есть какая-то поддержка от родственников, деньги, которые везут с собой. Цветаева – в растерянности. Страх, что нельзя будет найти работу, овладевает ею все больше.
Мур рассуждает в дневнике о возможности устроиться:
В Казани есть поэтесса-переводчица М. Алигер, которая наверняка знает о замечательной репутации матери. (Может быть, наоборот, она не поможет нам устроиться в Казани, опасаясь сильной конкуренции в области переводов)[17 - Эфрон Г. Т. 1. С. 492. Спустя годы Маргарита Алигер, возможно, ознакомившись с дневниковой записью Мура (она близко знала Ариадну Эфрон), писала о Цветаевой в воспоминаниях “Тропинка во ржи”: “Я запомнила городок Елабугу между Чистополем и Челнами, на противоположном берегу. Туда, я знала, тоже отправили несколько писательских семей и в их числе – знала я тогда об этом или нет? – Марину Ивановну Цветаеву с сыном. Стоял конец августа, ясный и синий, – можно бы задержаться, сойти в Елабуге, отыскать там живую Марину Цветаеву, что-нибудь сказать ей такое, что помогло бы ей поверить, помедлить, подождать, понадеяться… Можно ли было? Думаю, да. Думаю, это всегда можно. Думаю, всем нам много раз удавалось, хотя мы, может быть, и сами о том не знали, удержать, остановить, отвести от другого страшную минуту. И этим другим – от нас. А тут вот не удалось”.].