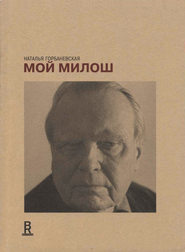По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В самом начале мы потребовали, чтобы Виктору Файнбергу сделали медицинскую экспертизу. В связи с этим дежурный милиционер записал все наши фамилии, имена и отчества, и дознанию не пришлось заниматься процедурой установления наших личностей. Через некоторое время приехал испуганный врач, Виктора увели, и больше мы его не видели. Как я потом узнала, в материалах дела этой экспертизы не было: то ли ее вообще не произвели, то ли выделили из дела вместе с остальными материалами Файнберга. А она была бы объективным показанием о методах расправы с демонстрантами.
Кроме того, мы заявили, что задержанные вместе с нами люди не участвовали в демонстрации: пусть их допросят раньше, чтобы зря не держать. Их допросили, но не отпустили, а продержали до позднего вечера, как и нас.
Когда прошло три часа, Володя Дремлюга встал и спокойно пошел к выходу, вызвав ярость нашего стража. Володя спокойно объяснил, что больше трех часов нас не могут держать без постановления о задержании. Мы присоединились к его заявлению. Милиционеры забегали, и вскоре в дверь заглянул какой-то человек:
– Литвинов здесь есть?
Павлика увели на допрос. За ним Ларису, следующей – меня.
Сидя в «полтиннике», мы не раз вспоминали пророческую песенку-пародию [Юлия Кима]: «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз, еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз».
Допрашивал меня следователь Московского УООП [Управления охраны общественного порядка] Василенко. Я дала показания о расправе с демонстрантами: о том, как рвали плакаты, о побоях, которые я видела, о том, как у меня поломали флажок, о женщине, которая била меня в машине. На все вопросы о самой демонстрации, о ее подготовке и организации я отказалась отвечать – только подчеркнула, что демонстрация была сидячая, поэтому ее участников легко отличить от людей, задержанных случайно. Свой отказ я объяснила тем, что единственными нарушителями общественного порядка на Красной площади были те, кто разгонял демонстрацию и избивал мирных демонстрантов, – поэтому только об их действиях я и буду говорить. Стремясь быть последовательной, я отказалась отвечать даже на вопрос, когда началась демонстрация. С готовым протоколом в руках и со мной Василенко спустился с третьего этажа в коридор второго и пошел в кабинет с кем-то советоваться. Из другого кабинета доносился неразборчивый яростный крик следователя. Можно было понять только: «Как вам не стыдно!» Отвечал ему голос настолько тихий, что об ответе можно было только догадываться по паузам в озлобленном крике. Мне сразу представилось, что там Лариса, и стало очень больно: лучше б на меня кричали. Я так и не знаю, кого так грубо допрашивали.
Снизу, где остался мой малыш, ничего не было слышно, как я ни прислушивалась.
Василенко вышел от начальства и снова пошел со мной наверх. Он взял новый лист для протокола, заполнил страницу анкетных данных и снова задал вопрос относительно демонстрации. Я сказала, что дала все показания, какие считаю нужным. Не добившись толку, следователь порвал пустой протокол и снова повел меня на второй этаж.
Конечно, оба раза он не так-то быстро соглашался с моим отказом от показаний. В ход шли все средства убеждения, вплоть до классического «А ваши товарищи всё рассказывают».
– Это их личное дело, – сказала я, улыбнувшись. Если б они и правда «всё» рассказывали, это ничего не изменило бы в моих показаниях. Да я-то знала моих товарищей. А вечером того же дня, во время очной ставки, о которой я еще скажу, я увидела на столе у майора Караханяна протокол Дремлюги – только анкетную страницу. Но и по ней было видно, что Володя оказался еще последовательнее меня. В обоих местах, где должна была стоять его подпись: под анкетными данными и под предупреждением об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, – следователю пришлось написать: «Подписать отказался».
А допрашивали нас как свидетелей. И опознавали – как «свидетелей». «Опознавали» меня вечером, в девятом часу, а все это время до опознания я провела в каком-то из кабинетов второго этажа, ничего не зная о своем младенце. Меня стерегли – то один милиционер, то другой, притом они были очень недовольны этой заботой: у них, видно, и без нас хватало дела. Толстого пожилого милиционера я спросила, как там ребенок, не видел ли он. «Его нянчит ваша подруга». Потом уж я узнала, что с малышом больше всего нянчились Инна и Миша Леман, а был какой-то момент, когда с ним не осталось никого, кроме молодого и, к счастью, доброго милиционера. Малыш, впрочем, вел себя идеально, хотя мог бы и покричать: я кормила его в середине дня, а из того прикорма, что у него был, одну бутылочку кефира разлили, обыскивая коляску, а творог от жары испортился, так что без меня ребята дали ему съесть то немногое, что оставалось.
С этим же толстым милиционером мы побеседовали о Чехословакии: «Вы сейчас говорите, что там контрреволюция и надо вводить войска – потому что так написано в газетах. А через месяц скажут, что не надо было вводить войска, – и вы будете повторять это за газетами». [Но сказали не через месяц, а через 22 года.]
Наконец милиционеры сдали очередь сторожить меня мальчикам из оперотряда. Всегда, когда я видела подобных мальчиков «на деле» – у суда над Буковским, у суда над Галансковым и Гинзбургом, я не могла удержаться от мысли, что в оперотряд идут от некоей неполноценности. Теперь, видя их, невольно слыша их разговоры, я еще раз в этом убедилась. Двое из них, как я поняла, работали продавцами в книжных магазинах, что ничуть не повышало их интеллекта. (Впрочем, сколько раз встречаешь каких-нибудь книжных «жучков», которые знают названия и цены всех редких книг на черном рынке, но самоуверенные суждения об этих книгах произносят со своих убогих спекулянтских позиций.) Момент наибольшего энтузиазма в беседе наступил, когда один из них рассказал, что какому-то знакомому привезли из Западной Германии порнографическое издание. Тут они все со знанием дела стали говорить о том, как эти книги там издают да кто какую книгу видел. Притом, учитывая мое присутствие, они, конечно, не говорили «порнография», а употребляли какой-то специфический, но весьма прозрачный условный термин.
Здесь же я получила четкое подтверждение нашему предположению, что понятыми на обыски теперь возят оперотрядчиков. При мне следователь дважды вызывал по двое ребят ехать понятыми. Парни из этой же компании были понятыми и на моем опознании.
Я видела и слышала моих сторожей, но сознание мое было отстранено. Я еще не предполагала, что меня выпустят, и, глядя в окно, навсегда запоминала бедный пейзаж: облупленные желтые стены, замыкавшие голый внутренний двор, и два дерева, поднимавшиеся высоко позади стены. Впрочем, в какой-то момент я испытала ясное ощущение, что меня выпустят. Была я очень спокойна, только скорее хотела соединиться со своим ребенком.
Часов в восемь меня вызвали на опознание. Посадили рядом с двумя красивыми девочками, лет на десять меня моложе, и предложили некоему Олегу Константиновичу Давидовичу, молодому человеку в штатском, тонколицему и тонкогубому, опознать меня из «трех предъявленных для опознания». Ну он, конечно, опознал. И изложил, при каких обстоятельствах он меня видел и что я делала: более кратко на опознании, более подробно – на последовавшей за этим очной ставке. Это тот самый Давидович, старший лейтенант КГБ из лагерей строгого режима в Коми АССР, показаниям которого позднее суд поверил больше всего. Тогда в «полтиннике» я знала только те его показания, что касались меня: что я подошла к Лобному месту вместе со всеми демонстрантами, что я держала плакат, что демонстрантов никто не бил, а в отделение отправляли работники милиции и т. п. – словом, сплошная ложь. Он заявил, что я произносила «антисоветские речи», сравнивала ввод войск Варшавского пакта с гитлеровским вторжением.
Если прибавить к этому неизвестные мне тогда его показания, что вышел он на Красную площадь из ГУМа (а ГУМ в воскресенье закрыт), что Лариса не держала плаката, – можно почти твердо увериться, что он либо не был вовсе на площади, либо явился туда только помочь увозить демонстрантов.
Перед опознанием и очной ставкой меня вывели в коридор, и тут я в последний раз увидела Ларису. Ее увозили на обыск. «Ларик», – окликнула я. Она улыбнулась и помахала рукой. И все время улыбалась.
А после очной ставки я на минуту увидела Павлика. Он тоже был просветлен, но это выражалось не в радостном оживлении, как у Лары, а в какой-то особенно явной мягкости. Так я простилась с двумя своими сердечнейшими друзьями.
И наконец мне сказали: «Вы свободны. Пойдете с этим товарищем».
И, не слишком задумываясь, свободна ли я вообще или только от очной ставки, в сопровождении этого «товарища» я спустилась вниз, к моему младенцу, который как раз к этому времени доконал последние сухие штаны. А вся коляска была увешана мокрыми. Вместе с коляской нас погрузили в милицейский «газик» и повезли домой, на обыск.
Обыски
В этот вечер было произведено восемь обысков: у шести демонстрантов-москвичей и у двоих из задержанных с нами – у Тани Баевой и у Майи Русаковской.
Брали, как всегда, всякий самиздат, записные книжки, клочки бумаги с адресами, телефонами, личными записями. У Дремлюги изъяли… Уголовный кодекс. У меня взяли машинописного Мандельштама. У Дремлюги и у Майи Русаковской – американское издание Мандельштама. Впервые за долгое время снова брали на обысках мои стихи. Стихи Делоне изымали и прежде, изъяли и сейчас. У Делоне изъяли крест.
У Ларисы делали третий обыск за последний месяц, изымать было практически нечего, поэтому в поисках хоть чего-нибудь перерыли все, только что подушки не вспарывали. У Майи Русаковской перевернули вверх дном всю квартиру. К Татке на обыск поехали пятеро мужчин, без единственной женщины. Как проходили обыски у Павлика, у Вадима, у Володи, неизвестно: в это летнее воскресенье у них никого не было дома. Санька Даниэль, в этот день вернувшийся из Прибалтики, попал домой на обыск и успел проститься с мамой.
Все обыски проходили – по крайней мере заканчивались – в ночное время. А у меня и начался в 10 часов вечера, что уже считается ночным временем. Руководил обыском вполне корректный капитан милиции, понятыми были две молоденькие девочки, которые весь обыск просидели не шелохнувшись и испуганно отказались съесть предложенные им яблоки. Обыскивали комнату, кроме капитана, два человека, не назвавшие себя: один молчаливейший, ни слова за вечер, второй – наоборот, словоохотливый. Например, находит уведомление о вручении письма с лагерным адресом.
– Это кто же такой Гинзбург?
– Мой друг.
– Тоже в тюрьме сидит?
– В лагере.
– Да? А какая разница?
Я терпеливо объясняю разницу между тюрьмой и лагерем – не для этого фигляра, а для девочек, которые показались мне случайными в своем качестве оперотрядчиц.
– А за что же он сидит?
– По статье 70.
– Да? А что же это за статья?
Я опять объясняю: и что за статья, и что сделал, и почему «Белая книга». Гинзбург ее так не называл – это почему-то в ходе следствия она оказалась «Белой». Он назвал просто: сборник документов по делу Синявского и Даниэля.
Через минуту опять невинно спрашивает:
– Почему же он назвал ее «Белой книгой»?
– Я же вам объяснила, что это не он так ее назвал, а КГБ – вы КГБ и спросите.
И тут он единственный раз взрывается:
– Мы – не КГБ!
– А я не говорю, что вы – КГБ. Я говорю: спросите в КГБ.
Молчаливый молчит. Похоже, что он-то и есть КГБ.
Словоохотливый находит коробку гуаши:
– Отсюда мазала?
– А что у нас, – спрашиваю я, – допрос или обыск?
– Ну, – он недоволен, но говорит почти ласково, – сказала бы, что нет, и оставили бы.
Капитан просматривает книги, кивает на сборник стихов Глеба Горбовского:
– Хороший поэт.
Кроме того, мы заявили, что задержанные вместе с нами люди не участвовали в демонстрации: пусть их допросят раньше, чтобы зря не держать. Их допросили, но не отпустили, а продержали до позднего вечера, как и нас.
Когда прошло три часа, Володя Дремлюга встал и спокойно пошел к выходу, вызвав ярость нашего стража. Володя спокойно объяснил, что больше трех часов нас не могут держать без постановления о задержании. Мы присоединились к его заявлению. Милиционеры забегали, и вскоре в дверь заглянул какой-то человек:
– Литвинов здесь есть?
Павлика увели на допрос. За ним Ларису, следующей – меня.
Сидя в «полтиннике», мы не раз вспоминали пророческую песенку-пародию [Юлия Кима]: «Эх, раз, еще раз, еще много-много раз, еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз».
Допрашивал меня следователь Московского УООП [Управления охраны общественного порядка] Василенко. Я дала показания о расправе с демонстрантами: о том, как рвали плакаты, о побоях, которые я видела, о том, как у меня поломали флажок, о женщине, которая била меня в машине. На все вопросы о самой демонстрации, о ее подготовке и организации я отказалась отвечать – только подчеркнула, что демонстрация была сидячая, поэтому ее участников легко отличить от людей, задержанных случайно. Свой отказ я объяснила тем, что единственными нарушителями общественного порядка на Красной площади были те, кто разгонял демонстрацию и избивал мирных демонстрантов, – поэтому только об их действиях я и буду говорить. Стремясь быть последовательной, я отказалась отвечать даже на вопрос, когда началась демонстрация. С готовым протоколом в руках и со мной Василенко спустился с третьего этажа в коридор второго и пошел в кабинет с кем-то советоваться. Из другого кабинета доносился неразборчивый яростный крик следователя. Можно было понять только: «Как вам не стыдно!» Отвечал ему голос настолько тихий, что об ответе можно было только догадываться по паузам в озлобленном крике. Мне сразу представилось, что там Лариса, и стало очень больно: лучше б на меня кричали. Я так и не знаю, кого так грубо допрашивали.
Снизу, где остался мой малыш, ничего не было слышно, как я ни прислушивалась.
Василенко вышел от начальства и снова пошел со мной наверх. Он взял новый лист для протокола, заполнил страницу анкетных данных и снова задал вопрос относительно демонстрации. Я сказала, что дала все показания, какие считаю нужным. Не добившись толку, следователь порвал пустой протокол и снова повел меня на второй этаж.
Конечно, оба раза он не так-то быстро соглашался с моим отказом от показаний. В ход шли все средства убеждения, вплоть до классического «А ваши товарищи всё рассказывают».
– Это их личное дело, – сказала я, улыбнувшись. Если б они и правда «всё» рассказывали, это ничего не изменило бы в моих показаниях. Да я-то знала моих товарищей. А вечером того же дня, во время очной ставки, о которой я еще скажу, я увидела на столе у майора Караханяна протокол Дремлюги – только анкетную страницу. Но и по ней было видно, что Володя оказался еще последовательнее меня. В обоих местах, где должна была стоять его подпись: под анкетными данными и под предупреждением об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний, – следователю пришлось написать: «Подписать отказался».
А допрашивали нас как свидетелей. И опознавали – как «свидетелей». «Опознавали» меня вечером, в девятом часу, а все это время до опознания я провела в каком-то из кабинетов второго этажа, ничего не зная о своем младенце. Меня стерегли – то один милиционер, то другой, притом они были очень недовольны этой заботой: у них, видно, и без нас хватало дела. Толстого пожилого милиционера я спросила, как там ребенок, не видел ли он. «Его нянчит ваша подруга». Потом уж я узнала, что с малышом больше всего нянчились Инна и Миша Леман, а был какой-то момент, когда с ним не осталось никого, кроме молодого и, к счастью, доброго милиционера. Малыш, впрочем, вел себя идеально, хотя мог бы и покричать: я кормила его в середине дня, а из того прикорма, что у него был, одну бутылочку кефира разлили, обыскивая коляску, а творог от жары испортился, так что без меня ребята дали ему съесть то немногое, что оставалось.
С этим же толстым милиционером мы побеседовали о Чехословакии: «Вы сейчас говорите, что там контрреволюция и надо вводить войска – потому что так написано в газетах. А через месяц скажут, что не надо было вводить войска, – и вы будете повторять это за газетами». [Но сказали не через месяц, а через 22 года.]
Наконец милиционеры сдали очередь сторожить меня мальчикам из оперотряда. Всегда, когда я видела подобных мальчиков «на деле» – у суда над Буковским, у суда над Галансковым и Гинзбургом, я не могла удержаться от мысли, что в оперотряд идут от некоей неполноценности. Теперь, видя их, невольно слыша их разговоры, я еще раз в этом убедилась. Двое из них, как я поняла, работали продавцами в книжных магазинах, что ничуть не повышало их интеллекта. (Впрочем, сколько раз встречаешь каких-нибудь книжных «жучков», которые знают названия и цены всех редких книг на черном рынке, но самоуверенные суждения об этих книгах произносят со своих убогих спекулянтских позиций.) Момент наибольшего энтузиазма в беседе наступил, когда один из них рассказал, что какому-то знакомому привезли из Западной Германии порнографическое издание. Тут они все со знанием дела стали говорить о том, как эти книги там издают да кто какую книгу видел. Притом, учитывая мое присутствие, они, конечно, не говорили «порнография», а употребляли какой-то специфический, но весьма прозрачный условный термин.
Здесь же я получила четкое подтверждение нашему предположению, что понятыми на обыски теперь возят оперотрядчиков. При мне следователь дважды вызывал по двое ребят ехать понятыми. Парни из этой же компании были понятыми и на моем опознании.
Я видела и слышала моих сторожей, но сознание мое было отстранено. Я еще не предполагала, что меня выпустят, и, глядя в окно, навсегда запоминала бедный пейзаж: облупленные желтые стены, замыкавшие голый внутренний двор, и два дерева, поднимавшиеся высоко позади стены. Впрочем, в какой-то момент я испытала ясное ощущение, что меня выпустят. Была я очень спокойна, только скорее хотела соединиться со своим ребенком.
Часов в восемь меня вызвали на опознание. Посадили рядом с двумя красивыми девочками, лет на десять меня моложе, и предложили некоему Олегу Константиновичу Давидовичу, молодому человеку в штатском, тонколицему и тонкогубому, опознать меня из «трех предъявленных для опознания». Ну он, конечно, опознал. И изложил, при каких обстоятельствах он меня видел и что я делала: более кратко на опознании, более подробно – на последовавшей за этим очной ставке. Это тот самый Давидович, старший лейтенант КГБ из лагерей строгого режима в Коми АССР, показаниям которого позднее суд поверил больше всего. Тогда в «полтиннике» я знала только те его показания, что касались меня: что я подошла к Лобному месту вместе со всеми демонстрантами, что я держала плакат, что демонстрантов никто не бил, а в отделение отправляли работники милиции и т. п. – словом, сплошная ложь. Он заявил, что я произносила «антисоветские речи», сравнивала ввод войск Варшавского пакта с гитлеровским вторжением.
Если прибавить к этому неизвестные мне тогда его показания, что вышел он на Красную площадь из ГУМа (а ГУМ в воскресенье закрыт), что Лариса не держала плаката, – можно почти твердо увериться, что он либо не был вовсе на площади, либо явился туда только помочь увозить демонстрантов.
Перед опознанием и очной ставкой меня вывели в коридор, и тут я в последний раз увидела Ларису. Ее увозили на обыск. «Ларик», – окликнула я. Она улыбнулась и помахала рукой. И все время улыбалась.
А после очной ставки я на минуту увидела Павлика. Он тоже был просветлен, но это выражалось не в радостном оживлении, как у Лары, а в какой-то особенно явной мягкости. Так я простилась с двумя своими сердечнейшими друзьями.
И наконец мне сказали: «Вы свободны. Пойдете с этим товарищем».
И, не слишком задумываясь, свободна ли я вообще или только от очной ставки, в сопровождении этого «товарища» я спустилась вниз, к моему младенцу, который как раз к этому времени доконал последние сухие штаны. А вся коляска была увешана мокрыми. Вместе с коляской нас погрузили в милицейский «газик» и повезли домой, на обыск.
Обыски
В этот вечер было произведено восемь обысков: у шести демонстрантов-москвичей и у двоих из задержанных с нами – у Тани Баевой и у Майи Русаковской.
Брали, как всегда, всякий самиздат, записные книжки, клочки бумаги с адресами, телефонами, личными записями. У Дремлюги изъяли… Уголовный кодекс. У меня взяли машинописного Мандельштама. У Дремлюги и у Майи Русаковской – американское издание Мандельштама. Впервые за долгое время снова брали на обысках мои стихи. Стихи Делоне изымали и прежде, изъяли и сейчас. У Делоне изъяли крест.
У Ларисы делали третий обыск за последний месяц, изымать было практически нечего, поэтому в поисках хоть чего-нибудь перерыли все, только что подушки не вспарывали. У Майи Русаковской перевернули вверх дном всю квартиру. К Татке на обыск поехали пятеро мужчин, без единственной женщины. Как проходили обыски у Павлика, у Вадима, у Володи, неизвестно: в это летнее воскресенье у них никого не было дома. Санька Даниэль, в этот день вернувшийся из Прибалтики, попал домой на обыск и успел проститься с мамой.
Все обыски проходили – по крайней мере заканчивались – в ночное время. А у меня и начался в 10 часов вечера, что уже считается ночным временем. Руководил обыском вполне корректный капитан милиции, понятыми были две молоденькие девочки, которые весь обыск просидели не шелохнувшись и испуганно отказались съесть предложенные им яблоки. Обыскивали комнату, кроме капитана, два человека, не назвавшие себя: один молчаливейший, ни слова за вечер, второй – наоборот, словоохотливый. Например, находит уведомление о вручении письма с лагерным адресом.
– Это кто же такой Гинзбург?
– Мой друг.
– Тоже в тюрьме сидит?
– В лагере.
– Да? А какая разница?
Я терпеливо объясняю разницу между тюрьмой и лагерем – не для этого фигляра, а для девочек, которые показались мне случайными в своем качестве оперотрядчиц.
– А за что же он сидит?
– По статье 70.
– Да? А что же это за статья?
Я опять объясняю: и что за статья, и что сделал, и почему «Белая книга». Гинзбург ее так не называл – это почему-то в ходе следствия она оказалась «Белой». Он назвал просто: сборник документов по делу Синявского и Даниэля.
Через минуту опять невинно спрашивает:
– Почему же он назвал ее «Белой книгой»?
– Я же вам объяснила, что это не он так ее назвал, а КГБ – вы КГБ и спросите.
И тут он единственный раз взрывается:
– Мы – не КГБ!
– А я не говорю, что вы – КГБ. Я говорю: спросите в КГБ.
Молчаливый молчит. Похоже, что он-то и есть КГБ.
Словоохотливый находит коробку гуаши:
– Отсюда мазала?
– А что у нас, – спрашиваю я, – допрос или обыск?
– Ну, – он недоволен, но говорит почти ласково, – сказала бы, что нет, и оставили бы.
Капитан просматривает книги, кивает на сборник стихов Глеба Горбовского:
– Хороший поэт.