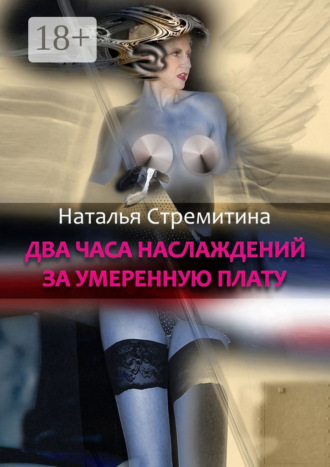
Два часа наслаждений за умеренную плату. Крутая откровенная проза о любви…
Но оставалась мечта о переселении своей души в тело ребёнка, почти религиозный экстаз воспитателя, но что-то ускользало, не поддавалось, превращалось в миф. Наверно, от того, что любовь к сыну заслоняла от него здоровую любовь к самому себе и к своей жене. И только в семьях, где не отделяют одно бытие от другого, где не ждут будущего, а живут, волнуясь каждый день и каждое мгновение, не порабощая себя любовью к детям… И это открылось ему через неё.
Она жила одна с сыном в комнате, где царили рояль и письменный стол, и, казалось, ничто не может помешать ей жить так, как могла только она. Если бы у неё было десять детей, она, уложив их спать, садилась бы за свой письменный стол и читала бы Платона или Бергсона, и никакая стирка не могла бы помешать ей, когда она терпеливо и упорно такт за тактом разучивала ноктюрн Шопена.
В её руках, в звуках её голоса всё оживало, становилось неожиданно увлекательным, и был момент, когда он был готов на любые безумства ради неё. Но она не догадывалась о своих несметных сокровищах и была слишком занята собой, чтобы понять то, что происходило в его душе. Во время прогулок она часто не замечала, что он идёт рядом, расссуждая на любую тему, задумчиво или с улыбкой.
Иногда она представлялась ему угловатым подростком, без пола и возраста, и это раздражало и отталкивало его. Иногда он поражался её мудрости, но всегда наталкивался на что-то новое в ней, будто спотыкался о глыбу и чувствовал себя застигнутым врасплох. Даже пытался готовить себя к встрече с ней, находил что-то новое и увлекательное в истории философии и приносил как ученик на урок к профессору, чтобы поразить её воображекние, но она как бы опережала его, являлась опять чужая, незнакомая и непонятная.
Он уже любил её, негодуя и волнуясь, и боялся пожелать её как женщину, потому что это казалось какой-то нелепостью. Как можно было прикоснуться к её волосам и увидеть удивлённые глаза, которые спрашивали: «Разве это возможно?» И как-то само собой это желание прошло, он перестал замечать её затылок, и изящные маленькие уши в завитках волос, и то, что раньше притягивало сильнее, чем любая пышная, бездумная красота, стало пронзительным сочетанием радости, ощущением, что она здесь, идёт рядом, двигается, говорит… Он любил её иначе, не так, как раньше любил женщин. Те иногда могли привлечь одним только взглядом, в котором было желание принадлежать ему, и это упоительно-простое ощущение сразу вдохновляло на такие же простые поступки и слова, которых требовала ситуация.
Но теперь он приходил домой после прогулок с этой женщиной такой усталый, такой счастливый, будто он обладал всеми женщинами мира, хотя никогда ещё не был так целомудрен. Может быть, ей удалось заманить его в свой идеально-солиптический мирок, в который не должен верить материалист, но который всё-таки существует?
Силя в кресле и размышляя, Павел Иванович не заметил, как папка постепенно съехала с подлокотника и грохнулась на пол. В руке у него остался ещё один листок злополучного письма, что так некстати отвлекло его…
«…В настоящей невыдуманной жизни – в терпении, добре, в обыденной повседневности маленькие люди стоят выше мудрецов, тех мудрецов, которые находят высшую форму сладострастия в аскетическом отказе от жизни, а на самом деле освобождаются от всего тяжкого и грязного. Им не преодолеть тупую и утомительную привычку „жертвовать собой“ для других…»
Она будто отвечала ему на его вопрос. «…но к чему это выступление в пустом зале, ведь вы уже ушли, вас нет, и никто, случайно спрятавшись за театральным креслом, не поймёт и не оценит обращённый к вам монолог. Но ответ так прост – когда двое людей любят друг друга, нельзя уйти молча. Те открытия, что помогли вы мне сделать, переполняют меня. Я знаю, что моя мысль разбудила и вас. Разве не я показала вам, что есть подлиный миг бытия, и вас обожгло, потому что на этой волшебной поляне с жёлтыми одуванчиками, с папортниками была и крапива? Но был и подорожник, что залечивает раны…»
– Опять развела красивенькую канитель из слов, – хотел вновь отмахнуться он от письма, но тут почувствовал лёгкий озноб, будто ветер с реки подул на него…
* * *Она часто приводила его к белой колокольне в Коломенском и называла эту прогулку экзистенциальной. Однажды они стояли на высоком берегу реки, за спиной была заброшенная часовенка и кладбище, а перед ними – крутой склон, поросший высокой травой, бурьяном и дикими цветами.
Они стояли молча, может быть, она ждала от меня важных слов, которые должен говорить мужчина, если он любит. Но я молчал, я боялся произнести вслух то, что мы оба чувствовали и понимали. И тогда она вдруг отошла от меня, сделала какое-то странное движение, подняла руки и исчезла в высокой траве.
Я увидел её внизу, она бежала раскинув руки, будто планер, что идёт на посадку. Я был напуган и взволнован, зачем она это сделала? Она хотела доказать мне что-то? Я долго не мог двинуться с места, какое-то тупое упрямство держало меня. Я думал тогда: «Нет, я не побегу за тобой, сама прибежишь!» Я стоял долго на берегу и ждал, когда она вволю набегается у реки и вернётся ко мне. Стемнело, но она и не думала возвращаться, и тогда я понял, что потерял её. Она звала меня в свой мир, свободный и живой, а я остался в своём…
* * *«Опасно рыться в своём архиве», – подумал Павел Иванович и закрыл глаза. Память порой совершает перемещение во времени, и тогда прошлое ты видишь так явственно, будто это и есть реальность… Женщина, написавшее это письмо, давно ушла из его жизни, а затем уехала в другую страну. Она была занята своим мужем, растила второго сына…
Однажды он позволил себе прогуляться по центру, и зашёл в книжный магазин, и увидел тонкую книжечку прозы, с обложки на него смотрело её лицо. Тогда он с волнением прочитал своего рода послание к нему, будто она писала свои повести и рассказы только для него.
«Уж лучше бы она была обыкновенной женщиной», – подумал Павел Иванович с досадой, но она всегда была слишком талантлива, и этого он не мог ей простить. Она умела быть счастливой без него, и это поражало его и бесило одновременно.
«Кстати, где-то должна быть её книжка», – подумал он и как по наитию протянул руку к нераспакованной коробке. Он нашёл книжку удивительно быстро и раскрыл на первой попавшейся странице: «…Вы были неизменно и торжественно спокойны, вы жали мою руку на прощанье, а я уходила так, будто меня за дверью ждёт заморский принц. На самом деле я шла в свою одинокую комнату, где меня мог утешить только старый рояль да упрямая вера в себя…»
И он опять вспомнил, как однажды она позвала его на свой первый литературный вечер в маленьком клубе. Пожалуй, она мало изменилась внешне, разве что в глазах появилось нечто экзистенциальное, что могло означать: «Всё это волшебство жизни когда-нибудь кончится…» Он так и не подошёл к ней в конце вечера, потому что понял, что она не одна – большой шумный бородач всё время был рядом с ней, и маленький кудрявый мальчик забегал на сцену, а потом пел смешную песенку на её стихи. Он почувствовал себя здесь чужим, лишним, чудовищно устаревшим. Публика казалась ему странной, раскованной и даже бесстыдной. Их вопросы были слишком откровенны, а она умудрялась отвечать непринуждённо, с убийственной иронией.
Впервые за многие годы он усомнился в доктринах, которые проповедовал, его «цветочки» были бесцветны и худосочны, а у неё под руками вырастал чудесный сад! Будто он корпел в грубом материальном, скорее бездуховном мире… То, что для неё было причиной духовного расцвета, для него было каторгой…
Нет, думать об этом он не мог. Голова разламывалась как от пытки. Павел Иванович поднялся, походил по своему огромному кабинету, подошёл к шкафам, где стояли книги, которые издавались миллионными тиражами и казались надёжными как библейские заповеди, а рядом на отдельной полке стояла пачка тонких брошюр и толстая монография со сложным названием – его докторская диссертация.
Он шёл по пустым лестницам здания, и ему казалось, что он идёт на Голгофу, а вместо креста тащит стопки журнала, на который в принудительном порядке подписывались миллионы членов партии, и эта толпа надвигается на него, машет кулаками перед его потным растерянным лицом…
Где-то между третьим и вторым этажом он на какое-то мгновение был готов уйти из этого здания навсегда и задал себе вопрос: «А что если начать новую жизнь? У меня хорошая профессия – учитель. Вернуться в родной город на Волге и преподавать литературу. Быть близко к людям, а не читать выживших из ума маразматиков… Нормальные люди не пишут писем в ЕГО журнал, потому что они НИКОГДА его не читают…»
Он по инерции вошёл в спецбуфет, где Танечка бросилась обслуживать главного редактора.
– Принесите 50 граммов водки, – сказал он устало. И Танечка подобострастно вынесла кофейную чашечку с «неправильным» содержимым, понимающе улыбнулась.
«От кого угодно ждала эту просьбу, но не от него, тем более почётно, значит, всё-таки мужик, не совсем обюрократился со своими бумажками», – подумала она. И тут же на красивой тарелочке оказался бутербродик с икрой и осетриной.
Павел Иванович вздохнул, выпил холодный «кофе» и закусил… Нет, он не решится изменить свою жизнь. Потеряв её, он раз и навсегда потерял возможность обрести самого себя.
Водка приятно обожгла внутренности, Танечка заискивающе улыбнулась, рассчитывая на хорошие чаевые, он стыдливо сунул ей красненькую…
Павел Иванович вернулся в свой кабинет, взял папку с письмами, вынул их из скоросшивателя и сунул в разрезатель бумаги. Тонкие полоски посыпались в корзину…
Москва, 1986 г.Случай на дороге
В общежитии тускло засветились окна. Серёжа скинул одеяло, но продолжал лежать на кровати, чувствуя упругость панцирной сетки, покачался и грузно сел. В позвоночнике что-то хрустнуло, и боль жадно обхватила его и понеслась снизу вверх. Кровать ещё колыхалась под ним, и инерция движения удесятеряла боль.
«Что это со мной? – подумал Серёжа и вспомнил драку в подъезде. – И чего мы не поделили? Опять эта баба задурила голову, зачем только я ввязался?»
Прояснился вчерашний день, а руки и ноги машинально натягивали одежду – на умывание времени уже не было. Серёжа передёрнул плечами, стряхивая оцепенение неудобной позы в узкой и не по росту короткой постели, встал, глубоко вздохнул и потянулся по-кошачьи гибко. Боль прошла. «И когда эти чёртовы кровати поменяют? Уж лучше на досках, чем в этой люльке, ведь не дети в общежитии живут, а мы как в детском саду. Кости ломит каждое утро», – подумал он с раздражением.
Серёжа жил в Москве третий год, работал по лимиту, возил кирпичи на стройку. Первый год работал с удовольствием, всё надеялся скопить деньги и уехать к Инге – бывшей невесте. Но деньги не скопил – обступили со всех сторон дружки, выпивка каждый день по поводу и без повода и готовые на всё «лимитчицы», которые начинали раздеваться прямо в подъезде и лезли на любого мужика как грязные мухи. А тут Инга прислала письмо – вышла замуж, не дождалась. (Он за два года ни одного письма ей не написал – очень занят был попойками и случайными бабами).
Серёга помрачнел и потерял стройный порядок жизни. Он-то думал, что Инга будет ждать и год, и два, а может и десять лет – на то она и баба! Теперь он не знал, для чего он втиснулся в этот чужой большой город, где никто никому не нужен. И каждое утро выходил из общаги в пять утра, сердито насупясь, ехал на автобазу, заправлял грузовик и нёсся на объект. Он равнодушно и уныло смотрел на людей вокруг, а молодые женщины вызывали в нём отвращение и ненависть: «Каждая своего мужика предаёт, у-у-у, суки подколодные», – думал он и мрачнел ещё больше.
Сегодняшнее утро казалось особенно лживым и несносным. Голова разламывалась после вчерашней выпивки, а каждый шаг отдавался в позвоночнике. Идти к врачу, просиживать в коридоре в очереди и выпрашивать освобождение от работы было унизительно, и Серёга, превозмогая боль, таскался на кухню в дальнем конце коридора, разогревал воду, делал себе чай, жевал вчерашние бутерброды и, тихо матерясь под нос, наконец, вышел на улицу.
Стоя у окошечка автобазы, Серёга приготовился побраниться для порядка с Ниной, толстой безобразной табельщицей с вечной сигаретой в зубах и томной улыбкой для каждого. Но ругаться ему не пришлось, Нина была в расстроенных чувствах и придираться и заигрывать с ним не стала, а лишь прижимала платок к заплаканным глазам – правая сторона лица была сине-лилового цвета, видно, не повезло с очередным ухажёром…
День предстоял нетрудный – стройка, куда его направили, была недалеко от базы, и Серёга, довольный, сложил наряд вчетверо, сунул бумажку в верхний карман спецовки, а потом долго возился с молнией болгарской куртки, прошептав сквозь зубы фразу, где первое слово было «у», и взялся за ручку дверцы своего «МАЗа». Можно было не спешить, и он посидел, посмотрел на себя в маленькое зеркальце в кабине и подумал, что сегодня отработает, а завтра отправится в отдел кадров – увольняться. «Хватит с него, чего он не видел в этом городе, хоть и столица, где нет у него ни одного нормального друга, и где он сам ни для кого не представляет никакого интереса – будто соломинка в стогу сена, а поедет он к матери, та уже давно зовёт. И будет он жить в маленьком городке на Волге в своём доме и на своей улице, и поговорка: «Первый парень на деревне, а последний в городе» уже не смешила, а ухала тяжёлой обидой в висках.
Серёга включил зажигание, прислушался к звуку работающего мотора, вспомнил, что под телогрейкой за сидением спрятал приёмник «Сельга», покрутил настройку, поймал голос Ротару и, если бы не боль в спине, почувствовал бы себя уютно и спокойно, как человек, который принял волевое решение и предвкушает новую жизнь. Но внутренний голос нашёптывал ему: «Нет, никогда ты уже не будешь счастлив, твоя жизнь разломана, а всё из-за них, этих проклятых баб». И в который раз он задавал себе вопрос: «Ну почему, почему его бросила Инга?» Ведь он знал, что парень он видный, даже красивый – природа не обидела ни фигурой, ни силой. Вот только новые знакомства всегда давались с трудом, характер был замкнутый и угрюмый.
Кабина машины никак не прогревалась. Серёгу знобило то ли от холода, то ли от злости. Наконец он завернул на московскую кольцевую дорогу и почувствовал себя на свободе от городской толчеи. Выключил приёмник и запел сам что-то знакомое с детства и нажал на газ…
* * *Ирину разбудил плач сына. Она выскользнула из-под одеяла и, не чувствуя холода, бросилась к кроватке. Сын ещё не проснулся, а только всхлипнул во сне. Старший сын и муж ушли на работу и в школу, и в квартире была тишина. Ирина вернулась в тёплую постель, легла на спину, вытянулась, почувствовала, как напрягся упругий живот. Сделала несколько упражнений для пресса, легко пружинисто поднялась, как уже давно не удавалось, вышла из спальни и услышала, как на электрической плите шипит чайник, который она машинально включила.
В юности Ирина могла стать спортивной звездой, с девяти лет занималась гимнастикой, а в тринадцать получила первый приз на больших соревнованиях. Но родители переехали из Ленинграда в Москву и занятия прекратились. Но от спорта осталось ощущение собранности, воля и радость движения. Никогда не позволяла себе Ирина ленивое ничегонеделание, её организм требовал работы или действия. В разные периоды жизни эта энергия могла превращаться в настоящую страсть к познанию, когда она с таким же бешеным упорством изучала философию в университете, как когда-то набрасывалась на спортивные снаряды – особенно любила брусья. А к телу своему она относилась как вместилищу этой энергии и ценила в себе не красоту, а некую неведомую силу, которая управляла звонкой радостью жизни, наполняла смыслом каждый прожитый день.
В 18 лет вышла замуж, носила своего первого сына и никогда не распускалась, как подурневшие беременные женщины, ходила на лекции до последнего дня, смеялась и шутила со своей закадычной подругой Наташкой, как и прежде до своего неудачного замужества, от которого любая другая сделалась бы на всю жизнь мужененавистницей. Ирина и здесь нашла оправдание своему глупому выбору – ведь не виноват же ураган, что убивает людей, так же и иной мужчина для женщины как внезапная буря, что и крышу снесёт, и дом разрушит…
Да, с первой романтической любовью вышла ошибка, провинциальный актёр рвался в столицу, а во времена социализма это было непросто, вот тут ему и подвернулась влюблённая в театр Ирина (её родители из дома не выпускали ни на шаг, старомодная невинная дура – вот кто она была). Да только брак по расчёту нашему лицедею счастья не принёс – Ирина возненавидела своего горе-мужа так яростно, что жизнь его превратилась в ад: хоть и вступил он на подмостки московского театра, но не смог преодолеть унижений крошечной зарплаты – актёра на выходах, которого и в труппу не берут, а только заманивают лестными предложениями, а на поверку отодвигают в сторону при каждом удобном случае…
Сразу после свадьбы «законный» муж продемонстрировал Ирине свой ницшеанский характер – к женщине только с грубым насилием, т. е. с хлыстом – если до свадьбы были цветы и поцелуи рук, то уж после получения печати в паспорте имел место нрав домостроевский – контраст был ужасающий… Однако и здесь Ирина скоро утешилась, ибо, как сказал великий американский писатель Воннегуд, если тебя кто-то для чего-то использует, то это не так уж и плохо, а сколько живёт на свете одиноких людей, которых даже обмануть никто не удосужится – до того всем на них наплевать!
Вот ведь какой непрошибаемый оптимизм был воспитан в Ирине: это и замечательная советская школа, в которой внушали детям, что они самые счастливые, это и хорошая наследственность от энергичной весёлой матери, и там, где могло понадобиться длительное лечение у психоаналитика, Ирина обошлась скромными родами в клинике на проспекте Калинина, где в то время работали добрые и заботливые нянечки и акушерки, и нашла в себе силы возрадоваться тому, что родила здорового мальчика и стала молодой мамой в 19 лет.
Однако утро – не время для воспоминаний, надо бежать на кухню и варить кашу своему второму сыну от любимого мужа. После двух лет бессонных ночей (мама ни разу не приехала и не помогла), после затянувшегося одиночества (целый день одна без телефона на краю Москвы), друзей калачом не заманишь в гости. Одна радость – прогулка в лесу с коляской; Ирина вдруг почувствовала себя как прежде, будто молодость вернула ей порцию беспричинной радости. И вспомнила любимую игру из йоги – контроль дыхания: верхнее, среднее, нижнее… Можно и на голове постоять, если получится. В своём первом интервью Ирина как-то сказала, что лучшие годы её жизни – это пять лет одиночества между первым и вторым браком, вот тогда было время и на чтение, и на друзей, и на рассказы, и на музыку, и на философию, и на занятия йогой – и относительная свобода для творчества. А теперь надо мешать ложкой манную кашу, и подтягивать живот, контролировать дыхание, и радоваться тому, что вторые роды не испортили фигуру, и что прыти ещё хватит на многое…
«А ведь пора приниматься за статью, а то горком литераторов выкинет меня из своего подвала. Ох, уж эти гонорары и внештатная работа в журналах и газетах». Однако присела за письменный стол, даже не веря ушам, что до сих пор тихо, полистала заметки и черновики, подумала: в сущности, материнство – настоящая домашняя тюрьма. Муж приезжает с работы поздно вечером усталый и злой, у нас даже машины нет, трясётся на двух автобусах, потом толпа в метро. Тут уже не до любви и разговоров на отвлечённые темы: поели и спать. С сыном некогда поговорить, поиграть: то ужин, то стирка, то уборка – какое уж тут воспитание! Хорошо, хоть старший сын любит играть с маленьким братом – возятся на ковре как щенки, бутузят друг друга, а Ирине маленькая передышка – откроет книгу и прочтёт две страницы, вот тебе и интеллектуальная жизнь.
И всё-таки долгий одинокий день не пугает Ирину, она привыкла к одиночеству ещё в первой юности, когда с большим трудом избавилась от гордого несчастного честолюбца артиста-мужа. Тогда её спасал старенький рояль «Шрёдер», подарок старушек-бесстужевок, что подружились с ней в музее А. С. Пушкина, где Ирина работала лаборантом, а делала работу двух научных сотрудников за 62 рубля 50 копеек. Как она жила на эту зарплату с маленьких сыном, она уже и не помнит, но жила и сохранила молодую резвость из-за правильного питания: фрукты, орехи, соки…
«Вот бы успеть кофейку попить спокойно, без капризов ребёнка», – подумала Ирина и быстро наполнила маленькую джазву мелкомолотым кофе «Арабика», который всегда покупала только в Елисеевском магазине на улице Горького. Она успела, даже открыла томик стихов Рильке, что недавно привёз муж из командировки, и смаковала кофе глоток за глотком, и слова, что переносили её в далекое время, давали ощущение другой жизни. Пять минут тишины показались блаженной вечностью, и, как будто выдержав хорошую паузу в спектакле, сын позвал спокойно и весело: «Мама! Я не сплю!»
«Господи, не утро, а праздник», – подумала Ирина и принялась нежно тормошить сына. Вот ведь и не только заботы, но и радость – видеть такое прелестное маленькое существо, что-то вроде первобытной радости бытия – ведь и в пещере, наверно, самка умилялась своему детёнышу.
Ирина держала сына на коленях и кормила с ложки. Он требовал сказку, а слова никак не складывались, приходилось задумываться и подолгу твердить про лягушку, которая куда-то скачет.
«Такое счастливое тихое утро», – снова подумала Ирина, но почему-то сжалось сердце и подступили слёзы. Мозг требовал работы, душа требовала впечатлений, тело устало от бесконечной монотонной домашней работы без начала и конца. Конечно, у этих дел был результат – её семья, два сына, но жизнь как будто обрубила её со всех сторон, и она чувствовала себя искорёженной калекой без рук и ног, что без конца пытается преодолеть какую-то свою маленькую вершинку, но откатывается назад как Сизиф со своим камнем. Наконец сын, довольный завтраком, сполз с колен и, почувствовав освобождение от материнских рук, убежал в свою комнату к игрушкам. Как ни старалась Ирина продлить состояние лёгкой бодрости, навалилась тоска. Заглянула в холодильник – вот и занятие, надо идти в магазин. Долго одевала сына, сама оделась за минуту. Старые джинсы, пальто, огромная матерчатая торба через плечо. «Выхожу на улицу, будто старьёвщик», – подумала Ирина и поняла, что уже давно не заботится о том, как выглядит, и уж тем более – не испытывает ни малейшего желания кому-нибудь понравиться.
В стеклянном аквариуме магазина привычно снуют люди. Ирина обошла все очереди, не стояла ни в одной, ловко и быстро набрала в металлическую корзинку то, к чему никто не рвался, но и от этого сумка наполнилась доверху. Привычным жестом закинула лямку на плечи и прикинула про себя – килограммов 7—8.
Выйдя из магазина, Ирина никак не могла справиться с сыном, он вырывался, кричал, требовал свободы и норовил выбежать на проезжую часть под колёса машин. Кругом шла стройка, не было ни асфальтированных дорожек, ни скверов. Ирина пыталась объяснить сыну, что сначала надо донести продукты домой, а уж потом налегке идти на прогулку. Ей пришлось присесть на корточки, чтобы быть ближе к лицу ребёнка, она обхватила его двумя руками и, показав на проносившиеся машины, долго объясняла, как надо их бояться. Но сама вдруг подумала, что это самый лёгкий способ покончить с тоской, избавиться от забот и от сумки, которая оттянула плечо…
* * *Серёжа нёсся налегке за новой порцией кирпича, но спешил он вовсе не на склад, он мечтал до перерыва заскочить в магазин, купить пива и полежать на травке на весеннем солнышке. Крутой подъём раздражал его. На расстоянии ста метров маячила фигура женщины с ребёнком за руку и огромной сумкой на плече. Он словно нёсся на эту спину, и злорадная мысль пришла ему в голову: вот так и его Инга где-нибудь шагает с ребёнком, тащит домой продукты и варит обед… В этот миг он ненавидел всех женщин и ему хотелось что-то сделать со своей злобой, будто это могло избавить его от муки просыпаться и засыпать с именем Инга, посылая ей всевозможные проклятия. Ненависть нарастала в нём как волна, он уже не помнил себя, жал на газ изо всех сил, и думал лишь напугать сумасшедшую мать, которая шла по краю шоссе, не думая об опасности.
Ирина вовсе не испугалась грохота несущегося сзади грузовика, она что-то отвечала сыну, доверчиво полагаясь на водительский глаз, она даже не оглянулась, когда почувствовала удар в спину, и, теряя равновесие, падая вперёд на прямых ногах, она лишь успела с силой оттолкнуть от себя сына подальше от дороги. Он шарахнулся от падающей матери, застыл с открытым от ужаса ртом и видел, как брызнуло молоко из сумки и полилось на пальто и на землю, но он ещё не знал, с какой радостью и облегчением приняла эту боль его мать, что уткнулась носом в молодую, едва пробившуюся в глине траву.

