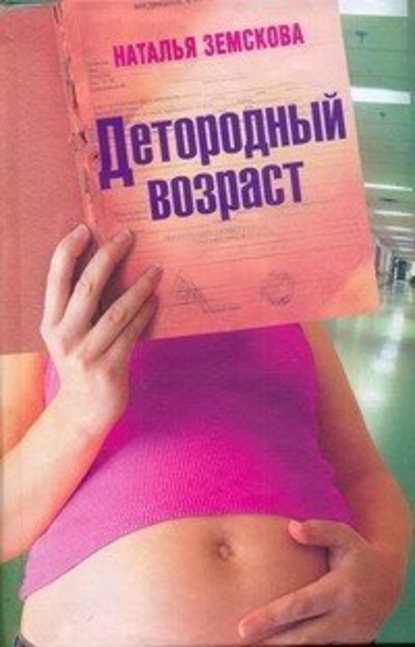По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Детородный возраст
Автор
Серия
Год написания книги
2010
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Как же, само собой… Как же…
Мне всё кажется, я должна до чего-то додуматься, что-то понять, и тогда станет легче. Но додуматься не получается, и я, как улитка, переползаю из одного сегмента дня в другой, из одного в другой, пытаясь радоваться хотя бы этому.
Иногда пытаюсь читать. Алеша принес «Курсив мой» Берберовой. Читаный-перечитаный, любимый «Курсив мой». Если постараться, можно даже найти параллели с моей ситуацией. Они там, в эмиграции, выживали, и я выживаю. У них неизвестность, и у меня неизвестность. На этом, впрочем, сходство заканчивается. Мои зрачки обращены внутрь, их – вовне. Их волновала исключительно жизнь духа, а все мои мысли – о плоти. Я сосредоточена на частном, они – на целом: «Когда Набоков написал „Дар“, а потом „Защиту Лужина“, я поняла – всё наше поколение оправдано…» Всё потерять, ютиться на чердаке, иметь одну смену постельного белья и думать о себе как о части «литературного целого»! Иногда мне удается погрузиться в их время настолько, что я почти забываю о своем. А еще я думаю о том – эта мерка сейчас у меня обязательна буквально для всех, – что у Берберовой не было и, должно быть, не могло быть детей, и, как я подозреваю, это ее ничуть не угнетало: она была сосредоточена на самопознании, соотношении времени и себя, на исследовании жизни. Надо будет перечитать потом, в нормальном состоянии.
Дежурная сестра позвала в смотровую. Это нужно пройти целый коридор – метров тридцать, повернуть налево и еще метров десять. Жуть. Просить каталку неудобно, да и Реутова настаивает, чтобы я понемногу ходила. Да буду, буду я ходить. Вот долежу до тридцати двух недель, тогда и буду. А сейчас – не могу, не могу…
Хуже всего, что я и сидеть не могу. Если выбирать между ходить и сидеть, то лучше ходить. Как только сажусь, матка сразу собирается в комок, и нужно скорее ложиться, класть руки на живот, чтобы ее унять. Ем я обычно стоя, очень быстро, затем ложусь и лежа пью чай.
А еще совсем не могу лежать на жестком, поэтому все обследования, которые проводят на кушетке, для меня мука мученическая. Вчера делали УЗИ – из-за жесткой кушетки начались сокращения, пришлось всё бросать и возвращаться в палату. Слава богу, в отделении одни панцирные кровати, а вот что я буду делать дома, если меня все-таки выставят… Как же, выставят, да и не хочу я домой, дома страшнее, чем здесь.
Кое-как, с остановками, добрела до смотровой. Реутова посмотрела на кресле и опять сказала, что шансы в общем есть. Ага, «больной, надейтесь». Пока остаюсь здесь, но видно, что она озадачена. Когда одевалась, невольно слышала их разговор с Толстобровым.
– Коля, я с Гончаровой не справляюсь. Уж было подумала о выписке, а позавчера – на тебе, всё хуже, чем при поступлении. Что капаем, что нет… Просто не знаю, что делать.
– Да чего там знать. Ну нервная она, всё время дергается, вот импульс и идет. Голову надо отключить. А всё остальное нормально. У меня жена такая… Да и возраст уже, согласись? Пусть лежит – может, вылежит.
– Тридцать девять – не так и много. Помнишь, в том году Чекалина в сорок пять первого рожала, и ничего. Домой еще на выходные бегала. А эта даже сидеть не может. Да у нее до родов все мышцы атрофируются, как она рожать-то будет при таком тотальном лежании?
– Прокесарят. Твое дело сохранить. Вот и сохраняй. Букетик у тебя, конечно. Гончарова, Симакова, Горохова, Мироненко…
– Старцева с пролапсом третьей степени да еще с аритмией…
– Ну вот, а ты прицепилась к Гончаровой. Ты не Господь Бог и даже не Михаил-архангел, угомонись. Пошли вон кофе пить. И знаешь, чем дольше я работаю, тем больше мне кажется, что мы здесь не очень-то и нужны.
– То есть как это?
– Ну, давление, почки, сердце – это ведь всё на внешнем плане. Подозреваю, что существуют некие глубинные причины того, что беременность прерывается или оказывается под угрозой. Их бы научиться устранять! Гинепралом здесь не поможешь. Мой руки, я пирожки принес.
Домой хотела выписать. Нельзя меня домой. Не поеду. Буду лежать. Наверное, я ненормальная. Все хотят домой, отпрашиваются, убегают, просят дневной стационар. Только я хочу одного-единственного – чтобы мне позволили лежать вот здесь, у этого окна, и, по возможности, не вставать совсем. Про дом я не помню – был ли он, не был… Забыла про жизнь и про дом. Главное – пролежать один час, затем другой, третий, четвертый. Как это ни странно, но мне нужна полная сосредоточенность. Пока я сосредоточенна, ничего плохого случиться не может.
Когда ползла по коридору, глянула на себя в зеркало – душераздирающее зрелище. Тетка без возраста в розовой пижаме. И волосы надо было красить еще два месяца назад.
* * *
– Маш, Маш, эта скотина… Он появился и сказал… Маша… – Вика Горохова трясет меня за плечо, и мне приходится расстаться со сном, в котором я уезжаю автобусом на какую-то экскурсию, заняла место маме и жду, а ее всё нет и нет, автобус, в конце концов, отъезжает, а я кричу и умоляю подождать. Ладно, со сном определюсь позже – девчонка вся в слезах. Обычно со снами я разбираюсь на месте, то есть тут же их анализирую и, если мне что-то не нравится, приделываю счастливый финал, как учат парапсихологические книжки в мягкой обложке. Но сейчас не до этого.
– Маш, Маш, он не хочет ребенка! – Вика рыдает взахлеб.
– Кто, Вика, кто? – Нет, от нее сейчас ничего не добиться. – Зоя, что случилось-то, скажите толком. Ее же выписывать собирались?
– Да теперь уж лучше пусть еще подержат. Нарисовался пропащий Степан, увидел живот и, ясное дело, упал в обморок. Готов заплатить, лишь бы она избавилась от ребенка. Понятно, у него семья, дети, по выходным диван и пиво. Видела бы ты его… К Реутовой хотел бежать, перепугался насмерть. Ну, пусть, пусть сходит. А лучше к Толстоброву – он вчера какого-то дяденьку с лестницы спускал на эту тему. Но там вроде муж был – орал, что не нужен второй ребенок.
– Забудь, Вика, не стоит он того. Во-первых, ну восемь же месяцев! А во-вторых, ты ведь для себя ребенка оставляла? И, в-третьих, зачем тебе такой мужик? Пусть жена с ним и возится, бедняга. Да слава богу, что он вот так, по-честному. А то бы еще пять лет ждала.
– Вот-вот, – поддержала Зоя. – Я тоже подумала: такие мужики всё время ни да ни нет – никакой ясности, молчат и блеют. И жене у них «да», и любовнице «да», а там – как вывезет. А этот ведь пришел и выразил свою позицию – и на том спасибо. Короче, не реви.
– Я думала, что он придет и…
– Обрадуется. Да, сейчас…
– Ну, может, не обрадуется, а задумается, что ли. Моя знакомая вот так же встречалась с парнем, а он исчез. Она хотела сделать аборт, а мать отговорила: мол, вырастим и всё такое. А потом, когда мальчику был год, он увидел его – и всё: сыночек, сыночек, не мог оторваться. Женились, девочку еще родили.
– Так он был холостой, Викуся! – всплеснула руками Зоя. – А у твоего комплект: жена, любовница. А когда любовница грозит превратиться во вторую жену и, значит, в проблему в квадрате, то кто же этого захочет? И я бы не захотела. Ну, представь, у меня дома муж и дети – и еще бы на стороне муж и дети. Не-е. Ни за что.
– Вика, мы с Зоей – взрослые тетеньки, послушай нас, пожалуйста. Плюнь, забудь, ставь чай и выбрось из головы.
Вика перестала рыдать:
– И за что мне всё это? Вам хорошо рассуждать, у вас мужья, квартиры, работы.
– Мужья, говоришь… – Громкая Зоя, которая после консилиума убавила свою громкость раза в три, достала из пакета вымытый виноград, груши, какие-то печенья, поставила всё это перед Викой и села напротив, нависая как скала: – Мужья, говоришь… Когда мне было двадцать три, я похоронила человека, который должен был стать моим мужем. То есть я бы похоронила его по-человечески, но он пропал без вести, понимаешь? Жил, жил и пропал. Мы даже не простились.
– А что, тогда война была?
– Нет, не было войны. Уехал к маме в Таганрог на каникулы, куда-то вечером пошли с друзьями – и всё… Если бы мы заканчивали институт вместе, этого бы, я уверена, не случилось, но я получила диплом на год раньше и уехала по распределению в Гаврилов Ям, это в Ярославской губернии. Мы встречались каждый месяц: то я приезжала, то он. И ждали, писали письма. Эти письма до сих пор у меня на антресолях хранятся – роман сочинить можно. Он, Саша, очень хорошо писал… Сначала долго почты не было, а я посреди учебного года уехать никуда не могу. Измучилась, извелась вся – думала, бросил. Дождалась весенних каникул, рванула в Питер, а там никто ничего не знает. Ребята дали таганрогский телефон родителей, позвонила, а мама его спрашивает: «Зоинька, вы не беременны? Нет? Как жаль, у нас хоть внучек бы остался». И так это было ужасно, нелепо и глупо, что я тогда просто жить не хотела. Не то чтобы покончить с собой, а просто – не быть, уснуть и не проснуться. И так трудно и мерзко было вставать ранним утром в этом Яму – они там так говорили: в Яму, – что все мои силы уходили на это. А нужно идти на уроки, улыбаться – в общем, жить. Поселок маленький: школа-интернат для глухих детей, где я работала, да несколько домов. Мы прямо в школе и жили. Первый раз в моей жизни оказалось, что я сама себе не нужна: как будто потерялась. И всё будто бы пропиталось моим несчастьем – и стены, и воздух, и лес, так что, когда закончились три года, которые было положено отработать, я сразу же оттуда сбежала. В Донецк. Забыла сказать: я сама из Баку, родители русские, их в тридцатые годы туда вывезли из голодающего Поволжья, там и остались. Баку – город хороший, но, кто жил в республике, знает, что русский там – человек второго сорта… Ну вот, а в Донецке мамин дядя, милицейский чин: приезжай да приезжай… Приехала. Сурдопедагоги, как выяснилось, там нужны так же, как ледокол «Ленин», пришлось идти в милицию, в инспекцию по делам несовершеннолетних. В основном занимались лишением родительских прав. Дети запущенные, мамаши пьяные, в лохмотьях, ты ходишь с утра до вечера по этим трущобам, а жизнь проходит. Образовался, правда, у меня поклонник, Мыкола, старший лейтенант. Сам чуть повыше собаки, женат. Я и так и сяк, мол, отвяжись, ты, Коля, по-хорошему, – нет, не отвязывается, проходу не дает, и всё. Пришлось звонить жене: угомоните, говорю, супруга. Утром приходит – под глазом фингал и щека расцарапана. И такой меня смех разобрал: хохочу и хохочу, остановиться не могу, водой отпаивали. Мыкола не простил мне этого фингала и настучал полковнику, будто я какую-то алкоголичку лишила прав, детей отправила в детдом и собираюсь въехать в их квартиру. Пара таких диких случаев тогда действительно произошла. Мыколе то ли поверили, то ли нет, но холодок за спиной я почувствовала. Но дело было даже не в этом. После Сашиной смерти образовалась такая пустота, вот будто ты в пустыне, и никого вокруг на тридцать километров… Особенно она ощущалась в выходные, которые куда-то нужно было девать, а девать было некуда. Пойдешь куда-нибудь, а ноги не идут, нет смысла в движении, так и села бы посреди улицы. Но я Мыколе благодарна: если бы не он, сидеть бы мне в этом Донецке, городе роз, и сидеть. А так я – раз! – и написала заявление. Не отпускают. А у меня подруга жила в Перми, уехала за мужем по распределению, томилась, скучала и звала. А в последнем письме она на десяти страницах настрочила, что, по ее предчувствию, а «оно ее никогда не обманывает», меня там ждет судьба. И вот я стою в кабинете начальника и говорю: «Отпустите. Я замуж выхожу. За инженера-нефтяника. Из Перми».
– А чего, у тебя, что ли, жених в Перми был?
– Да какой жених, Вика? Соврала и глазом не моргнула. Как-то само собой вылетело. Уехала в два дня…
Зоя сделала паузу, пощипала свой виноград, пригладила волосы, насторожилась:
– А вы чего так смотрите?
– Мы слушаем…
– А интересно?
– Очень!
Зоя рассмеялась, походила по палате, наслаждаясь чуткой тишиной, и продолжала:
– Приехала в эту Пермь. Не шедевр, конечно, но в принципе город понравился – и город, и люди. Выделила мне подруга комнату, ну и, естественно, жизнь не сложилась: сидела с их ребенком, была чем-то между нянькой и бедной родственницей. Провела так месяца три, и атмосфера накалилась до того, что перед Новым годом мы поссорились, мне пришлось уйти фактически на улицу. От детского сада, куда я устроилась, дали место в общежитии, перетащила туда свои пожитки, а комната – без слез не взглянешь: кровати, тумбочки облезлые. На четверых. Как добралась до лета, девочки, не помню. Сплошное серое пятно. Соседки мои работали на заводе, – как они говорили, в заводе, – такие же, как и я, старые девы. Всем вокруг к тридцати. Это сейчас замуж никто особенно не торопится, а тогда до двадцати пяти не вышла – всё, привет… И вот в субботу кто-то говорит: «Так, надоело – идем в ресторан». Ну, идем так идем. Пришли в «Центральный» – он до двенадцати работал, – а там одни мужики сидят, и рядом с нами целая компания. А когда заведение закрывалось, мы вышли вместе, и ко мне прицепился какой-то… ну совершенно пьяный. Я на шпильках еле ноги передвигаю, да еще он повис и висит. И все отправились на Каму. По ходу пьесы выяснилось, что он, этот «перепимший», праздновал в ресторане свое тридцатилетие, все остальные – его гости. Вроде где-то он долго работал и вернулся в город буквально на днях. Подруги с кавалерами ушли куда-то вперед, мы плетемся, и я ему говорю: «Слушай, ведь тебе домой надо, жена, наверное, ждет. А ты не торопишься». «Я не женат», – говорит и достает паспорт, показывает.
– А что, Зой, он тебе совсем не понравился, да? – Вика забыла и про виноград, и про свою беду.
– Да ты понимаешь, он на ногах не стоял, я особо и не смотрела. Вижу, взрослый мужик – значит, женатый… Я, когда мы гуляли, даже присела и покурила: не жених ведь, чего стесняться. Мы тогда стеснялись на людях курить, если и покуривали, то втихаря… Потом он позвонил, позвал меня в театр, потом… В общем, роман закрутился и быстро закончился свадьбой. Самое интересное! Знаете, кем он оказался? Инженером-нефтяником – семь лет сидел на буровой.
Зоя насладилась немой сценой, немного помолчала, вздохнула:
– Да, вот так. И мне всё казалось, что это справедливо, ну, то, что мы встретились, и всё так хорошо, что я это заслужила своими несчастьями. И только сейчас понимаю, что мы могли бы и не встретиться: ведь ни до, ни после того я в рестораны не ходила. А если бы не смерть Саши, не мое отчаяние и метание по городам, может быть, я и не оценила бы нашу встречу и уж точно не относилась бы к ней так бережно, как отношусь сейчас.
– И сколько вы там жили, в Перми?
– Пять лет. А потом ему предложили работу в Сестрорецке, и мы уехали.
– Постой-постой, так у вас же дочке девятнадцать, как это может быть, если вы встретились в тридцать?
Мне всё кажется, я должна до чего-то додуматься, что-то понять, и тогда станет легче. Но додуматься не получается, и я, как улитка, переползаю из одного сегмента дня в другой, из одного в другой, пытаясь радоваться хотя бы этому.
Иногда пытаюсь читать. Алеша принес «Курсив мой» Берберовой. Читаный-перечитаный, любимый «Курсив мой». Если постараться, можно даже найти параллели с моей ситуацией. Они там, в эмиграции, выживали, и я выживаю. У них неизвестность, и у меня неизвестность. На этом, впрочем, сходство заканчивается. Мои зрачки обращены внутрь, их – вовне. Их волновала исключительно жизнь духа, а все мои мысли – о плоти. Я сосредоточена на частном, они – на целом: «Когда Набоков написал „Дар“, а потом „Защиту Лужина“, я поняла – всё наше поколение оправдано…» Всё потерять, ютиться на чердаке, иметь одну смену постельного белья и думать о себе как о части «литературного целого»! Иногда мне удается погрузиться в их время настолько, что я почти забываю о своем. А еще я думаю о том – эта мерка сейчас у меня обязательна буквально для всех, – что у Берберовой не было и, должно быть, не могло быть детей, и, как я подозреваю, это ее ничуть не угнетало: она была сосредоточена на самопознании, соотношении времени и себя, на исследовании жизни. Надо будет перечитать потом, в нормальном состоянии.
Дежурная сестра позвала в смотровую. Это нужно пройти целый коридор – метров тридцать, повернуть налево и еще метров десять. Жуть. Просить каталку неудобно, да и Реутова настаивает, чтобы я понемногу ходила. Да буду, буду я ходить. Вот долежу до тридцати двух недель, тогда и буду. А сейчас – не могу, не могу…
Хуже всего, что я и сидеть не могу. Если выбирать между ходить и сидеть, то лучше ходить. Как только сажусь, матка сразу собирается в комок, и нужно скорее ложиться, класть руки на живот, чтобы ее унять. Ем я обычно стоя, очень быстро, затем ложусь и лежа пью чай.
А еще совсем не могу лежать на жестком, поэтому все обследования, которые проводят на кушетке, для меня мука мученическая. Вчера делали УЗИ – из-за жесткой кушетки начались сокращения, пришлось всё бросать и возвращаться в палату. Слава богу, в отделении одни панцирные кровати, а вот что я буду делать дома, если меня все-таки выставят… Как же, выставят, да и не хочу я домой, дома страшнее, чем здесь.
Кое-как, с остановками, добрела до смотровой. Реутова посмотрела на кресле и опять сказала, что шансы в общем есть. Ага, «больной, надейтесь». Пока остаюсь здесь, но видно, что она озадачена. Когда одевалась, невольно слышала их разговор с Толстобровым.
– Коля, я с Гончаровой не справляюсь. Уж было подумала о выписке, а позавчера – на тебе, всё хуже, чем при поступлении. Что капаем, что нет… Просто не знаю, что делать.
– Да чего там знать. Ну нервная она, всё время дергается, вот импульс и идет. Голову надо отключить. А всё остальное нормально. У меня жена такая… Да и возраст уже, согласись? Пусть лежит – может, вылежит.
– Тридцать девять – не так и много. Помнишь, в том году Чекалина в сорок пять первого рожала, и ничего. Домой еще на выходные бегала. А эта даже сидеть не может. Да у нее до родов все мышцы атрофируются, как она рожать-то будет при таком тотальном лежании?
– Прокесарят. Твое дело сохранить. Вот и сохраняй. Букетик у тебя, конечно. Гончарова, Симакова, Горохова, Мироненко…
– Старцева с пролапсом третьей степени да еще с аритмией…
– Ну вот, а ты прицепилась к Гончаровой. Ты не Господь Бог и даже не Михаил-архангел, угомонись. Пошли вон кофе пить. И знаешь, чем дольше я работаю, тем больше мне кажется, что мы здесь не очень-то и нужны.
– То есть как это?
– Ну, давление, почки, сердце – это ведь всё на внешнем плане. Подозреваю, что существуют некие глубинные причины того, что беременность прерывается или оказывается под угрозой. Их бы научиться устранять! Гинепралом здесь не поможешь. Мой руки, я пирожки принес.
Домой хотела выписать. Нельзя меня домой. Не поеду. Буду лежать. Наверное, я ненормальная. Все хотят домой, отпрашиваются, убегают, просят дневной стационар. Только я хочу одного-единственного – чтобы мне позволили лежать вот здесь, у этого окна, и, по возможности, не вставать совсем. Про дом я не помню – был ли он, не был… Забыла про жизнь и про дом. Главное – пролежать один час, затем другой, третий, четвертый. Как это ни странно, но мне нужна полная сосредоточенность. Пока я сосредоточенна, ничего плохого случиться не может.
Когда ползла по коридору, глянула на себя в зеркало – душераздирающее зрелище. Тетка без возраста в розовой пижаме. И волосы надо было красить еще два месяца назад.
* * *
– Маш, Маш, эта скотина… Он появился и сказал… Маша… – Вика Горохова трясет меня за плечо, и мне приходится расстаться со сном, в котором я уезжаю автобусом на какую-то экскурсию, заняла место маме и жду, а ее всё нет и нет, автобус, в конце концов, отъезжает, а я кричу и умоляю подождать. Ладно, со сном определюсь позже – девчонка вся в слезах. Обычно со снами я разбираюсь на месте, то есть тут же их анализирую и, если мне что-то не нравится, приделываю счастливый финал, как учат парапсихологические книжки в мягкой обложке. Но сейчас не до этого.
– Маш, Маш, он не хочет ребенка! – Вика рыдает взахлеб.
– Кто, Вика, кто? – Нет, от нее сейчас ничего не добиться. – Зоя, что случилось-то, скажите толком. Ее же выписывать собирались?
– Да теперь уж лучше пусть еще подержат. Нарисовался пропащий Степан, увидел живот и, ясное дело, упал в обморок. Готов заплатить, лишь бы она избавилась от ребенка. Понятно, у него семья, дети, по выходным диван и пиво. Видела бы ты его… К Реутовой хотел бежать, перепугался насмерть. Ну, пусть, пусть сходит. А лучше к Толстоброву – он вчера какого-то дяденьку с лестницы спускал на эту тему. Но там вроде муж был – орал, что не нужен второй ребенок.
– Забудь, Вика, не стоит он того. Во-первых, ну восемь же месяцев! А во-вторых, ты ведь для себя ребенка оставляла? И, в-третьих, зачем тебе такой мужик? Пусть жена с ним и возится, бедняга. Да слава богу, что он вот так, по-честному. А то бы еще пять лет ждала.
– Вот-вот, – поддержала Зоя. – Я тоже подумала: такие мужики всё время ни да ни нет – никакой ясности, молчат и блеют. И жене у них «да», и любовнице «да», а там – как вывезет. А этот ведь пришел и выразил свою позицию – и на том спасибо. Короче, не реви.
– Я думала, что он придет и…
– Обрадуется. Да, сейчас…
– Ну, может, не обрадуется, а задумается, что ли. Моя знакомая вот так же встречалась с парнем, а он исчез. Она хотела сделать аборт, а мать отговорила: мол, вырастим и всё такое. А потом, когда мальчику был год, он увидел его – и всё: сыночек, сыночек, не мог оторваться. Женились, девочку еще родили.
– Так он был холостой, Викуся! – всплеснула руками Зоя. – А у твоего комплект: жена, любовница. А когда любовница грозит превратиться во вторую жену и, значит, в проблему в квадрате, то кто же этого захочет? И я бы не захотела. Ну, представь, у меня дома муж и дети – и еще бы на стороне муж и дети. Не-е. Ни за что.
– Вика, мы с Зоей – взрослые тетеньки, послушай нас, пожалуйста. Плюнь, забудь, ставь чай и выбрось из головы.
Вика перестала рыдать:
– И за что мне всё это? Вам хорошо рассуждать, у вас мужья, квартиры, работы.
– Мужья, говоришь… – Громкая Зоя, которая после консилиума убавила свою громкость раза в три, достала из пакета вымытый виноград, груши, какие-то печенья, поставила всё это перед Викой и села напротив, нависая как скала: – Мужья, говоришь… Когда мне было двадцать три, я похоронила человека, который должен был стать моим мужем. То есть я бы похоронила его по-человечески, но он пропал без вести, понимаешь? Жил, жил и пропал. Мы даже не простились.
– А что, тогда война была?
– Нет, не было войны. Уехал к маме в Таганрог на каникулы, куда-то вечером пошли с друзьями – и всё… Если бы мы заканчивали институт вместе, этого бы, я уверена, не случилось, но я получила диплом на год раньше и уехала по распределению в Гаврилов Ям, это в Ярославской губернии. Мы встречались каждый месяц: то я приезжала, то он. И ждали, писали письма. Эти письма до сих пор у меня на антресолях хранятся – роман сочинить можно. Он, Саша, очень хорошо писал… Сначала долго почты не было, а я посреди учебного года уехать никуда не могу. Измучилась, извелась вся – думала, бросил. Дождалась весенних каникул, рванула в Питер, а там никто ничего не знает. Ребята дали таганрогский телефон родителей, позвонила, а мама его спрашивает: «Зоинька, вы не беременны? Нет? Как жаль, у нас хоть внучек бы остался». И так это было ужасно, нелепо и глупо, что я тогда просто жить не хотела. Не то чтобы покончить с собой, а просто – не быть, уснуть и не проснуться. И так трудно и мерзко было вставать ранним утром в этом Яму – они там так говорили: в Яму, – что все мои силы уходили на это. А нужно идти на уроки, улыбаться – в общем, жить. Поселок маленький: школа-интернат для глухих детей, где я работала, да несколько домов. Мы прямо в школе и жили. Первый раз в моей жизни оказалось, что я сама себе не нужна: как будто потерялась. И всё будто бы пропиталось моим несчастьем – и стены, и воздух, и лес, так что, когда закончились три года, которые было положено отработать, я сразу же оттуда сбежала. В Донецк. Забыла сказать: я сама из Баку, родители русские, их в тридцатые годы туда вывезли из голодающего Поволжья, там и остались. Баку – город хороший, но, кто жил в республике, знает, что русский там – человек второго сорта… Ну вот, а в Донецке мамин дядя, милицейский чин: приезжай да приезжай… Приехала. Сурдопедагоги, как выяснилось, там нужны так же, как ледокол «Ленин», пришлось идти в милицию, в инспекцию по делам несовершеннолетних. В основном занимались лишением родительских прав. Дети запущенные, мамаши пьяные, в лохмотьях, ты ходишь с утра до вечера по этим трущобам, а жизнь проходит. Образовался, правда, у меня поклонник, Мыкола, старший лейтенант. Сам чуть повыше собаки, женат. Я и так и сяк, мол, отвяжись, ты, Коля, по-хорошему, – нет, не отвязывается, проходу не дает, и всё. Пришлось звонить жене: угомоните, говорю, супруга. Утром приходит – под глазом фингал и щека расцарапана. И такой меня смех разобрал: хохочу и хохочу, остановиться не могу, водой отпаивали. Мыкола не простил мне этого фингала и настучал полковнику, будто я какую-то алкоголичку лишила прав, детей отправила в детдом и собираюсь въехать в их квартиру. Пара таких диких случаев тогда действительно произошла. Мыколе то ли поверили, то ли нет, но холодок за спиной я почувствовала. Но дело было даже не в этом. После Сашиной смерти образовалась такая пустота, вот будто ты в пустыне, и никого вокруг на тридцать километров… Особенно она ощущалась в выходные, которые куда-то нужно было девать, а девать было некуда. Пойдешь куда-нибудь, а ноги не идут, нет смысла в движении, так и села бы посреди улицы. Но я Мыколе благодарна: если бы не он, сидеть бы мне в этом Донецке, городе роз, и сидеть. А так я – раз! – и написала заявление. Не отпускают. А у меня подруга жила в Перми, уехала за мужем по распределению, томилась, скучала и звала. А в последнем письме она на десяти страницах настрочила, что, по ее предчувствию, а «оно ее никогда не обманывает», меня там ждет судьба. И вот я стою в кабинете начальника и говорю: «Отпустите. Я замуж выхожу. За инженера-нефтяника. Из Перми».
– А чего, у тебя, что ли, жених в Перми был?
– Да какой жених, Вика? Соврала и глазом не моргнула. Как-то само собой вылетело. Уехала в два дня…
Зоя сделала паузу, пощипала свой виноград, пригладила волосы, насторожилась:
– А вы чего так смотрите?
– Мы слушаем…
– А интересно?
– Очень!
Зоя рассмеялась, походила по палате, наслаждаясь чуткой тишиной, и продолжала:
– Приехала в эту Пермь. Не шедевр, конечно, но в принципе город понравился – и город, и люди. Выделила мне подруга комнату, ну и, естественно, жизнь не сложилась: сидела с их ребенком, была чем-то между нянькой и бедной родственницей. Провела так месяца три, и атмосфера накалилась до того, что перед Новым годом мы поссорились, мне пришлось уйти фактически на улицу. От детского сада, куда я устроилась, дали место в общежитии, перетащила туда свои пожитки, а комната – без слез не взглянешь: кровати, тумбочки облезлые. На четверых. Как добралась до лета, девочки, не помню. Сплошное серое пятно. Соседки мои работали на заводе, – как они говорили, в заводе, – такие же, как и я, старые девы. Всем вокруг к тридцати. Это сейчас замуж никто особенно не торопится, а тогда до двадцати пяти не вышла – всё, привет… И вот в субботу кто-то говорит: «Так, надоело – идем в ресторан». Ну, идем так идем. Пришли в «Центральный» – он до двенадцати работал, – а там одни мужики сидят, и рядом с нами целая компания. А когда заведение закрывалось, мы вышли вместе, и ко мне прицепился какой-то… ну совершенно пьяный. Я на шпильках еле ноги передвигаю, да еще он повис и висит. И все отправились на Каму. По ходу пьесы выяснилось, что он, этот «перепимший», праздновал в ресторане свое тридцатилетие, все остальные – его гости. Вроде где-то он долго работал и вернулся в город буквально на днях. Подруги с кавалерами ушли куда-то вперед, мы плетемся, и я ему говорю: «Слушай, ведь тебе домой надо, жена, наверное, ждет. А ты не торопишься». «Я не женат», – говорит и достает паспорт, показывает.
– А что, Зой, он тебе совсем не понравился, да? – Вика забыла и про виноград, и про свою беду.
– Да ты понимаешь, он на ногах не стоял, я особо и не смотрела. Вижу, взрослый мужик – значит, женатый… Я, когда мы гуляли, даже присела и покурила: не жених ведь, чего стесняться. Мы тогда стеснялись на людях курить, если и покуривали, то втихаря… Потом он позвонил, позвал меня в театр, потом… В общем, роман закрутился и быстро закончился свадьбой. Самое интересное! Знаете, кем он оказался? Инженером-нефтяником – семь лет сидел на буровой.
Зоя насладилась немой сценой, немного помолчала, вздохнула:
– Да, вот так. И мне всё казалось, что это справедливо, ну, то, что мы встретились, и всё так хорошо, что я это заслужила своими несчастьями. И только сейчас понимаю, что мы могли бы и не встретиться: ведь ни до, ни после того я в рестораны не ходила. А если бы не смерть Саши, не мое отчаяние и метание по городам, может быть, я и не оценила бы нашу встречу и уж точно не относилась бы к ней так бережно, как отношусь сейчас.
– И сколько вы там жили, в Перми?
– Пять лет. А потом ему предложили работу в Сестрорецке, и мы уехали.
– Постой-постой, так у вас же дочке девятнадцать, как это может быть, если вы встретились в тридцать?