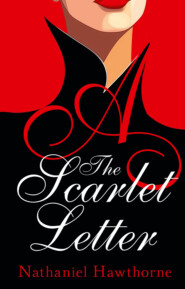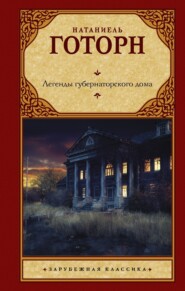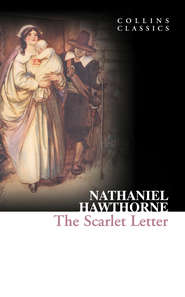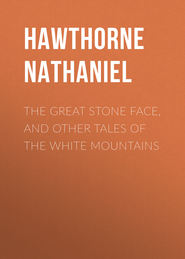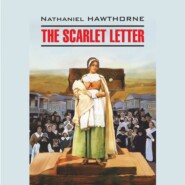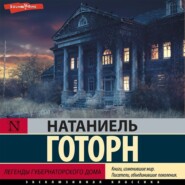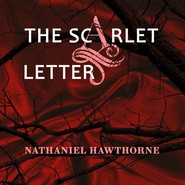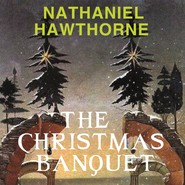По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Алая буква
Автор
Жанр
Год написания книги
1850
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Таможня и жизнь в ней теперь остались для меня позади, превратились лишь в сон. Старый инспектор, который, между прочим, как ни грустно сообщать вам это, некоторое время назад погиб под копытами лошади, а не случись этого, жил бы вечно, вместе с другими достойными персонажами, как и он, занимавшимися взиманием пошлин, видятся мне сейчас призраками – эдакие седовласые морщинистые измышления моей фантазии, игрушки ее, брошенные и забытые навсегда. Торговцы – Пингри, Филипс, Шепард, Эптон, Кимбел, Бертрам, Хант – все эти и многие другие, чьи фамилии были так привычны моему уху всего полгода назад, все эти коммерсанты, казавшиеся такими важными персонами в этом мире, – как мало времени потребовалось, чтобы все они исчезли не только из моей жизни, но даже и из воспоминаний!
Я с трудом могу представить себе только некоторых из них. Вот так же вскоре и мой родной город будет видеться мне только в дымке воспоминаний; туман поглотит его и станет он не реальным куском земли, а странных очертаний облаком, облачным градом, населенным воображаемыми людьми. Они выходят из деревянных домов, проходят по уродливым улочкам, чтобы выйти на длинную и унылую Главную улицу. Все это перестало быть для меня реальностью, я теперь принадлежу к другому месту. Мои добрые земляки не будут сожалеть о моем отъезде, ибо хотя я и пытался литературными трудами своими, помимо прочих моих целей, снискать уважение и у них и оставить по себе добрую память в этом месте, где жили, а ныне покоятся многие и многие мои предки, я не считал, что воздух этого города благоприятствует созреванию плодов умственной деятельности, с тем чтобы писатель мог надеяться на отменный их урожай. Мне будет лучше среди других лиц, а эти, столь хорошо мне знакомые, надо думать, отлично обойдутся без меня.
И однако – о вдохновляющая и радостная мысль! – может быть, праправнуки моих современников с теплым чувством вспомнят старого сочинителя историй из давно минувшей жизни. Тогда будущий любитель древностей среди памятных мест города отыщет и то, где находилась некогда городская водокачка[15 - Про городскую водокачку Готорн писал в одном из очерков сборника «Дважды рассказанные истории».].
Глава 1
Тюремная дверь
Толпа бородатых мужчин в одеяниях унылых расцветок и островерхих шляпах, разбавленная и женщинами, простоволосыми либо в чепцах, собралась перед деревянным зданием с тяжелой дверью из прочного дуба, укрепленной массивными железными скобами и шипами.
Первые колонисты, несмотря на утопическую мечту о счастье и заботу о человеческом достоинстве, очень скоро осознавали среди первейших задач своих необходимость выделить участок девственной земли под кладбище, а другой – где будет находиться тюрьма. Признав непреложность данного правила, мы можем смело заключить, что отцы-основатели Бостона выстроили первую тюрьму где-нибудь неподалеку от Корнхилла почти одновременно с отведением участка под первое кладбище на земле Айзека Джонсона и вокруг его могилы, что со временем и стало ядром и основой захоронений старого погоста возле Королевской часовни. Не подлежит сомнению, что через лет пятнадцать – двадцать после основания города деревянное здание тюрьмы уже несло на себе следы былых непогод и прочие приметы времени, придававшие еще большую угрюмость ее изъеденным короедом стенам. Ржавчина на грубом кованом железе ее двери казалась старше самых старинных сооружений Нового Света. Как все, связанное с преступлением, здание это словно никогда и не ведало молодости. Между этим безобразным сооружением и проезжей частью улицы раскинулась зеленая луговина, сплошь покрытая репейником, лебедой и прочей неприглядной растительностью, видимо, нашедшей в здешней почве нечто сродни столь рано выросшему здесь мрачному цветку нашей цивилизации – тюрьме. Но сбоку от входа в узилище, оплетая корнями своими чуть ли не самый его порог, рос куст шиповника, усеянный нежными и изящными цветами, которые можно было счесть щедрым и ароматным даром хрупкой красоты, преподносимым природой входящему в эту дверь арестанту или выходящему из нее навстречу горькой судьбе приговоренному к казни преступнику в знак глубокого сочувствия и как уверение в своей бесхитростной доброте и милосердии.
По странной случайности сей куст шиповника сохранился здесь со времен стародавних, хоть и неизвестно, рос ли он некогда еще под сенью сосен и дубов, впоследствии срубленных, или же, как верят люди сведущие, подарила нам его земля, когда по ней вели в застенок праведницу Анну Хатчинсон. Взять на себя смелость утверждать доподлинно то или иное мы не решимся. Однако, видя символический куст у самого порога, знаменующего собой начало нашего повествования, мы не можем придумать ничего лучше, как сорвать один из его цветков и принести в дар читателю. Да послужит он, как смеем мы надеяться, воплощением сладчайшего нравственного совершенства, которое мы жаждем обрести на нашем пути, или же рассеет мрак сего рассказа о слабости человеческой и неизбывной горести нашего удела.
Глава 2
Рыночная площадь
Летним утром, случившимся не менее двух столетий назад, на зеленой луговине перед тюрьмой на так называемой Тюремной улице толпилось изрядное число жителей Бостона, не сводивших глаз с кованой дубовой двери. В любой другой среде или же в другой, более поздний период новоанглийской истории подобная суровая непреклонность на бородатых лицах означала бы приближение чего-то ужасного, никак не меньше, чем свершение долгожданной казни закоренелого преступника, приговор которому лишь узаконивал всю ненависть к нему общества. Но пуританская суровость не дозволяет нам сделать столь однозначный вывод. С равным успехом причиной людского скопления могло оказаться всего лишь ожидание справедливого возмездия нерадивому рабу или строптивому и непочтительному отроку, которого родители передали властям для исправления путем публичной порки.
Наказание могло касаться и антиномийца, квакера или же иного приверженца неортодоксального вероучения, которому предстояло быть с позором изгнанным из города, или же бродяги-индейца, впавшего в буйство под действием «огненной воды», к которой приучил его белый человек, и теперь, вкупе со стигматами на коже, получающего предписание покинуть городские улицы и удалиться в лесную глушь. Но столь же вероятным могло быть и ожидание казни через повешение очередной ведьмы вроде престарелой матушки Хиббинс, ожесточившей свое сердце злокозненной судейской вдовы. На каждой из таких церемоний лица зрителей сохраняли бы одинаковое выражение торжественной серьезности, приличествующее людям, в сознании которых религия и закон были теснейшим образом связаны и переплетены, а наказание, как легкое, так и самое суровое, вызывало одинаковое смешанное со страхом благоговение. Вряд ли сочувствие могло шевельнуться в душах зрителей, стоящих возле эшафота. С другой стороны, наказание, призванное лишь устыдить оступившегося и встречаемое в наши дни лишь насмешкой, в то время отправлялось с суровостью, никак не меньшей суровости смертного приговора.
Следует отметить также, что в толпе, собравшейся в достопамятное летнее утро, знаменующее собой начало нашего рассказа, особый интерес к предстоящему наказанию проявляли находившиеся в толпе женщины. Тот век не отличался утонченностью, и потому ни возраст, ни чувство некоторой неловкости, которую создавали для других их громоздкие одеяния с пышными, в фижмах, юбками не мешали, энергично проталкиваясь увесистым телом, пробираться, насколько возможно, в первые ряды, к самому эшафоту. И нравственно, и физически эти жены и девы, рожденные и выпестованные еще старой доброй Англией, были грубее своих потомков, отделенных от них шестью-семью поколениями, ибо в череде лет с передачей наследственных признаков каждая мать наделяла свою дщерь румянцем все менее ярким, а красотой все более тонкой и недолговечной, воплощенной в массе не столь солидной, хоть и несшей дух столь же непреклонный, как и ее собственный.
Женщины, стоявшие сейчас возле тюремной двери, менее чем на полвека были отдалены от времени, когда мужеподобная Елизавета выглядела вполне приемлемой представительницей своего пола. Они были ее соплеменницами и землячками, и говядина с элем родной их страны, как и столь же незамысловатая пища духовная, оказали значительное влияние на их внешность.
Вот почему утреннее солнце лило теперь свой свет на их мощные широкие плечи, полновесные, хорошо развитые груди и круглые румяные щеки, взращенные далеким островом и ничуть не утратившие округлости и не поблекшие в атмосфере Новой Англии. Более того, таков же был источник смелой откровенности речей сих матрон, каковыми они в большинстве своем являлись, речей, громогласность которых в наши дни показалась бы устрашающей.
– Скажу вам откровенно, добрые мои подруги, – сказала одна из них, женщина лет пятидесяти с тяжелыми и грубыми чертами лица, – очень полезно было бы для всего нашего сообщества, если б дело этой мерзавки Эстер Принн передали для разбирательства нам, зрелым, почтенным женщинам, пользующимся всеобщим уважением как добропорядочные члены церкви. Что думаете вы, сударыни? Предстань эта развратница перед судом нашей сплоченной пятерки, разве отделалась бы она тогда приговором, который вынесла ей коллегия судей, да благослови их Господь? Убей меня, я того не думаю!
– Говорят, – заметила другая, – преподобный Димсдейл, ее духовный наставник, был уязвлен в самое сердце таким скандалом в его приходе.
– Судьи, конечно, люди боголюбивые, – присоединила свой голос третья клонящаяся к закату матрона. – Но было бы куда правильнее припечатать каленым железом лоб этой Эстер Принн. Вот такое клеймо заставило бы мадам содрогнуться, не сомневаюсь. А так, какое дело этой вертихвостке до того, что там прицеплено к ее платью! Прикрой это брошкой или еще какой-нибудь языческой побрякушкой и гуляй себе по городу как ни в чем не бывало!
– И все же, – робко вступила в беседу молодая женщина, державшая за руку ребенка, – прикроет она знак или нет, все равно он до скончания дней будет жечь ей грудь!
– Да что мы все о знаках – на лбу или на платье – какая разница! – вскричала еще одна из женщин, самая безобразная и самая неумолимая из этих доморощенных судей. – Она нас всех опозорила и заслуживает смерти! Разве это не справедливо? Есть, точно есть, как в Писании, так и в своде законов. И пусть сердобольные судьи пеняют на себя и рвут на себе волосы, когда собственные их жены и дочери пойдут по ее стопам и пустятся во все тяжкие!
– Помоги нам Господь, благочестивые женщины, – воскликнул стоявший в толпе мужчина, – если нет в наших женах добродетели иной, нежели та, что рождена страхом перед виселицей. Уж слишком вы жестокосердны! А теперь хватит болтать – затвор в двери повернулся, и вот она, госпожа Принн собственной персоной!
Дверь тюрьмы распахнулась, и первой, подобная черной тени на ярком солнечном свете, явилась угрюмая, зловещая фигура судебного пристава с мечом у пояса и жезлом – знаком его должности – в руке. Фигура эта всем видом своим знаменовала и воплощала мрачную суровость пуританского законодательства, которое он и призван был применять к преступнику неукоснительно и со всею строгостью. Державшая жезл левая рука пристава была простерта вперед, в то время как правой он касался плеча молодой женщины, понуждая ее тем самым двигаться. Уже стоя в дверях, жестом, исполненным достоинства и свидетельствующим о силе характера, она отвела его руку и словно по собственной воле шагнула навстречу толпе. На руках она держала дитя, младенца месяцев трех от роду, который моргал и отворачивал личико от слишком яркого света, ибо до той поры знаком ему был лишь тусклый сумрак узилища.
Когда молодая женщина – мать ребенка – уже в полной ясности предстала перед толпой, первым ее побуждением, как это казалось, стала потребность прижать дитя к груди, не столько в приливе материнских чувств, сколько из-за желания прикрыть некий знак, запечатленный на ее платье – прикрепленный либо пришитый к нему. Но в следующее мгновение, справедливо решив, что одно свидетельство позора не может служить прикрытием другому его свидетельству, она, ловчее подхватив ребенка, уложила его у себя на руках и, вспыхнув горячим румянцем, но сохраняя на лице горделивую улыбку, не смущаясь обвела взглядом толпу своих сограждан и соседей. На лифе ее платья вырезанная из красной ткани и обрамленная затейливой вязью вышитого золотой нитью орнамента сияла и переливалась буква «А»[16 - «А» – первая буква английского слова adulteress – прелюбодейка.]. Выполнена она была столь мастерски, с таким изобилием фантазии, что казалась изысканным украшением, замечательно подходящим одеянию, сшитому в соответствии с модой и вкусами того времени, но далеко превосходившему пределы роскоши, дозволяемой принятыми в колонии порядками.
Молодая женщина была высокого роста и обладала фигурой поистине, можно сказать, идеальной. Ее темные волосы, пышные и густые, блестели на солнце и словно отражали солнечный свет, а лицо, помимо правильности черт и замечательного цвета, делавших его прекрасным, отличалось особой выразительностью, которую придавали благородный лоб и вдумчивая глубина черных глаз. У женщины этой был вид настоящей аристократки, леди в понятиях того времени, когда признаками аристократизма в женщине считалась не столько изящная и хрупкая грация, как видится нам это сейчас, сколько степенность и достоинство. Что же до Эстер Принн, то никогда не выглядела она большей аристократкой в старинном понимании этого слова, чем в тот момент, когда выходила из двери тюрьмы. Те, кто знал женщину, ожидал увидеть ее померкшей и униженной, были удивлены и даже изумлены, став свидетелями сияющей красоты ее, будто ореол несчастья и позор лишь сделали ее еще краше. Хотя чуткий наблюдатель, возможно, и приметил бы в ее облике следы скрытого страдания. Ее наряд, который она сшила в тюрьме специально к этому случаю и который подсказали ей ее фантазия и обуявшее ее вдруг настроение отчаянной и дерзкой смелости, отличался яркой и живописной оригинальностью. Но особенно приковывала все взоры, преображая Эстер Принн так, что все – и мужчины, и женщины, казалось, увидели ее впервые, АЛАЯ БУКВА, сиявшая в своем прихотливом узоре на груди. Как некое заклятие, буква эта отделяла Эстер от всех прочих людей, как коконом, окружая особой аурой.
– Неплохо она иглой владеет, ничего не скажешь, – заметила одна из стоящих в толпе женщин. – Ну кто другой, кроме такой бесстыжей потаскухи, набравшись наглости, посмел бы это свое умение людям в глаза тыкать! Что это, подруги, как не насмешка, брошенная в лицо почтенным судьям, и не попытка похваляться тем, что эти достойные джентльмены выбрали ей в наказание!
– Вот сорвать бы с ее цыплячьих плечиков, – пробормотала самая злобная из старых дам, – богатое платье! Что же до красной буквы, которой она так забавно его изукрасила, то лучше б я пожертвовала ей для этой цели клочок теплой фланелевой тряпки, которой я больное место обертываю, когда ревматизм одолевает! Все приличнее было бы!
– Ой, потише, соседушки, – прошептала ее молодая товарка, – негоже ей вас слушать, ведь каждый стежок в этой вышивке ей болью в сердце отзывается!
Суровый пристав взмахнул жезлом:
– Дорогу, добрые люди! Именем короля дайте пройти! – крикнул он. – Освободите проход, и я обещаю вам расположить госпожу Принн так, что каждый, будь то мужчина, женщина либо ребенок, сможет любоваться смелым ее нарядом, начиная с этой минуты до часу пополудни! Да благословит Господь добродетельных жителей колонии Массачусетс, где беззаконие бывает выявлено и выставлено на позор! Вперед, мадам Эстер, покажите всей площади вашу Алую букву!
В толпе зевак образовался проход, и вслед за приставом, сопровождаемая нестройной вереницей насупленных мужчин и непреклонных женщин, Эстер Принн двинулась к месту своего наказания. Ватага бойких и любопытных школяров бежала впереди процессии. Мало что понимая из происходящего помимо того, что их на полдня освободили от занятий, дети то и дело оглядывались, чтобы поглазеть на женщину, на ее ребенка и на позорный знак у нее на груди. В те дни расстояние от дверей тюрьмы до рыночной площади было небольшим. Однако, учитывая то, что приходилось терпеть женщине на всем протяжении пути, его следует признать значительным, ибо вопреки горделивой ее осанке, каждый шаг откликался в ней болью от обращенных на нее взглядов, словно самое сердце ее было вырвано и брошено под ноги собравшимся, чтобы его пинали и топтали. И все же натура наша устроена с учетом некоего условия, чудесного и благодетельного, поскольку позволяет оно нам испытывать самую острую боль не в тот момент, когда она охватывает нас, а главным образом потом, когда является уже в воспоминании. Благодаря этому свойству часть мучительного испытания своего Эстер Принн прошла с видом почти безмятежным, приблизившись к подобию эшафота, высившегося на западном краю рыночной площади едва ли не под сводами самой старой из бостонских церквей и, казалось, утвердившегося там прочно и надолго.
Эшафот этот являлся неотъемлемой принадлежностью тогдашнего карательного инструментария, той его частью, которая ныне, по окончании жизненного срока двух или трех поколений, сохранила лишь статус исторической реликвии и традиции, но в свое время считавшейся весьма эффективным способом нравственного воспитания, точно таким же, каким французы во времена террора почитали гильотину. Строго говоря, это был всего лишь помост, над которым высилась особой конструкции рама, плотно обхватывавшая голову человека и удерживавшая ее в таком положении, чтобы наказуемый не мог ее опустить, избегнув тем самым взглядов публики. Это сработанное из железа и дерева устройство было идеальным воплощением наивысшего позора, которому можно подвергнуть человека, ибо нет унижения горше, чем запрет провинившемуся стыдливо укрыть от взглядов лицо свое, в чем и состояли смысл и цель наказания. Однако в случае с Эстер Принн, как нередко и в других случаях, приговором ей предписывалось лишь пребывать некоторое время на помосте без того, чтоб шею и голову ее помещали в тиски, не дававшие ей шевельнуться, другими словами, от самой дьявольской и безобразной части наказания она была избавлена. Осведомленная в том, что ей предстоит, она поднялась по деревянным ступеням помоста, явив себя таким образом окружающей толпе и вознесясь на высоту мужского роста над улицей.
Случись в этой толпе пуритан какой-либо папист, он мог бы усмотреть в красивой женщине, так живописно выглядевшей в своем одеянии и с ребенком на руках, сходство с образом Богоматери, в изображении коего соревновались между собой прославленные художники. Сходство тут, правда, присутствовало скорее всего по контрасту, потому что если в картинах, символизирующих непорочное материнство, изображено бывает дитя, призванное искупить грехи человеческие, то здесь грех, проникший в самую священную область нашего существования, осквернил ее собой и сделал так, что красота женщины лишь омрачала все вокруг и жизнь представлялась безнадежной для рожденного во грехе младенца.
Картину эту толпа наблюдала со своего рода благоговением, каковое лицезрение вины и стыда ближнего всегда вызывало в людях, прежде чем общество развратилось настолько, чтобы научиться улыбаться там, где следовало бы содрогнуться. Впрочем, свидетели позора Эстер Принн, еще не изжившие в себе простодушия, хотя и были достаточно суровы, чтобы без ропота встретить и казнь ее, будь она приговорена к последней, все же не отличались свойственным иным общественным укладам бессердечием, когда зрелище, подобное описываемому, становится лишь поводом для шуток. Если б даже и возникло в толпе желание посмеяться над происходящим, оно было бы пресечено и уничтожено торжественным присутствием здесь достойнейших лиц, таких как губернатор и ряд его советников, судья, генерал и городское священство, сидевшие или стоявшие на балконе молитвенного дома и глядевшие оттуда вниз на помост. Коли такие важные лица сочли возможным почтить церемонию своим присутствием без риска уронить свой статус и авторитет, значит, можно было смело и с полным правом счесть исполнение судебного решения вещью серьезной и значимой. Соответственно выглядела и толпа, хранившая вид угрюмый и мрачный. Несчастная виновница старалась держаться бодро, насколько это дозволяло ей ее женское естество, и стойко несла на себе груз тысяч безжалостных, пронзительных взглядов, в особенности на запечатленный на ее груди знак. Вынести это было почти невозможно. Обладая натурой пылкой и страстной, она была готова встретить оскорбления и ядовитые реплики, выражающие всеобщее порицание и неприязнь, но глухое молчание расступавшейся толпы оказалось страшнее. Уж лучше бы неподвижность этих лиц исказила гримаса веселья и издевательской насмешки. Раздайся вдруг грохот от звуков, вырвавшихся из груди каждого в этой толпе – мужчины, женщины или визгливого мальчишки – и слейся все эти звуки в общий хохот, и Эстер Принн могла бы ответить им всем горькой презрительной усмешкой. Но нет, ей предстояло терпеть это свинцовое, тяжелое молчание, и были мгновения, когда ей хотелось издать громкий, отчаянный крик и броситься вниз с помоста, только бы не сойти с ума.
И все же случались промежутки, когда вся картина, в центре которой была она сама, как бы ускользала от ее взора или же меркла, окутываясь словно туманным облаком, превращавшим все вокруг в призрачные тени. Тогда сознание Эстер и в особенности память обретали удивительную живость, рождая иные образы, совсем не те, что являла эта убогая улица городишки, затерянного на краю дикой Западной местности; выплывали другие лица, не те, что взирали на нее из-под надвинутых на лоб островерхих шляп. Воспоминания, пустяковые, мимолетные, случаи времен ее детства и школьных лет, разные игры, ребяческие забавы, ссоры, мелочи ее жизни дома в юности возвращались вновь, тесня друг друга, мешаясь с воспоминаниями о том серьезном и суровом, что наступило позже, и каждая картина, каждый образ не уступал другому в яркости, словно все они были одинаково важными и ценными или же, напротив, игрушечными, ненастоящими. Возможно, таков был защитный механизм, инстинктивная уловка в попытках уйти от фантасмагории образов и форм окружающей реальности, облегчив тем самым боль от сгибавшей ее плечи тяжкой и неизбывной ноши.
Как бы там ни было, помост, на котором стояла ныне Эстер, служил ей точкой обзора, откуда она могла охватить взглядом весь путь, пройденный ею со времен ее счастливого детства. Стоя на этом ничтожном возвышении, она созерцала вновь родное селение в старой Англии, отчее гнездо свое – это обветшалое строение из серого камня со следами бедности, но с сохранившимся над входом облупленным гербом – свидетельством древности ее рода. Она видела отцовское лицо – залысины на лбу, почтенная седая борода прикрывает старомодные елизаветинские брыжи; видела мать, глядевшую на нее с выражением боязливо затаенной любви на лице, озаренном отсветом былой девической красоты; этот взгляд сохранился в памяти Эстер и после материнской кончины, наполняя любовью всю ее жизнь и всегда, во всех хитросплетениях ее судьбы служа ей тихим укором.
Себя же Эстер видела лишь отражением в зеркале, в котором можно было разглядеть и другое лицо – мужчины, несшего на себе бремя лет, бледное, тонкое лицо ученого с глазами, воспаленными от света лампы, неизменно служившей ему в долгие часы чтения объемистых ученых фолиантов. Но затуманенный взор этих глаз странным образом обретал силу и зоркость, когда владелец их вознамеривался проникнуть в душу человека. Фигура этого кабинетного и монастырского затворника, как это ясно вспоминалось Эстер, была несколько асимметрична – левое плечо немного выше правого. И вслед за этим воспоминанием тут же в памяти возникала путаная сеть узких улочек и проулков с высокими серыми домами, огромными соборами и общественными учреждениями в зданиях старинного вида и причудливой архитектуры – приметы большого города на континенте, где ее ожидала новая жизнь, по-прежнему связанная с кособоким ученым – жизнь новая, но питаемая прежним изъеденным временем, ветхим, трухлявым материалом, подобно зеленому мху, произрастающему на руинах порушенной стены. А напоследок, вместо череды сменяющих друг друга сцен и образов, опять вернулась грубая простота рыночной площади в пуританском поселении с его обитателями, собравшимися вместе, чтобы пронизывать взглядами ее, Эстер Принн, вознесенную на этот помост и стоящую на нем с ребенком на руках и буквой «А», в причудливом обрамлении золотых нитей сияющей на груди.
Может ли быть такое? Она прижала к себе ребенка с такой страстью, что он пискнул, и, опустив взгляд, вперилась в эту букву и даже тронула ее пальцем, дабы убедиться, что ее позор, как и ее ребенок, самое что ни на есть настоящее. Да! Это теперь ее жизнь, остального же больше не существует.
Глава 3
Встреча
От ясного и мучительного осознания того, что именно она стала объектом всеобщего пристального внимания, женщину с алой буквой на груди отвлекла фигура из толпы, стоявшая в самых задних ее рядах, моментально и всецело захватившая все ее помыслы. Там находился и индеец в туземном своем наряде, но краснокожие столь часто забредали в английские поселения, что появление, да еще в такой момент, одного из них, вряд ли заставило бы Эстер Принн забыть обо всем вокруг. Но рядом с этим индейцем, по-видимому, пришедший вместе с ним, стоял белый человек, одетый в странную смесь платья цивилизованного, европейского, с местным дикарским.
Он был невелик ростом, с лицом, изборожденным морщинами, которые пока что не могли с определенностью свидетельствовать о возрасте. Черты его изобличали ум, отточенный учеными занятиями, чрезмерностью и продолжительностью своей повредившими его физической форме, что сказалось со всей очевидностью на его облике. При всей небрежности наряда он все же постарался скрыть либо приуменьшить видимую особенность своей фигуры, мгновенно замеченную и Эстер, – неровность плеч, одно из которых было выше другого. И при первом же взгляде на тонкие его черты и легкую неправильность фигуры Эстер вновь судорожно прижала к груди ребенка с силой, исторгшей у несчастного младенца новый крик боли. Однако мать словно не слышала этого крика.
С самого прибытия на рыночную площадь и какое-то время, пока Эстер его не заметила, взгляд мужчины постоянно обращался к ней, поначалу словно в рассеянности, как смотрят люди, привыкшие глядеть главным образом внутрь себя, те, кому нет никакого дела до событий внешнего мира, не имеющих отношения к собственным их душевным движениям. Вскоре, однако, взгляд его стал пристальным и пронизывающим. Ужас, исказивший его черты, скользнув по лицу, подобно змее, на секунду мелькнул в его взгляде. Лицо его потемнело от волнения, которое он мгновенным усилием воли сумел в себе подавить, и теперь выражение лица его могло показаться исполненным спокойствия. Одно мгновение – и конвульсия боли, исказившая черты, их покинула, нырнув в глубь естества его и там себя исчерпав. Когда мужчина встретил устремленный на него взгляд Эстер Принн и понял, что она его узнала, он, медленно и спокойно подняв палец, покачал им в воздухе, после чего приложил к губам.
Затем, тронув за плечо стоявшего рядом горожанина, он со всею вежливостью и предупредительностью осведомился:
– Не будете ли любезны просветить меня, сэр, кто эта женщина и за что подвергают ее подобному позору?
– Вы, видимо, человек пришлый, дружище, – ответствовал горожанин, с любопытством оглядывая вопрошавшего в его дикарском наряде, а также первобытного его спутника, – иначе вы, несомненно, слыхали бы о миссис Эстер Принн и греховных ее деяниях. Они вызвали большой скандал в приходе преподобного Димсдейла, среди его паствы, уверяю вас.
– Вы были совершенно правы, – согласился его собеседник, – когда заключили, что я человек пришлый. Не по своей воле став скитальцем и испытав череду печальных злоключений на море и на суше, я долго томился в плену у племени язычников, обретающихся к югу отсюда, а ныне доставлен этим вот индейцем сюда с целью избавить меня от плена за определенную мзду. Так расскажите же мне, умоляю, об этой Эстер Принн, если я не перепутал имя; чем оскорбила она всех и что привело ее на этот эшафот?
– Думаю, сердце ваше возликует, дружище, – изрек горожанин, – от отрадного сознания, что после долгих мытарств и пребывания в диких дебрях вы наконец оказались в краю, где беззаконие бывает выявлено и наказано, как это происходит сейчас на глазах у всего народа и правителей его у нас в хранимой Господом Новой Англии! Да будет вам известно, сэр, что женщина сия являлась супругой некоего высокоученого человека, англичанина по рождению, но долгое время проживавшего в Амстердаме, откуда уже довольно давно он замыслил перебраться, связав свою судьбу с нами, жителями Массачусетса. С этим намерением он отправил сюда жену, вперед себя, так как самого его задержали в Амстердаме дела. Прожив здесь в Бостоне года два или несколько меньше и не имея известий о высокоученом своем супруге мистере Принне, молодая его жена, оставшаяся без должного попечения и руководства и предоставленная лишь собственным дурным помыслам и заблуждениям…
Я с трудом могу представить себе только некоторых из них. Вот так же вскоре и мой родной город будет видеться мне только в дымке воспоминаний; туман поглотит его и станет он не реальным куском земли, а странных очертаний облаком, облачным градом, населенным воображаемыми людьми. Они выходят из деревянных домов, проходят по уродливым улочкам, чтобы выйти на длинную и унылую Главную улицу. Все это перестало быть для меня реальностью, я теперь принадлежу к другому месту. Мои добрые земляки не будут сожалеть о моем отъезде, ибо хотя я и пытался литературными трудами своими, помимо прочих моих целей, снискать уважение и у них и оставить по себе добрую память в этом месте, где жили, а ныне покоятся многие и многие мои предки, я не считал, что воздух этого города благоприятствует созреванию плодов умственной деятельности, с тем чтобы писатель мог надеяться на отменный их урожай. Мне будет лучше среди других лиц, а эти, столь хорошо мне знакомые, надо думать, отлично обойдутся без меня.
И однако – о вдохновляющая и радостная мысль! – может быть, праправнуки моих современников с теплым чувством вспомнят старого сочинителя историй из давно минувшей жизни. Тогда будущий любитель древностей среди памятных мест города отыщет и то, где находилась некогда городская водокачка[15 - Про городскую водокачку Готорн писал в одном из очерков сборника «Дважды рассказанные истории».].
Глава 1
Тюремная дверь
Толпа бородатых мужчин в одеяниях унылых расцветок и островерхих шляпах, разбавленная и женщинами, простоволосыми либо в чепцах, собралась перед деревянным зданием с тяжелой дверью из прочного дуба, укрепленной массивными железными скобами и шипами.
Первые колонисты, несмотря на утопическую мечту о счастье и заботу о человеческом достоинстве, очень скоро осознавали среди первейших задач своих необходимость выделить участок девственной земли под кладбище, а другой – где будет находиться тюрьма. Признав непреложность данного правила, мы можем смело заключить, что отцы-основатели Бостона выстроили первую тюрьму где-нибудь неподалеку от Корнхилла почти одновременно с отведением участка под первое кладбище на земле Айзека Джонсона и вокруг его могилы, что со временем и стало ядром и основой захоронений старого погоста возле Королевской часовни. Не подлежит сомнению, что через лет пятнадцать – двадцать после основания города деревянное здание тюрьмы уже несло на себе следы былых непогод и прочие приметы времени, придававшие еще большую угрюмость ее изъеденным короедом стенам. Ржавчина на грубом кованом железе ее двери казалась старше самых старинных сооружений Нового Света. Как все, связанное с преступлением, здание это словно никогда и не ведало молодости. Между этим безобразным сооружением и проезжей частью улицы раскинулась зеленая луговина, сплошь покрытая репейником, лебедой и прочей неприглядной растительностью, видимо, нашедшей в здешней почве нечто сродни столь рано выросшему здесь мрачному цветку нашей цивилизации – тюрьме. Но сбоку от входа в узилище, оплетая корнями своими чуть ли не самый его порог, рос куст шиповника, усеянный нежными и изящными цветами, которые можно было счесть щедрым и ароматным даром хрупкой красоты, преподносимым природой входящему в эту дверь арестанту или выходящему из нее навстречу горькой судьбе приговоренному к казни преступнику в знак глубокого сочувствия и как уверение в своей бесхитростной доброте и милосердии.
По странной случайности сей куст шиповника сохранился здесь со времен стародавних, хоть и неизвестно, рос ли он некогда еще под сенью сосен и дубов, впоследствии срубленных, или же, как верят люди сведущие, подарила нам его земля, когда по ней вели в застенок праведницу Анну Хатчинсон. Взять на себя смелость утверждать доподлинно то или иное мы не решимся. Однако, видя символический куст у самого порога, знаменующего собой начало нашего повествования, мы не можем придумать ничего лучше, как сорвать один из его цветков и принести в дар читателю. Да послужит он, как смеем мы надеяться, воплощением сладчайшего нравственного совершенства, которое мы жаждем обрести на нашем пути, или же рассеет мрак сего рассказа о слабости человеческой и неизбывной горести нашего удела.
Глава 2
Рыночная площадь
Летним утром, случившимся не менее двух столетий назад, на зеленой луговине перед тюрьмой на так называемой Тюремной улице толпилось изрядное число жителей Бостона, не сводивших глаз с кованой дубовой двери. В любой другой среде или же в другой, более поздний период новоанглийской истории подобная суровая непреклонность на бородатых лицах означала бы приближение чего-то ужасного, никак не меньше, чем свершение долгожданной казни закоренелого преступника, приговор которому лишь узаконивал всю ненависть к нему общества. Но пуританская суровость не дозволяет нам сделать столь однозначный вывод. С равным успехом причиной людского скопления могло оказаться всего лишь ожидание справедливого возмездия нерадивому рабу или строптивому и непочтительному отроку, которого родители передали властям для исправления путем публичной порки.
Наказание могло касаться и антиномийца, квакера или же иного приверженца неортодоксального вероучения, которому предстояло быть с позором изгнанным из города, или же бродяги-индейца, впавшего в буйство под действием «огненной воды», к которой приучил его белый человек, и теперь, вкупе со стигматами на коже, получающего предписание покинуть городские улицы и удалиться в лесную глушь. Но столь же вероятным могло быть и ожидание казни через повешение очередной ведьмы вроде престарелой матушки Хиббинс, ожесточившей свое сердце злокозненной судейской вдовы. На каждой из таких церемоний лица зрителей сохраняли бы одинаковое выражение торжественной серьезности, приличествующее людям, в сознании которых религия и закон были теснейшим образом связаны и переплетены, а наказание, как легкое, так и самое суровое, вызывало одинаковое смешанное со страхом благоговение. Вряд ли сочувствие могло шевельнуться в душах зрителей, стоящих возле эшафота. С другой стороны, наказание, призванное лишь устыдить оступившегося и встречаемое в наши дни лишь насмешкой, в то время отправлялось с суровостью, никак не меньшей суровости смертного приговора.
Следует отметить также, что в толпе, собравшейся в достопамятное летнее утро, знаменующее собой начало нашего рассказа, особый интерес к предстоящему наказанию проявляли находившиеся в толпе женщины. Тот век не отличался утонченностью, и потому ни возраст, ни чувство некоторой неловкости, которую создавали для других их громоздкие одеяния с пышными, в фижмах, юбками не мешали, энергично проталкиваясь увесистым телом, пробираться, насколько возможно, в первые ряды, к самому эшафоту. И нравственно, и физически эти жены и девы, рожденные и выпестованные еще старой доброй Англией, были грубее своих потомков, отделенных от них шестью-семью поколениями, ибо в череде лет с передачей наследственных признаков каждая мать наделяла свою дщерь румянцем все менее ярким, а красотой все более тонкой и недолговечной, воплощенной в массе не столь солидной, хоть и несшей дух столь же непреклонный, как и ее собственный.
Женщины, стоявшие сейчас возле тюремной двери, менее чем на полвека были отдалены от времени, когда мужеподобная Елизавета выглядела вполне приемлемой представительницей своего пола. Они были ее соплеменницами и землячками, и говядина с элем родной их страны, как и столь же незамысловатая пища духовная, оказали значительное влияние на их внешность.
Вот почему утреннее солнце лило теперь свой свет на их мощные широкие плечи, полновесные, хорошо развитые груди и круглые румяные щеки, взращенные далеким островом и ничуть не утратившие округлости и не поблекшие в атмосфере Новой Англии. Более того, таков же был источник смелой откровенности речей сих матрон, каковыми они в большинстве своем являлись, речей, громогласность которых в наши дни показалась бы устрашающей.
– Скажу вам откровенно, добрые мои подруги, – сказала одна из них, женщина лет пятидесяти с тяжелыми и грубыми чертами лица, – очень полезно было бы для всего нашего сообщества, если б дело этой мерзавки Эстер Принн передали для разбирательства нам, зрелым, почтенным женщинам, пользующимся всеобщим уважением как добропорядочные члены церкви. Что думаете вы, сударыни? Предстань эта развратница перед судом нашей сплоченной пятерки, разве отделалась бы она тогда приговором, который вынесла ей коллегия судей, да благослови их Господь? Убей меня, я того не думаю!
– Говорят, – заметила другая, – преподобный Димсдейл, ее духовный наставник, был уязвлен в самое сердце таким скандалом в его приходе.
– Судьи, конечно, люди боголюбивые, – присоединила свой голос третья клонящаяся к закату матрона. – Но было бы куда правильнее припечатать каленым железом лоб этой Эстер Принн. Вот такое клеймо заставило бы мадам содрогнуться, не сомневаюсь. А так, какое дело этой вертихвостке до того, что там прицеплено к ее платью! Прикрой это брошкой или еще какой-нибудь языческой побрякушкой и гуляй себе по городу как ни в чем не бывало!
– И все же, – робко вступила в беседу молодая женщина, державшая за руку ребенка, – прикроет она знак или нет, все равно он до скончания дней будет жечь ей грудь!
– Да что мы все о знаках – на лбу или на платье – какая разница! – вскричала еще одна из женщин, самая безобразная и самая неумолимая из этих доморощенных судей. – Она нас всех опозорила и заслуживает смерти! Разве это не справедливо? Есть, точно есть, как в Писании, так и в своде законов. И пусть сердобольные судьи пеняют на себя и рвут на себе волосы, когда собственные их жены и дочери пойдут по ее стопам и пустятся во все тяжкие!
– Помоги нам Господь, благочестивые женщины, – воскликнул стоявший в толпе мужчина, – если нет в наших женах добродетели иной, нежели та, что рождена страхом перед виселицей. Уж слишком вы жестокосердны! А теперь хватит болтать – затвор в двери повернулся, и вот она, госпожа Принн собственной персоной!
Дверь тюрьмы распахнулась, и первой, подобная черной тени на ярком солнечном свете, явилась угрюмая, зловещая фигура судебного пристава с мечом у пояса и жезлом – знаком его должности – в руке. Фигура эта всем видом своим знаменовала и воплощала мрачную суровость пуританского законодательства, которое он и призван был применять к преступнику неукоснительно и со всею строгостью. Державшая жезл левая рука пристава была простерта вперед, в то время как правой он касался плеча молодой женщины, понуждая ее тем самым двигаться. Уже стоя в дверях, жестом, исполненным достоинства и свидетельствующим о силе характера, она отвела его руку и словно по собственной воле шагнула навстречу толпе. На руках она держала дитя, младенца месяцев трех от роду, который моргал и отворачивал личико от слишком яркого света, ибо до той поры знаком ему был лишь тусклый сумрак узилища.
Когда молодая женщина – мать ребенка – уже в полной ясности предстала перед толпой, первым ее побуждением, как это казалось, стала потребность прижать дитя к груди, не столько в приливе материнских чувств, сколько из-за желания прикрыть некий знак, запечатленный на ее платье – прикрепленный либо пришитый к нему. Но в следующее мгновение, справедливо решив, что одно свидетельство позора не может служить прикрытием другому его свидетельству, она, ловчее подхватив ребенка, уложила его у себя на руках и, вспыхнув горячим румянцем, но сохраняя на лице горделивую улыбку, не смущаясь обвела взглядом толпу своих сограждан и соседей. На лифе ее платья вырезанная из красной ткани и обрамленная затейливой вязью вышитого золотой нитью орнамента сияла и переливалась буква «А»[16 - «А» – первая буква английского слова adulteress – прелюбодейка.]. Выполнена она была столь мастерски, с таким изобилием фантазии, что казалась изысканным украшением, замечательно подходящим одеянию, сшитому в соответствии с модой и вкусами того времени, но далеко превосходившему пределы роскоши, дозволяемой принятыми в колонии порядками.
Молодая женщина была высокого роста и обладала фигурой поистине, можно сказать, идеальной. Ее темные волосы, пышные и густые, блестели на солнце и словно отражали солнечный свет, а лицо, помимо правильности черт и замечательного цвета, делавших его прекрасным, отличалось особой выразительностью, которую придавали благородный лоб и вдумчивая глубина черных глаз. У женщины этой был вид настоящей аристократки, леди в понятиях того времени, когда признаками аристократизма в женщине считалась не столько изящная и хрупкая грация, как видится нам это сейчас, сколько степенность и достоинство. Что же до Эстер Принн, то никогда не выглядела она большей аристократкой в старинном понимании этого слова, чем в тот момент, когда выходила из двери тюрьмы. Те, кто знал женщину, ожидал увидеть ее померкшей и униженной, были удивлены и даже изумлены, став свидетелями сияющей красоты ее, будто ореол несчастья и позор лишь сделали ее еще краше. Хотя чуткий наблюдатель, возможно, и приметил бы в ее облике следы скрытого страдания. Ее наряд, который она сшила в тюрьме специально к этому случаю и который подсказали ей ее фантазия и обуявшее ее вдруг настроение отчаянной и дерзкой смелости, отличался яркой и живописной оригинальностью. Но особенно приковывала все взоры, преображая Эстер Принн так, что все – и мужчины, и женщины, казалось, увидели ее впервые, АЛАЯ БУКВА, сиявшая в своем прихотливом узоре на груди. Как некое заклятие, буква эта отделяла Эстер от всех прочих людей, как коконом, окружая особой аурой.
– Неплохо она иглой владеет, ничего не скажешь, – заметила одна из стоящих в толпе женщин. – Ну кто другой, кроме такой бесстыжей потаскухи, набравшись наглости, посмел бы это свое умение людям в глаза тыкать! Что это, подруги, как не насмешка, брошенная в лицо почтенным судьям, и не попытка похваляться тем, что эти достойные джентльмены выбрали ей в наказание!
– Вот сорвать бы с ее цыплячьих плечиков, – пробормотала самая злобная из старых дам, – богатое платье! Что же до красной буквы, которой она так забавно его изукрасила, то лучше б я пожертвовала ей для этой цели клочок теплой фланелевой тряпки, которой я больное место обертываю, когда ревматизм одолевает! Все приличнее было бы!
– Ой, потише, соседушки, – прошептала ее молодая товарка, – негоже ей вас слушать, ведь каждый стежок в этой вышивке ей болью в сердце отзывается!
Суровый пристав взмахнул жезлом:
– Дорогу, добрые люди! Именем короля дайте пройти! – крикнул он. – Освободите проход, и я обещаю вам расположить госпожу Принн так, что каждый, будь то мужчина, женщина либо ребенок, сможет любоваться смелым ее нарядом, начиная с этой минуты до часу пополудни! Да благословит Господь добродетельных жителей колонии Массачусетс, где беззаконие бывает выявлено и выставлено на позор! Вперед, мадам Эстер, покажите всей площади вашу Алую букву!
В толпе зевак образовался проход, и вслед за приставом, сопровождаемая нестройной вереницей насупленных мужчин и непреклонных женщин, Эстер Принн двинулась к месту своего наказания. Ватага бойких и любопытных школяров бежала впереди процессии. Мало что понимая из происходящего помимо того, что их на полдня освободили от занятий, дети то и дело оглядывались, чтобы поглазеть на женщину, на ее ребенка и на позорный знак у нее на груди. В те дни расстояние от дверей тюрьмы до рыночной площади было небольшим. Однако, учитывая то, что приходилось терпеть женщине на всем протяжении пути, его следует признать значительным, ибо вопреки горделивой ее осанке, каждый шаг откликался в ней болью от обращенных на нее взглядов, словно самое сердце ее было вырвано и брошено под ноги собравшимся, чтобы его пинали и топтали. И все же натура наша устроена с учетом некоего условия, чудесного и благодетельного, поскольку позволяет оно нам испытывать самую острую боль не в тот момент, когда она охватывает нас, а главным образом потом, когда является уже в воспоминании. Благодаря этому свойству часть мучительного испытания своего Эстер Принн прошла с видом почти безмятежным, приблизившись к подобию эшафота, высившегося на западном краю рыночной площади едва ли не под сводами самой старой из бостонских церквей и, казалось, утвердившегося там прочно и надолго.
Эшафот этот являлся неотъемлемой принадлежностью тогдашнего карательного инструментария, той его частью, которая ныне, по окончании жизненного срока двух или трех поколений, сохранила лишь статус исторической реликвии и традиции, но в свое время считавшейся весьма эффективным способом нравственного воспитания, точно таким же, каким французы во времена террора почитали гильотину. Строго говоря, это был всего лишь помост, над которым высилась особой конструкции рама, плотно обхватывавшая голову человека и удерживавшая ее в таком положении, чтобы наказуемый не мог ее опустить, избегнув тем самым взглядов публики. Это сработанное из железа и дерева устройство было идеальным воплощением наивысшего позора, которому можно подвергнуть человека, ибо нет унижения горше, чем запрет провинившемуся стыдливо укрыть от взглядов лицо свое, в чем и состояли смысл и цель наказания. Однако в случае с Эстер Принн, как нередко и в других случаях, приговором ей предписывалось лишь пребывать некоторое время на помосте без того, чтоб шею и голову ее помещали в тиски, не дававшие ей шевельнуться, другими словами, от самой дьявольской и безобразной части наказания она была избавлена. Осведомленная в том, что ей предстоит, она поднялась по деревянным ступеням помоста, явив себя таким образом окружающей толпе и вознесясь на высоту мужского роста над улицей.
Случись в этой толпе пуритан какой-либо папист, он мог бы усмотреть в красивой женщине, так живописно выглядевшей в своем одеянии и с ребенком на руках, сходство с образом Богоматери, в изображении коего соревновались между собой прославленные художники. Сходство тут, правда, присутствовало скорее всего по контрасту, потому что если в картинах, символизирующих непорочное материнство, изображено бывает дитя, призванное искупить грехи человеческие, то здесь грех, проникший в самую священную область нашего существования, осквернил ее собой и сделал так, что красота женщины лишь омрачала все вокруг и жизнь представлялась безнадежной для рожденного во грехе младенца.
Картину эту толпа наблюдала со своего рода благоговением, каковое лицезрение вины и стыда ближнего всегда вызывало в людях, прежде чем общество развратилось настолько, чтобы научиться улыбаться там, где следовало бы содрогнуться. Впрочем, свидетели позора Эстер Принн, еще не изжившие в себе простодушия, хотя и были достаточно суровы, чтобы без ропота встретить и казнь ее, будь она приговорена к последней, все же не отличались свойственным иным общественным укладам бессердечием, когда зрелище, подобное описываемому, становится лишь поводом для шуток. Если б даже и возникло в толпе желание посмеяться над происходящим, оно было бы пресечено и уничтожено торжественным присутствием здесь достойнейших лиц, таких как губернатор и ряд его советников, судья, генерал и городское священство, сидевшие или стоявшие на балконе молитвенного дома и глядевшие оттуда вниз на помост. Коли такие важные лица сочли возможным почтить церемонию своим присутствием без риска уронить свой статус и авторитет, значит, можно было смело и с полным правом счесть исполнение судебного решения вещью серьезной и значимой. Соответственно выглядела и толпа, хранившая вид угрюмый и мрачный. Несчастная виновница старалась держаться бодро, насколько это дозволяло ей ее женское естество, и стойко несла на себе груз тысяч безжалостных, пронзительных взглядов, в особенности на запечатленный на ее груди знак. Вынести это было почти невозможно. Обладая натурой пылкой и страстной, она была готова встретить оскорбления и ядовитые реплики, выражающие всеобщее порицание и неприязнь, но глухое молчание расступавшейся толпы оказалось страшнее. Уж лучше бы неподвижность этих лиц исказила гримаса веселья и издевательской насмешки. Раздайся вдруг грохот от звуков, вырвавшихся из груди каждого в этой толпе – мужчины, женщины или визгливого мальчишки – и слейся все эти звуки в общий хохот, и Эстер Принн могла бы ответить им всем горькой презрительной усмешкой. Но нет, ей предстояло терпеть это свинцовое, тяжелое молчание, и были мгновения, когда ей хотелось издать громкий, отчаянный крик и броситься вниз с помоста, только бы не сойти с ума.
И все же случались промежутки, когда вся картина, в центре которой была она сама, как бы ускользала от ее взора или же меркла, окутываясь словно туманным облаком, превращавшим все вокруг в призрачные тени. Тогда сознание Эстер и в особенности память обретали удивительную живость, рождая иные образы, совсем не те, что являла эта убогая улица городишки, затерянного на краю дикой Западной местности; выплывали другие лица, не те, что взирали на нее из-под надвинутых на лоб островерхих шляп. Воспоминания, пустяковые, мимолетные, случаи времен ее детства и школьных лет, разные игры, ребяческие забавы, ссоры, мелочи ее жизни дома в юности возвращались вновь, тесня друг друга, мешаясь с воспоминаниями о том серьезном и суровом, что наступило позже, и каждая картина, каждый образ не уступал другому в яркости, словно все они были одинаково важными и ценными или же, напротив, игрушечными, ненастоящими. Возможно, таков был защитный механизм, инстинктивная уловка в попытках уйти от фантасмагории образов и форм окружающей реальности, облегчив тем самым боль от сгибавшей ее плечи тяжкой и неизбывной ноши.
Как бы там ни было, помост, на котором стояла ныне Эстер, служил ей точкой обзора, откуда она могла охватить взглядом весь путь, пройденный ею со времен ее счастливого детства. Стоя на этом ничтожном возвышении, она созерцала вновь родное селение в старой Англии, отчее гнездо свое – это обветшалое строение из серого камня со следами бедности, но с сохранившимся над входом облупленным гербом – свидетельством древности ее рода. Она видела отцовское лицо – залысины на лбу, почтенная седая борода прикрывает старомодные елизаветинские брыжи; видела мать, глядевшую на нее с выражением боязливо затаенной любви на лице, озаренном отсветом былой девической красоты; этот взгляд сохранился в памяти Эстер и после материнской кончины, наполняя любовью всю ее жизнь и всегда, во всех хитросплетениях ее судьбы служа ей тихим укором.
Себя же Эстер видела лишь отражением в зеркале, в котором можно было разглядеть и другое лицо – мужчины, несшего на себе бремя лет, бледное, тонкое лицо ученого с глазами, воспаленными от света лампы, неизменно служившей ему в долгие часы чтения объемистых ученых фолиантов. Но затуманенный взор этих глаз странным образом обретал силу и зоркость, когда владелец их вознамеривался проникнуть в душу человека. Фигура этого кабинетного и монастырского затворника, как это ясно вспоминалось Эстер, была несколько асимметрична – левое плечо немного выше правого. И вслед за этим воспоминанием тут же в памяти возникала путаная сеть узких улочек и проулков с высокими серыми домами, огромными соборами и общественными учреждениями в зданиях старинного вида и причудливой архитектуры – приметы большого города на континенте, где ее ожидала новая жизнь, по-прежнему связанная с кособоким ученым – жизнь новая, но питаемая прежним изъеденным временем, ветхим, трухлявым материалом, подобно зеленому мху, произрастающему на руинах порушенной стены. А напоследок, вместо череды сменяющих друг друга сцен и образов, опять вернулась грубая простота рыночной площади в пуританском поселении с его обитателями, собравшимися вместе, чтобы пронизывать взглядами ее, Эстер Принн, вознесенную на этот помост и стоящую на нем с ребенком на руках и буквой «А», в причудливом обрамлении золотых нитей сияющей на груди.
Может ли быть такое? Она прижала к себе ребенка с такой страстью, что он пискнул, и, опустив взгляд, вперилась в эту букву и даже тронула ее пальцем, дабы убедиться, что ее позор, как и ее ребенок, самое что ни на есть настоящее. Да! Это теперь ее жизнь, остального же больше не существует.
Глава 3
Встреча
От ясного и мучительного осознания того, что именно она стала объектом всеобщего пристального внимания, женщину с алой буквой на груди отвлекла фигура из толпы, стоявшая в самых задних ее рядах, моментально и всецело захватившая все ее помыслы. Там находился и индеец в туземном своем наряде, но краснокожие столь часто забредали в английские поселения, что появление, да еще в такой момент, одного из них, вряд ли заставило бы Эстер Принн забыть обо всем вокруг. Но рядом с этим индейцем, по-видимому, пришедший вместе с ним, стоял белый человек, одетый в странную смесь платья цивилизованного, европейского, с местным дикарским.
Он был невелик ростом, с лицом, изборожденным морщинами, которые пока что не могли с определенностью свидетельствовать о возрасте. Черты его изобличали ум, отточенный учеными занятиями, чрезмерностью и продолжительностью своей повредившими его физической форме, что сказалось со всей очевидностью на его облике. При всей небрежности наряда он все же постарался скрыть либо приуменьшить видимую особенность своей фигуры, мгновенно замеченную и Эстер, – неровность плеч, одно из которых было выше другого. И при первом же взгляде на тонкие его черты и легкую неправильность фигуры Эстер вновь судорожно прижала к груди ребенка с силой, исторгшей у несчастного младенца новый крик боли. Однако мать словно не слышала этого крика.
С самого прибытия на рыночную площадь и какое-то время, пока Эстер его не заметила, взгляд мужчины постоянно обращался к ней, поначалу словно в рассеянности, как смотрят люди, привыкшие глядеть главным образом внутрь себя, те, кому нет никакого дела до событий внешнего мира, не имеющих отношения к собственным их душевным движениям. Вскоре, однако, взгляд его стал пристальным и пронизывающим. Ужас, исказивший его черты, скользнув по лицу, подобно змее, на секунду мелькнул в его взгляде. Лицо его потемнело от волнения, которое он мгновенным усилием воли сумел в себе подавить, и теперь выражение лица его могло показаться исполненным спокойствия. Одно мгновение – и конвульсия боли, исказившая черты, их покинула, нырнув в глубь естества его и там себя исчерпав. Когда мужчина встретил устремленный на него взгляд Эстер Принн и понял, что она его узнала, он, медленно и спокойно подняв палец, покачал им в воздухе, после чего приложил к губам.
Затем, тронув за плечо стоявшего рядом горожанина, он со всею вежливостью и предупредительностью осведомился:
– Не будете ли любезны просветить меня, сэр, кто эта женщина и за что подвергают ее подобному позору?
– Вы, видимо, человек пришлый, дружище, – ответствовал горожанин, с любопытством оглядывая вопрошавшего в его дикарском наряде, а также первобытного его спутника, – иначе вы, несомненно, слыхали бы о миссис Эстер Принн и греховных ее деяниях. Они вызвали большой скандал в приходе преподобного Димсдейла, среди его паствы, уверяю вас.
– Вы были совершенно правы, – согласился его собеседник, – когда заключили, что я человек пришлый. Не по своей воле став скитальцем и испытав череду печальных злоключений на море и на суше, я долго томился в плену у племени язычников, обретающихся к югу отсюда, а ныне доставлен этим вот индейцем сюда с целью избавить меня от плена за определенную мзду. Так расскажите же мне, умоляю, об этой Эстер Принн, если я не перепутал имя; чем оскорбила она всех и что привело ее на этот эшафот?
– Думаю, сердце ваше возликует, дружище, – изрек горожанин, – от отрадного сознания, что после долгих мытарств и пребывания в диких дебрях вы наконец оказались в краю, где беззаконие бывает выявлено и наказано, как это происходит сейчас на глазах у всего народа и правителей его у нас в хранимой Господом Новой Англии! Да будет вам известно, сэр, что женщина сия являлась супругой некоего высокоученого человека, англичанина по рождению, но долгое время проживавшего в Амстердаме, откуда уже довольно давно он замыслил перебраться, связав свою судьбу с нами, жителями Массачусетса. С этим намерением он отправил сюда жену, вперед себя, так как самого его задержали в Амстердаме дела. Прожив здесь в Бостоне года два или несколько меньше и не имея известий о высокоученом своем супруге мистере Принне, молодая его жена, оставшаяся без должного попечения и руководства и предоставленная лишь собственным дурным помыслам и заблуждениям…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: