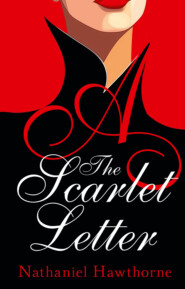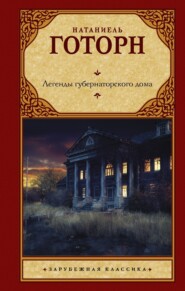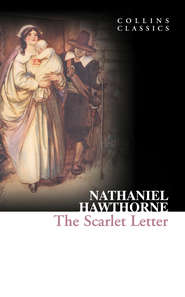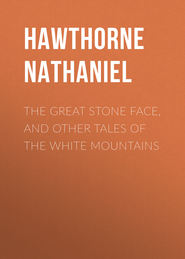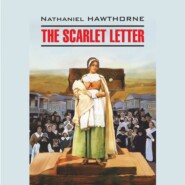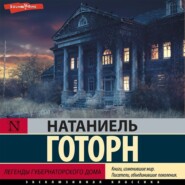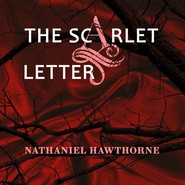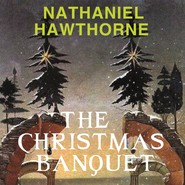По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дом о Семи Шпилях
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ах, мистер Хоулгрейв! – сказала она, лишь только получила способность говорить. – Я никогда в этом не успею! Никогда, никогда, никогда! Я бы желала лучше не существовать и лежать в старом фамильном нашем склепе вместе с моими предками, с моим отцом и матерью, с моими сестрами, да, и с моим братом, которому было бы приятнее видеть меня там, чем здесь! Свет слишком холоден и жесток, а я слишком стара, слишком бессильна, слишком беспомощна!
– Поверьте мне, мисс Гефсиба, – спокойно сказал молодой человек, – что эти чувства перестанут смущать вас, лишь только вы сделаете первый успех в вашем предприятии. Теперь они неизбежны: вы появились на свет из вашего долгого затворничества и населяете мир мечтательными фигурами; но погодите – вы скоро увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских повестях. Для меня поразительнее всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом действительном нашем прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами.
– Но я женщина! – сказала жалобно мисс Гефсиба. – Я хотела сказать, леди, но это уже не воротится.
– Так и не будем толковать об этом! – отвечал дагеротипист. – Забудьте прошедшее. Для вас будет лучше. Я говорю с вами откровенно, милая моя мисс Пинчон, мы ведь друзья? И считаю этот день одним из счастливейших в вашей жизни. Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор живая кровь постепенно охлаждалась в ваших жилах от сиденья в одиночестве в очарованном кругу, между тем как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же у вас проявилось здравое усилие к достижению полезной цели, теперь вы сознательно приготовляете свои силы, как бы они ни были слабы, к деятельности. Это уже успех, успех для всякого, кто только будет иметь с вами дело! Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я хочу прогуляться по морскому берегу, потом вернусь в свою комнату и примусь за злоупотребление благословенных лучей солнца, которые рисуют для меня человеческие лица. С меня довольно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько стоит полдюжины?
– Позвольте мне не отвечать на это! – сказала Гефсиба со старинной величавостью, которой меланхолическая улыбка придала некоторую грацию. Она вручила пришедшему сухари и отказалась от платы. – Женщина из дома Пинчонов, – сказала она, – ни в каком случае не должна под своей кровлею принимать денег за кусок хлеба от своего единственного друга!
Хоулгрейв вышел, оставив ее не в таком тягостном, как прежде, расположении чувств. Скоро, однако, они опять приняли прежнее состояние. С биением сердца Гефсиба прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые стали появляться на улице все чаще. Раз или два шаги как будто останавливались, незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гефсибы. Она страдала: во-первых, от подавлявшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные глаза имеют право смотреть в ее окно, а во-вторых, от мысли, что окно не было убрано ни так искусно, ни так заманчиво, как могло бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависело от выставки разных вещей или от замены лучшим яблоком другого, которое было в пятнах; и вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки дело становилось хуже прежнего, она не замечала, что это происходило только от ее нервозного расположения и от мнительности, которая все представляет в неблагоприятном виде.
Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам их. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому.
– Посмотри-ка! – вскричал он. – Что ты об этом скажешь? И на Пинчоновой улице завелась торговля!
– Да, да! Признаюсь, штука! – воскликнул другой. – В старом Пинчоновом доме и под Пинчоновым вязом! Кто бы этого ожидал? Старая девица Пинчон завела мелочную лавочку!
– А как ты думаешь, Дикси, пойдет у нее дело на лад? – спросил его приятель. – По-моему, это не слишком выгодное место. Тут за углом есть другая лавочка.
– Пойдет ли? – вскричал Дикси с таким выражением, как будто трудно было допустить и мысль об этом. – Куда ей! Она такая странная! Я видал ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если только вздумает торговаться с нею. То есть, я тебе говорю, просто нет мочи! Она ужасно хмурится, есть ли, нет ли за что… так, из одной злости.
– Что ж за беда? – заметил другой человек. – И я тоже скажу – куда ей! Держать мелочную лавочку не так-то легко: тут надобно хлопотать с толком, не то что в ином прочем месте. Это я знаю по своему карману. Жена моя держала мелочную лавку три месяца, да вместо барыша получила пять долларов убытку!
– Плохо дело! – отвечал Дикси таким тоном, по которому было видно, что приятели потрясли друг другу руки. – Плохо дело!
Трудно объяснить почему, только мисс Гефсиба во всех предшествовавших мучениях по случаю своей торговли едва ли испытывала более горькое чувство, нежели то, какое возбуждено было в ней было этим разговором. Свидетельство о ее нахмуренном взгляде имело для нее ужасную важность: с ее образа вдруг спала обманчивая оболочка, и он представился ей в таком виде, что у нее не хватало духу смотреть на него. Она была странно поражена неблагоприятным впечатлением, какое произвела открытая ею лавочка – предмет такого трепетного для нее интереса – на публику в лице этих двух ближайших ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, молвили два слова мимоходом, засмеялись и, без сомнения, позабыли о ней, прежде чем повернули за угол. Предсказание неудачи, сделанное на основании опыта, пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же может затворница в течение половины всей жизни, совершенно неопытная в житейских делах, – как может она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой Англии, потеряла пять долларов на своих мелочных товарах! Успех представлялся бедняжке невозможностью, а надежда на него – нелепым самообольщением.
Какой-то злобный дух, употребляя все усилия, чтоб обморочить Гефсибу, развернул перед ее воображением род панорамы, представляющей большой торговый город, населенный купцами. Какое множество великолепных лавок! Колониальные товары, игрушечные лавки, магазины материй, со своими огромными стеклами, с великолепными полками с правильной сортировкой товаров, посредством которых состояние растет ежеминутно, и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивающие богатство их в прозрачной глубине своей! И в то время, когда с одной стороны улицы виден был ей этот роскошный рынок со множеством надушенных и лоснящихся купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющих материи, с другой представлялся мрачный Дом о Семи Шпилях, с устарелым окном лавочки под выступом верхнего этажа, и сама она, в платье из плотной шелковой материи, за конторкою, хмурящаяся на проходящих мимо людей! Этот разительный контраст неотступно носился у нее перед глазами как самое красноречивое выражение невзгоды, при которой она решилась бороться с нуждой за свое существование. Успех? Нелепость! Она никогда больше не станет ожидать его! Дом ее будет покрыт вечной мглой, в то время когда другие дома будут сиять в лучах солнца, и ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь!
Но в ту самую минуту, как она так думала, над головой Гефсибы зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди как бы прикреплено было к той же самой стальной пружине, потому что и оно было резко потрясено несколько раз подряд, вторя звукам колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя сквозь окно в ней не было заметно на наружной стороне никакой человеческой фигуры. Несмотря на то, Гефсиба всматривалась пристально, со сложенными руками.
«Господи, помоги мне! – воззвала она мысленно. – Испытание мое наступило!»
Дверь, повертывавшаяся с трудом на своих скрипучих заржавленных петлях, уступила наконец усилию входившего, и перед Гефсибой появился толстый мальчуган с красными, как яблоко, щеками. Он был одет в убогие лохмотья (что, как казалось, происходило скорее от беззаботности матери, чем от убожества отца). На нем были какой-то синий балахон, очень широкие и короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой показывали, что он был по дороге в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гефсибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась.
– Что, дитя мое, – сказала она, приободрившись при виде столь неопасной особы, – что тебе надобно?
– Вот этого Джим-Кро, что на окне, – отвечал мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. – Того, что с целыми ногами.
Гефсиба вытянула свою худую руку и, достав фигуру с окна, отдала покупателю.
– Не нужно денег, – сказала она, толкнув его слегка к двери, потому что ей казалось такой жалкой мелочностью – взять у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. – Не нужно денег, я дарю тебе Джим-Кро.
Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, которой он никогда еще не испытывал в мелочных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогою. Но едва очутился на тротуаре, как уже голова Джим-Кро была у него во рту. Так как он не позаботился притворить за собой дверь, Гефсиба должна была сделать это сама, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности молодого народа, в особенности мальчишек. Она тотчас поставила другого представителя славного рода Джим-Кро на окно, как снова зазвенел громко колокольчик, опять отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лапочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны как нельзя явственнее вокруг его рта.
– Что тебе еще надо? – спросила новая лавочница с сильным нетерпением. – Ты воротился затворить дверь, что ли?
– Нет, – отвечал мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. – Дайте мне вон этого другого Джим-Кро.
– Хорошо, возьми, – сказала Гефсиба, доставая пряник, но, видя, что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: – Где же деньги?
Деньги у мальчика были наготове, только он, как природный янки, охотнее купил бы вещь повыгоднее. С некоторым сожалением он положил свою монету в руку Гефсибы и ушел из лавочки, отправив второго Джим-Кро той же дорогой, что и первого.
Новая торговка опустила первую свою выручку в денежный ящик. Дело совершилось. «Теперь, Гефсиба, ты уже не леди, ты просто Гефсиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавочки!»
И однако ж даже в то время, когда она обдумывала с некоторым тщеславием в своей голове такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина. Беспокойство и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и во время дневных грез с самого того времени, как новый план жизни утвердился в ее уме, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новость своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже что-то похожее на радость. Это происходило от укрепляющего дыхания свежего наружного воздуха после однообразного затворничества. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не чувствуем! Душевный жар, которого давно уже не знала Гефсиба, возродился в ней в момент кризиса, когда она впервые протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника, несмотря на то что была истерта службою, какую она служила там и сям по свету, обратилась в благодетельный талисман, заслуживавший того, чтобы его оправить в золото и носить на груди. Талисман этот был так же могуществен и, может быть, одарен таким же существенным влиянием, как и гальваническое кольцо! Во всяком случае, Гефсиба была обязана незаметному его действию переменой, какую она чувствовала в теле и в душе, тем более что он внушил ей энергию позавтракать, причем она для поддержания своей бодрости подлила лишнюю ложечку крепительной влаги в свой черный чай.
Первый день ее нового быта не прошел, впрочем, без нескольких промежутков в этой возрождающейся силе. Когда миновало первое возбуждение от деятельности, апатия прежней ее жизни угрожала овладеть Гефсибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет; наконец, перед наступлением ночи, он на время уступает яркому сиянию солнца, но завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами.
До наступления полудня время от времени появлялись новые покупатели, но очень редко и в некоторых случаях, надо сказать, без удовольствия и для себя, и для Гефсибы; в ящик тоже не слишком много опущено было денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить бумажных ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно тем, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета, и притом совсем гнилые. Потом приходила бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах, наподобие серебристых лент, – одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдалицу из-за нищеты и семейных огорчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гефсиба молча отказалась от ее платы и дала ей лучшую меру муки, нежели если б взяла деньги. Скоро после того явился мужчина в синем бумажном пальто, очень засаленном, и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом спиртуозных напитков, который не только вылетал на воздух в горячем его дыхании, но и струился изо всего его тела, подобно горючему газу. Гефсиба подумала: не муж ли это изнуренной трудами женщины? Он спросил папушу табаку, но так как она не позаботилась обзавестись этим товаром, ее грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то слова, выражавшие, конечно, брань. Гефсиба подняла к небу глаза.
Не меньше пяти человек до обеда спрашивали имбирного пива, или кореновки, или другого крепительного напитка и, не находя ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. Трое из них бросили дверь открытой настежь, а двое, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик разыграл настоящий дуэт с нервами Гефсибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома, нетерпеливо спрашивая дрожжей, и когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что она дрожжей не держит, бойкая кухарка не задумалась прочитать ей наставление.
– Мелочная лавочка без дрожжей, – лепетала она, – да это настоящая невидальщина! Слыханное ли дело? Ну, не подняться же вашему тесту, как и моему сегодня. Лучше сейчас закройте лавочку.
– Да, да, – отвечала с глубоким вздохом Гефсиба, – это едва ли не было бы лучше.
Кроме этих неприятных случаев, щекотливость бедной Гефсибы была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже ее покровителями и старшими. Гефсиба бессознательно льстила себя надеждой, что особа ее будет отличена каким-нибудь особенным названием, которое бы выражало почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет высказываться молчаливо. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чересчур резкое выражение этого почтения. Нескольким покупателям, слишком щедрым на участие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а против одного, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желания поглядеть на нее, она вооружилась даже презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, там за барыня, что вздумала, растратив молодость вдали от людей, засесть уже в конце жизни за конторкой. На этот раз механически и бессознательно нахмуренные брови Гефсибы очень ей пригодились.
– Никогда еще в жизни я не был так испуган! – говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомцу. – Это настоящая старая ведьма, право слово, ведьма! Говорит-то она мало, но посмотрел бы ты, сколько злости у нее в глазах!
Вообще новый опыт жизни повел нашу Гефсибу к весьма неприятным заключениям касательно характера и нрава низших слоев общества, на которые она до сих пор смотрела благосклонными и сострадательными глазами, так как сама помещена была в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она должна была бороться в то же время с сильным душевным волнением противоположного рода: мы разумеем чувство неприязни к высшему сословию, принадлежность к которому еще так недавно вызывало ее гордость. Когда какая-нибудь леди, в нежном и дорогом летнем костюме, с развевающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой эфирной легкостью, что вы невольно обратили бы глаза на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она праха или порхает по воздуху, – когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя на ней после себя нежный, привлекательный аромат, как будто пронесли здесь букет китайских роз, нахмуренные брови старой Гефсибы едва ли можно было объяснять близорукостью.
И потом, устыдившись саму себя и раскаявшись, она закрывала руками свое лицо.
– Да простит меня Господь! – говорила она.
Приняв во внимание внутреннюю и внешнюю историю первой половины дня, Гефсиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.
Глава IV
День за конторкой
Около полудня Гефсиба увидела проходящего мимо по противоположной стороне побелевшей от пыли улицы пожилого джентльмена, дородного и крепкого, с замечательно важными манерами. Он остановился в тени Пинчонова вяза и, сняв шляпу, чтобы вытереть выступивший у него на лбу пот, рассматривал, по-видимому, с особенным любопытством обветшалый и старообразный Дом о Семи Шпилях. Сам он в своем роде смотрелся такой же почтенной стариной, как и этот дом. Нельзя было желать, да и найти было бы невозможно более совершенного образца респектабельности, которая каким-то неизобразимым волшебством выражалась не только в его глазах и жестах, но и в покрое платья, согласуя как нельзя больше костюм с его владельцем. Не отличаясь, видимо, никакой осязаемой особенностью от костюмов прочих людей, он носил на себе печать какой-то особой важности, которая происходила, вероятно, от характера самого носителя, так как невозможно было вывести ее ни из материала, ни из покроя. Палка его с золотым набалдашником – подержанный уже посох из черного полированного дерева – отличалась тем же характером, и если б только вздумала прогуляться по городу одна, то везде бы была признана достаточно удовлетворяющей представительницей своего господина. Этот характер, выражавшийся во всем его окружающем так ясно, как нет возможности передать это словами, говорил, однако, не более как только о его положении в свете, привычках жизни и внешних обстоятельствах. В нем тотчас видна была особа знатная и сильная, а что он сверх того еще и богат, это было так же ясно для всякого, как если б он показал банковские билеты или если б он перед вами коснулся ветвей Пинчонова вяза и превратил их в золото.
В молодости своей он, вероятно, был замечательно красивым человеком. Теперь брови его были так густы, виски так жидки, остатки его волос так серы, глаза так холодны и губы так тесно сжаты, что ни одной из этих принадлежностей нельзя было отнести к красоте наружности. Теперь бы из него вышел славный массивный портрет – лучший, может быть, нежели в который-нибудь из прежних периодов его жизни, хотя взгляд его, переносимый постепенно на полотно, сделался бы в живописи решительно суровым. Художник охотно стал бы изучать его лицо и испытывать способность его к разным выражениям, то омрачающим его угрюмостью, то озаряющим улыбкой.
Когда пожилой джентльмен стоял, глядя на Пинчонов дом, угрюмость и улыбка мелькали поочередно на его лице. Глаза его остановились на окне лавочки. Надев на нос оправленные в золото очки, которые держал в руке, он подробно рассматривал маленькую выставку игрушек и других товаров Гефсибы. Сперва она ему как будто не понравилась, даже причинила ему большое неудовольствие, но потом он засмеялся. Когда улыбка не оставила еще лица его, он заметил Гефсибу, которая невольно наклонилась к окну, и смех его из едкого и неприятного превратился в снисходительность и благосклонность. Он поклонился ей с достоинством и учтивой любезностью, очень счастливо сочетавшимися, и продолжил свою дорогу.
– Это он! – сказала сама себе Гефсиба. Подавляя самое глубокое волнение, она была не в состоянии освободиться от этого чувства и старалась скрыть его в сердце. – Желала бы я знать, что думает он об этом. Нравится ли это ему? А! Он оборачивается!
Джентльмен остановился на улице и, повернув вполовину назад голову, опять глядел на окно лавочки. Он даже повернулся совсем и сделал шаг или два назад, как бы с намерением зайти в лавочку, но случилось, что его предупредил первый покупатель мисс Гефсибы, истребивший негра Джим-Кро. Остановившись против окна, мальчуган, казалось, испытывал непобедимую тягу к пряничному слону. Что за аппетит у него! Съел пару негров тотчас после завтрака, и теперь подавай ему слона вместо закуски перед обедом! Но прежде чем эта новая покупка была сделана, пожилой джентльмен отправился своим путем и повернул за угол улицы.
– Принимайте это, как вам угодно, кузен Джеффри! – бормотала про себя девушка-леди, когда он удалился, высунув, однако, сперва голову в форточку и осмотрев улицу в оба конца. – Принимайте, как вам угодно! Вы видели окно моей лавочки – что же? Что против этого можете вы сказать? Разве Пинчонов дом не моя собственность, пока я жива?
После этого Гефсиба удалилась в заднюю комнату, где она сегодня впервые принялась за недоплетенный чулок и начала работать с нервическими и неправильными ныряньями в него проволокою. Скоро, однако, работа ей наскучила, она бросила ее в сторону и начала ходить по комнате; наконец остановилась перед портретом мрачного старого пуританина, своего предка и основателя дома. В одном отношении это изображение почти вошло в холст и скрылось под вековой пылью, в другом – Гефсибе казалось, что оно не было яснее и выразительнее даже и во времена ее детства, когда она, бывало, рассматривала его. В самом деле, между тем как физические очертания и краски полуисчезли в нем для глаз зрителя, смелый, суровый и в некоторых случаях фальшивый характер оригинала, казалось, получил в этом портрете какую-то рельефность. Подобное явление случается нередко замечать в портретах отдаленного времени. Они приобретают выражение, которого художник (если только он был похож на угодливых художников нашей эпохи) никогда не думал придавать своему патрону как настоящую его характеристику, но которое с первого взгляда разоблачает перед нами истину души человеческой. Это значит, что глубокий взгляд художника во внутренние черты его субъекта выразился в самой сущности живописи и проявился тогда только, когда наружный колорит был изглажен временем.
Глядя на портрет, Гефсиба дрожала от действия глаз человека, запечатленного на портрете. Почтительность ее к этому изображению не позволяла ей производить в душе такого строгого суда о характере оригинала, какой внушало ей уразумение истины. Она продолжала, однако, смотреть на портрет, потому что это лицо давало ей возможность – по крайней мере, ей так казалось – вчитываться глубже в лицо, которое она только что видела на улице.
– Поверьте мне, мисс Гефсиба, – спокойно сказал молодой человек, – что эти чувства перестанут смущать вас, лишь только вы сделаете первый успех в вашем предприятии. Теперь они неизбежны: вы появились на свет из вашего долгого затворничества и населяете мир мечтательными фигурами; но погодите – вы скоро увидите, что они так же неестественны, как великаны и людоеды в детских повестях. Для меня поразительнее всего в жизни то, что все в нем теряет свое кажущееся свойство при первом действительном нашем прикосновении. Так будет и с вашими страшилищами.
– Но я женщина! – сказала жалобно мисс Гефсиба. – Я хотела сказать, леди, но это уже не воротится.
– Так и не будем толковать об этом! – отвечал дагеротипист. – Забудьте прошедшее. Для вас будет лучше. Я говорю с вами откровенно, милая моя мисс Пинчон, мы ведь друзья? И считаю этот день одним из счастливейших в вашей жизни. Сегодня кончилась одна эпоха и начинается другая. До сих пор живая кровь постепенно охлаждалась в ваших жилах от сиденья в одиночестве в очарованном кругу, между тем как мир сражался с той или иной необходимостью. Теперь же у вас проявилось здравое усилие к достижению полезной цели, теперь вы сознательно приготовляете свои силы, как бы они ни были слабы, к деятельности. Это уже успех, успех для всякого, кто только будет иметь с вами дело! Позвольте же мне иметь удовольствие быть первым вашим покупателем. Я хочу прогуляться по морскому берегу, потом вернусь в свою комнату и примусь за злоупотребление благословенных лучей солнца, которые рисуют для меня человеческие лица. С меня довольно будет на завтрак нескольких вот таких сухарей, размоченных в воде. Сколько стоит полдюжины?
– Позвольте мне не отвечать на это! – сказала Гефсиба со старинной величавостью, которой меланхолическая улыбка придала некоторую грацию. Она вручила пришедшему сухари и отказалась от платы. – Женщина из дома Пинчонов, – сказала она, – ни в каком случае не должна под своей кровлею принимать денег за кусок хлеба от своего единственного друга!
Хоулгрейв вышел, оставив ее не в таком тягостном, как прежде, расположении чувств. Скоро, однако, они опять приняли прежнее состояние. С биением сердца Гефсиба прислушивалась к шагам ранних прохожих, которые стали появляться на улице все чаще. Раз или два шаги как будто останавливались, незнакомые люди или соседи, должно быть, рассматривали игрушки и мелкие товары, размещенные на окне лавочки Гефсибы. Она страдала: во-первых, от подавлявшего ее стыда, что посторонние и недоброжелательные глаза имеют право смотреть в ее окно, а во-вторых, от мысли, что окно не было убрано ни так искусно, ни так заманчиво, как могло бы быть. Ей казалось, что все счастье или несчастье ее лавочки зависело от выставки разных вещей или от замены лучшим яблоком другого, которое было в пятнах; и вот она принималась переставлять свои товары, но тут же находила, что от этой перестановки дело становилось хуже прежнего, она не замечала, что это происходило только от ее нервозного расположения и от мнительности, которая все представляет в неблагоприятном виде.
Между тем у самой двери встретились двое мастеровых, как можно было заключить по грубым голосам их. Поговорив немного о своих делах, один из них заметил окно лавочки и сообщил об этом другому.
– Посмотри-ка! – вскричал он. – Что ты об этом скажешь? И на Пинчоновой улице завелась торговля!
– Да, да! Признаюсь, штука! – воскликнул другой. – В старом Пинчоновом доме и под Пинчоновым вязом! Кто бы этого ожидал? Старая девица Пинчон завела мелочную лавочку!
– А как ты думаешь, Дикси, пойдет у нее дело на лад? – спросил его приятель. – По-моему, это не слишком выгодное место. Тут за углом есть другая лавочка.
– Пойдет ли? – вскричал Дикси с таким выражением, как будто трудно было допустить и мысль об этом. – Куда ей! Она такая странная! Я видал ее, когда работал у нее в саду прошлым летом. Всякий испугается, если только вздумает торговаться с нею. То есть, я тебе говорю, просто нет мочи! Она ужасно хмурится, есть ли, нет ли за что… так, из одной злости.
– Что ж за беда? – заметил другой человек. – И я тоже скажу – куда ей! Держать мелочную лавочку не так-то легко: тут надобно хлопотать с толком, не то что в ином прочем месте. Это я знаю по своему карману. Жена моя держала мелочную лавку три месяца, да вместо барыша получила пять долларов убытку!
– Плохо дело! – отвечал Дикси таким тоном, по которому было видно, что приятели потрясли друг другу руки. – Плохо дело!
Трудно объяснить почему, только мисс Гефсиба во всех предшествовавших мучениях по случаю своей торговли едва ли испытывала более горькое чувство, нежели то, какое возбуждено было в ней было этим разговором. Свидетельство о ее нахмуренном взгляде имело для нее ужасную важность: с ее образа вдруг спала обманчивая оболочка, и он представился ей в таком виде, что у нее не хватало духу смотреть на него. Она была странно поражена неблагоприятным впечатлением, какое произвела открытая ею лавочка – предмет такого трепетного для нее интереса – на публику в лице этих двух ближайших ее представителей. Они только взглянули на нее в окно, молвили два слова мимоходом, засмеялись и, без сомнения, позабыли о ней, прежде чем повернули за угол. Предсказание неудачи, сделанное на основании опыта, пало на ее полумертвую надежду так тяжело, как падает земля на гроб, опущенный в могилу. Жена этого человека пробовала тот же промысел и понесла убытки. Как же может затворница в течение половины всей жизни, совершенно неопытная в житейских делах, – как может она мечтать об успехе, когда простолюдинка, расторопная, деятельная, бойкая уроженка Новой Англии, потеряла пять долларов на своих мелочных товарах! Успех представлялся бедняжке невозможностью, а надежда на него – нелепым самообольщением.
Какой-то злобный дух, употребляя все усилия, чтоб обморочить Гефсибу, развернул перед ее воображением род панорамы, представляющей большой торговый город, населенный купцами. Какое множество великолепных лавок! Колониальные товары, игрушечные лавки, магазины материй, со своими огромными стеклами, с великолепными полками с правильной сортировкой товаров, посредством которых состояние растет ежеминутно, и эти благородные зеркала в глубине каждого магазина, удваивающие богатство их в прозрачной глубине своей! И в то время, когда с одной стороны улицы виден был ей этот роскошный рынок со множеством надушенных и лоснящихся купцов, улыбающихся, смеющихся, кланяющихся и меряющих материи, с другой представлялся мрачный Дом о Семи Шпилях, с устарелым окном лавочки под выступом верхнего этажа, и сама она, в платье из плотной шелковой материи, за конторкою, хмурящаяся на проходящих мимо людей! Этот разительный контраст неотступно носился у нее перед глазами как самое красноречивое выражение невзгоды, при которой она решилась бороться с нуждой за свое существование. Успех? Нелепость! Она никогда больше не станет ожидать его! Дом ее будет покрыт вечной мглой, в то время когда другие дома будут сиять в лучах солнца, и ни одна нога не переступит через ее порог, ни одна рука не решится отворить дверь!
Но в ту самую минуту, как она так думала, над головой Гефсибы зазвенел колокольчик, точно силой какого-то колдовства. Сердце старой леди как бы прикреплено было к той же самой стальной пружине, потому что и оно было резко потрясено несколько раз подряд, вторя звукам колокольчика. Дверь начала отворяться, хотя сквозь окно в ней не было заметно на наружной стороне никакой человеческой фигуры. Несмотря на то, Гефсиба всматривалась пристально, со сложенными руками.
«Господи, помоги мне! – воззвала она мысленно. – Испытание мое наступило!»
Дверь, повертывавшаяся с трудом на своих скрипучих заржавленных петлях, уступила наконец усилию входившего, и перед Гефсибой появился толстый мальчуган с красными, как яблоко, щеками. Он был одет в убогие лохмотья (что, как казалось, происходило скорее от беззаботности матери, чем от убожества отца). На нем были какой-то синий балахон, очень широкие и короткие штаны, башмаки со стоптанными каблуками и изношенная соломенная шляпа, сквозь дыры которой пробивались его курчавые волосы. Книжка и небольшая аспидная доска под мышкой показывали, что он был по дороге в школу. Он смотрел несколько мгновений на Гефсибу, как сделал бы и более взрослый покупатель, не зная, что ему думать о трагической позе и сурово нахмуренных бровях, с которыми она в него всматривалась.
– Что, дитя мое, – сказала она, приободрившись при виде столь неопасной особы, – что тебе надобно?
– Вот этого Джим-Кро, что на окне, – отвечал мальчуган, держа в руке медную монету и указывая на пряничную фигуру, которая ему приглянулась, когда он плелся по улице в свою школу. – Того, что с целыми ногами.
Гефсиба вытянула свою худую руку и, достав фигуру с окна, отдала покупателю.
– Не нужно денег, – сказала она, толкнув его слегка к двери, потому что ей казалось такой жалкой мелочностью – взять у мальчика его карманные деньги за кусок черствого пряника. – Не нужно денег, я дарю тебе Джим-Кро.
Ребенок, выпучив на нее глаза при этой неожиданной щедрости, которой он никогда еще не испытывал в мелочных лавочках, взял пряничного человека и отправился своей дорогою. Но едва очутился на тротуаре, как уже голова Джим-Кро была у него во рту. Так как он не позаботился притворить за собой дверь, Гефсиба должна была сделать это сама, причем не обошлось без нескольких сердитых замечаний о несносности молодого народа, в особенности мальчишек. Она тотчас поставила другого представителя славного рода Джим-Кро на окно, как снова зазвенел громко колокольчик, опять отворилась дверь с характерным своим скрипом и дребезжанием, и опять показался тот же самый дюжий мальчуган, который не больше двух минут назад оставил лапочку. Крошки и краска от пиршества, которое он себе только что задал, были видны как нельзя явственнее вокруг его рта.
– Что тебе еще надо? – спросила новая лавочница с сильным нетерпением. – Ты воротился затворить дверь, что ли?
– Нет, – отвечал мальчуган, указывая на фигуру, которая только что была выставлена в окне. – Дайте мне вон этого другого Джим-Кро.
– Хорошо, возьми, – сказала Гефсиба, доставая пряник, но, видя, что этот нахальный покупатель не оставит ее в покое, пока у нее в лавочке будут пряничные фигурки, она отвела в сторону свою протянутую руку и спросила: – Где же деньги?
Деньги у мальчика были наготове, только он, как природный янки, охотнее купил бы вещь повыгоднее. С некоторым сожалением он положил свою монету в руку Гефсибы и ушел из лавочки, отправив второго Джим-Кро той же дорогой, что и первого.
Новая торговка опустила первую свою выручку в денежный ящик. Дело совершилось. «Теперь, Гефсиба, ты уже не леди, ты просто Гефсиба Пинчон, одинокая старая дева, содержательница мелочной лавочки!»
И однако ж даже в то время, когда она обдумывала с некоторым тщеславием в своей голове такие мысли, в сердце ее поселилась какая-то тишина. Беспокойство и мрачные предчувствия, которые мучили ее во сне и во время дневных грез с самого того времени, как новый план жизни утвердился в ее уме, теперь исчезли совершенно. Правда, она все еще чувствовала новость своего положения, но уже без волнения и страха. Время от времени душа ее испытывала даже что-то похожее на радость. Это происходило от укрепляющего дыхания свежего наружного воздуха после однообразного затворничества. Так живительна деятельность, так дивна сила, которой мы часто сами в себе не чувствуем! Душевный жар, которого давно уже не знала Гефсиба, возродился в ней в момент кризиса, когда она впервые протянула руки, чтобы спасти себя. Небольшая медная монета школьника, несмотря на то что была истерта службою, какую она служила там и сям по свету, обратилась в благодетельный талисман, заслуживавший того, чтобы его оправить в золото и носить на груди. Талисман этот был так же могуществен и, может быть, одарен таким же существенным влиянием, как и гальваническое кольцо! Во всяком случае, Гефсиба была обязана незаметному его действию переменой, какую она чувствовала в теле и в душе, тем более что он внушил ей энергию позавтракать, причем она для поддержания своей бодрости подлила лишнюю ложечку крепительной влаги в свой черный чай.
Первый день ее нового быта не прошел, впрочем, без нескольких промежутков в этой возрождающейся силе. Когда миновало первое возбуждение от деятельности, апатия прежней ее жизни угрожала овладеть Гефсибой снова. Так густые массы облаков часто омрачают небо, распространяя повсюду серый полусвет; наконец, перед наступлением ночи, он на время уступает яркому сиянию солнца, но завистливые тучи постоянно стремятся закрыть небесную лазурь своими мутными массами.
До наступления полудня время от времени появлялись новые покупатели, но очень редко и в некоторых случаях, надо сказать, без удовольствия и для себя, и для Гефсибы; в ящик тоже не слишком много опущено было денег. Маленькая девочка, посланная матерью купить бумажных ниток известного цвета, взяла моток, который близорукой старой леди показался совершенно тем, какой был нужен, но скоро прибежала назад с сердитым наказом от матери, что нитки не того цвета, и притом совсем гнилые. Потом приходила бледная, измученная трудами женщина, еще не старая, но с суровым выражением лица и уже с проседью в волосах, наподобие серебристых лент, – одна из тех нежных от природы женщин, в которых вы тотчас узнаете страдалицу из-за нищеты и семейных огорчений. Ей нужно было несколько фунтов муки. Гефсиба молча отказалась от ее платы и дала ей лучшую меру муки, нежели если б взяла деньги. Скоро после того явился мужчина в синем бумажном пальто, очень засаленном, и купил трубку, наполнив всю лавочку сильным запахом спиртуозных напитков, который не только вылетал на воздух в горячем его дыхании, но и струился изо всего его тела, подобно горючему газу. Гефсиба подумала: не муж ли это изнуренной трудами женщины? Он спросил папушу табаку, но так как она не позаботилась обзавестись этим товаром, ее грубый покупатель бросил на пол купленную им трубку и вышел из лавочки, бормоча какие-то слова, выражавшие, конечно, брань. Гефсиба подняла к небу глаза.
Не меньше пяти человек до обеда спрашивали имбирного пива, или кореновки, или другого крепительного напитка и, не находя ничего подобного, удалялись с величайшим неудовольствием. Трое из них бросили дверь открытой настежь, а двое, выходя, хлопнули ею так, что колокольчик разыграл настоящий дуэт с нервами Гефсибы. Однажды в лавочку ворвалась круглая, хлопотливая и раскрасневшаяся от кухонного огня служанка из соседнего дома, нетерпеливо спрашивая дрожжей, и когда бедная леди с холодной робостью объявила ей, что она дрожжей не держит, бойкая кухарка не задумалась прочитать ей наставление.
– Мелочная лавочка без дрожжей, – лепетала она, – да это настоящая невидальщина! Слыханное ли дело? Ну, не подняться же вашему тесту, как и моему сегодня. Лучше сейчас закройте лавочку.
– Да, да, – отвечала с глубоким вздохом Гефсиба, – это едва ли не было бы лучше.
Кроме этих неприятных случаев, щекотливость бедной Гефсибы была поражена фамильярным, если даже не грубым тоном, с каким к ней обращались покупатели. Они считали себя не только равными ей, но даже ее покровителями и старшими. Гефсиба бессознательно льстила себя надеждой, что особа ее будет отличена каким-нибудь особенным названием, которое бы выражало почтение к ней, или, по крайней мере, что это почтение будет высказываться молчаливо. Но, с другой стороны, ничто не мучило ее так жестоко, как чересчур резкое выражение этого почтения. Нескольким покупателям, слишком щедрым на участие, она отвечала очень отрывисто и сурово, а против одного, который, как ей показалось, зашел в лавочку не для покупок, а из злого желания поглядеть на нее, она вооружилась даже презрением. Бедняге вздумалось посмотреть, что, дескать, там за барыня, что вздумала, растратив молодость вдали от людей, засесть уже в конце жизни за конторкой. На этот раз механически и бессознательно нахмуренные брови Гефсибы очень ей пригодились.
– Никогда еще в жизни я не был так испуган! – говорил любопытный покупатель, описывая это приключение своему знакомцу. – Это настоящая старая ведьма, право слово, ведьма! Говорит-то она мало, но посмотрел бы ты, сколько злости у нее в глазах!
Вообще новый опыт жизни повел нашу Гефсибу к весьма неприятным заключениям касательно характера и нрава низших слоев общества, на которые она до сих пор смотрела благосклонными и сострадательными глазами, так как сама помещена была в сфере неоспоримо высшей. Но, к несчастью, она должна была бороться в то же время с сильным душевным волнением противоположного рода: мы разумеем чувство неприязни к высшему сословию, принадлежность к которому еще так недавно вызывало ее гордость. Когда какая-нибудь леди, в нежном и дорогом летнем костюме, с развевающейся вуалью и в изящно драпированном платье, одаренная притом такой эфирной легкостью, что вы невольно обратили бы глаза на ее изящно обутые ножки, как бы желая удостовериться, касается ли она праха или порхает по воздуху, – когда такое видение появлялось на ее уединенной улице, оставляя на ней после себя нежный, привлекательный аромат, как будто пронесли здесь букет китайских роз, нахмуренные брови старой Гефсибы едва ли можно было объяснять близорукостью.
И потом, устыдившись саму себя и раскаявшись, она закрывала руками свое лицо.
– Да простит меня Господь! – говорила она.
Приняв во внимание внутреннюю и внешнюю историю первой половины дня, Гефсиба начала опасаться, что лавочка повредит ей в нравственном отношении и едва ли принесет существенную пользу в отношении финансовом.
Глава IV
День за конторкой
Около полудня Гефсиба увидела проходящего мимо по противоположной стороне побелевшей от пыли улицы пожилого джентльмена, дородного и крепкого, с замечательно важными манерами. Он остановился в тени Пинчонова вяза и, сняв шляпу, чтобы вытереть выступивший у него на лбу пот, рассматривал, по-видимому, с особенным любопытством обветшалый и старообразный Дом о Семи Шпилях. Сам он в своем роде смотрелся такой же почтенной стариной, как и этот дом. Нельзя было желать, да и найти было бы невозможно более совершенного образца респектабельности, которая каким-то неизобразимым волшебством выражалась не только в его глазах и жестах, но и в покрое платья, согласуя как нельзя больше костюм с его владельцем. Не отличаясь, видимо, никакой осязаемой особенностью от костюмов прочих людей, он носил на себе печать какой-то особой важности, которая происходила, вероятно, от характера самого носителя, так как невозможно было вывести ее ни из материала, ни из покроя. Палка его с золотым набалдашником – подержанный уже посох из черного полированного дерева – отличалась тем же характером, и если б только вздумала прогуляться по городу одна, то везде бы была признана достаточно удовлетворяющей представительницей своего господина. Этот характер, выражавшийся во всем его окружающем так ясно, как нет возможности передать это словами, говорил, однако, не более как только о его положении в свете, привычках жизни и внешних обстоятельствах. В нем тотчас видна была особа знатная и сильная, а что он сверх того еще и богат, это было так же ясно для всякого, как если б он показал банковские билеты или если б он перед вами коснулся ветвей Пинчонова вяза и превратил их в золото.
В молодости своей он, вероятно, был замечательно красивым человеком. Теперь брови его были так густы, виски так жидки, остатки его волос так серы, глаза так холодны и губы так тесно сжаты, что ни одной из этих принадлежностей нельзя было отнести к красоте наружности. Теперь бы из него вышел славный массивный портрет – лучший, может быть, нежели в который-нибудь из прежних периодов его жизни, хотя взгляд его, переносимый постепенно на полотно, сделался бы в живописи решительно суровым. Художник охотно стал бы изучать его лицо и испытывать способность его к разным выражениям, то омрачающим его угрюмостью, то озаряющим улыбкой.
Когда пожилой джентльмен стоял, глядя на Пинчонов дом, угрюмость и улыбка мелькали поочередно на его лице. Глаза его остановились на окне лавочки. Надев на нос оправленные в золото очки, которые держал в руке, он подробно рассматривал маленькую выставку игрушек и других товаров Гефсибы. Сперва она ему как будто не понравилась, даже причинила ему большое неудовольствие, но потом он засмеялся. Когда улыбка не оставила еще лица его, он заметил Гефсибу, которая невольно наклонилась к окну, и смех его из едкого и неприятного превратился в снисходительность и благосклонность. Он поклонился ей с достоинством и учтивой любезностью, очень счастливо сочетавшимися, и продолжил свою дорогу.
– Это он! – сказала сама себе Гефсиба. Подавляя самое глубокое волнение, она была не в состоянии освободиться от этого чувства и старалась скрыть его в сердце. – Желала бы я знать, что думает он об этом. Нравится ли это ему? А! Он оборачивается!
Джентльмен остановился на улице и, повернув вполовину назад голову, опять глядел на окно лавочки. Он даже повернулся совсем и сделал шаг или два назад, как бы с намерением зайти в лавочку, но случилось, что его предупредил первый покупатель мисс Гефсибы, истребивший негра Джим-Кро. Остановившись против окна, мальчуган, казалось, испытывал непобедимую тягу к пряничному слону. Что за аппетит у него! Съел пару негров тотчас после завтрака, и теперь подавай ему слона вместо закуски перед обедом! Но прежде чем эта новая покупка была сделана, пожилой джентльмен отправился своим путем и повернул за угол улицы.
– Принимайте это, как вам угодно, кузен Джеффри! – бормотала про себя девушка-леди, когда он удалился, высунув, однако, сперва голову в форточку и осмотрев улицу в оба конца. – Принимайте, как вам угодно! Вы видели окно моей лавочки – что же? Что против этого можете вы сказать? Разве Пинчонов дом не моя собственность, пока я жива?
После этого Гефсиба удалилась в заднюю комнату, где она сегодня впервые принялась за недоплетенный чулок и начала работать с нервическими и неправильными ныряньями в него проволокою. Скоро, однако, работа ей наскучила, она бросила ее в сторону и начала ходить по комнате; наконец остановилась перед портретом мрачного старого пуританина, своего предка и основателя дома. В одном отношении это изображение почти вошло в холст и скрылось под вековой пылью, в другом – Гефсибе казалось, что оно не было яснее и выразительнее даже и во времена ее детства, когда она, бывало, рассматривала его. В самом деле, между тем как физические очертания и краски полуисчезли в нем для глаз зрителя, смелый, суровый и в некоторых случаях фальшивый характер оригинала, казалось, получил в этом портрете какую-то рельефность. Подобное явление случается нередко замечать в портретах отдаленного времени. Они приобретают выражение, которого художник (если только он был похож на угодливых художников нашей эпохи) никогда не думал придавать своему патрону как настоящую его характеристику, но которое с первого взгляда разоблачает перед нами истину души человеческой. Это значит, что глубокий взгляд художника во внутренние черты его субъекта выразился в самой сущности живописи и проявился тогда только, когда наружный колорит был изглажен временем.
Глядя на портрет, Гефсиба дрожала от действия глаз человека, запечатленного на портрете. Почтительность ее к этому изображению не позволяла ей производить в душе такого строгого суда о характере оригинала, какой внушало ей уразумение истины. Она продолжала, однако, смотреть на портрет, потому что это лицо давало ей возможность – по крайней мере, ей так казалось – вчитываться глубже в лицо, которое она только что видела на улице.