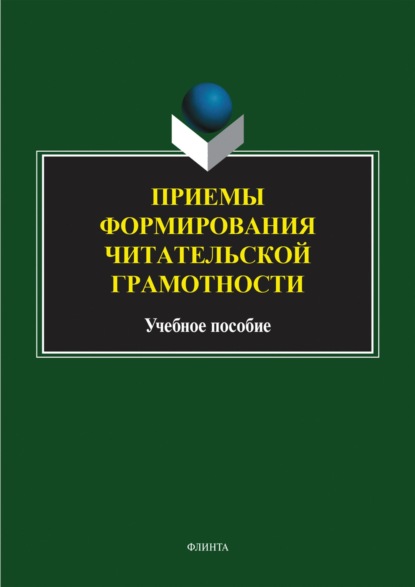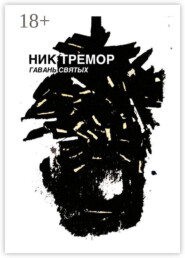По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Американо
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это все маяки, которые не ведут ни к каким островам. Цель может быть, наверное, только одна – и это само плавание. Зачем? Мы его не выбирали, чтобы теперь оправдывать. Черт, нас вбросили сюда нагими, в крови и с криком – о каком смысле идёт речь, если не о том, чтобы теперь просто как-то стараться плыть дальше. Выживать. Другой правды нет, дорогая. Либо я ее просто никогда не мог понять.
– Я не знаю, откуда брать силы, просто не знаю…
– Сейчас, подожди, – Том встал, принёс штопор, вскрыл бутылку и сел рядом с ней. – Доставай сигареты. Закурим, глотнём – и полегчает. Не то чтобы это верное средство, но другого у меня нет.
– Я не могу больше пить, – сказала Роуз, доставая пачку сигарет из сумочки.
– Не глупи. Я знаю, о чем я говорю. Поверь мне.
Они поочерёдно присосались к бутылке; Роуз поперхнулась и сплюнула часть на пол.
– Это отвратительно, – поморщилась она.
– Это как крепкий кофе. Сначала тяжело идёт, потом привыкаешь. Ко всему привыкаешь, – пространно сказал Том, глядя в спальню.
– Только к жизни я никак не могу привыкнуть, – она взяла бутылку из его рук и сделала несколько больших глотков. – Это смешно.
– Что именно?
– Да все. Вся эта жизнь.
– Ты должен преисполняться иронией, как только встаёшь с постели. Иначе не никак. Так писал Хемингуэй.
– Может быть, – ее руки были черны от туши. – Но мне почему-то совсем не до смеха.
– Это приходит с годами, дорогая. Когда ты черствеешь. Когда твоя душа покрывается плесенью и пожирает саму себя, пока от нее ничего не остаётся.
– Это звучит ужасно. Так не может быть со всеми, я отказываюсь в это верить.
– Другие просто отказываются в этом признаться себе. Но отрицание – это тоже признание.
– Если бы ты был психологом, люди бы вешались после разговора с тобой, – рассмеялась она, положив голову ему на плечо. Она отдалась слабости. Когда ты летишь с кювета, все, что остаётся – это отнять руки от руля и расслабиться; ведь если падение неизбежно, то зачем паниковать?
– Я не знаю, как помочь тебе, потому что не знаю, как помочь даже самому себе. И я говорю о том, что считаю верным. Правда не всегда должна быть красивой.
– Чем ты занимаешься, кстати? Ты не похож на обычного алкоголика. В тебе что-то есть.
– Я неудавшийся писатель, пишу статьи для местной газеты, точнее, рассказы. А потом пропиваю все деньги, чтобы забыться. Точнее, я делал так раньше – теперь я пью, потому что не могу иначе. Рано или поздно наши привычки перерастают в потребность.
– И ты не хочешь ничего изменить?
– Кто сказал, что меня это не устраивает? – болезненно усмехнулся Том.
– Может ты просто не хочешь себе в этом признаться?
Том улыбнулся. Они молча закурили еще по одной сигарете и сидели, думая обо всем и – ни о чем определенном. Их сознания кровоточили, души корчились, изнывая в удушье, тела ломало от алкоголя, никотина и усталости. Мысли, как бритвы, продолжали резать податливую плоть разума. Некуда бежать, не за чем оставаться. Бесконечные вопросы, заводящие в бесконечные тупики, а за спиной – пропасть, полная ужаса. Пробираться, скалясь, в темноте, когда не достаёт воздуха, а глаза слипаются. Охота на самих себя в лесах их теней, где выстрелы подавляются слишком громкой, слишком пронзительной тишиной. Где спасение – это иллюзия, а все остальное…
– Я больше не могу, я пошел спать, – сказал, привставая, Том. – Спокойной ночи, – уязвлённый и потерянный, он прошёл в спальню, сел на кровать и вжался лицом в свои большие, сухие ладони. Эти ладони бы могли сжимать серп, держать ребёнка, сжимать автомат со штыком – но вместо этого они держат бутылку, перемежая ее с карандашом. Найден и потерян. В нем тоже что-то когда-то надломилось. Для него тоже были закрыты все двери. Глубоко вздохнув, он стянул брюки, расстегнул рубашку и лёг, оставаясь наедине с пульсацией в висках. Потолок чуть подрагивал перед глазами. Отец в детстве говорил ему, что самое важное – это быть хорошим человеком; но ему так никогда и не удалось объяснить, что это значит.
– Твои синяки, – произнесла Роуз, сев на край кровати и положив руку на его волосатые, мясистые ноги. – У тебя есть лёд?
– Да к черту, – устало выдохнул Том. – Само заживет.
– Я сейчас найду что-нибудь.
Она принесла лёд, обёрнутый в полотенце, и приложила к его отёкшему глазу.
– Тебе ничего не сломали? Ничего не болит?
– Если хожу, значит, нет. Но рёбра ноют, конечно.
Убрав лёд, Роуз залезла на него, и, согнувшись, прошептала ему в лицо жарким, кисловатым из-за портвейна дыханием:
– Я хочу, чтобы ты трахнул меня. Нам обоим нужно расслабиться.
Когда Том проснулся, Роуз уже не оказалось в постели – осталась только тень воспоминания из легкого шлейфа ее духов и тепла тела. О страдание бесформенных тел, скручивающихся в утренних агониях, когда внутри желудка словно бултыхаются в кипящей кислоте лезвия, каждое мгновение, каждое движение врезается в стенки и оставляет неглубокие, кровоточащие порезы, которые прижигает кислота, заставляя чувствовать еще большую боль… О их трескучая головная боль с запредельным давлением в висках, словно череп зажали в тисках и поднесли к колоколу, чей язычок проникает прямо в центр головы и равномерно заполняет черепную коробку громким, дробящим звоном… О эта утренняя ломка каждой кости, ноющее напряжение каждой мышцы, липкая сухость во рту и жажда, неутолимая жажда страждущего в мертвой пустыни… Кто поймёт их боль и проведёт их к спасению? Кто протянет руку помощи? Почти каждое утро Том умирал изнутри. Он был бы рад умереть во сне, но судьба каждый раз вбрасывала его в очередной день, вырывая из цепких когтей тягучего бреда спиртового сна – и он просыпался, стеная и моля о спасении, ворочаясь в мокром от пота одеяле. Что дальше? Что дальше? Выпивая бутылку, Том выпивал мир; когда бутылка кончалась, не оставалось ничего, кроме пустой, тоскливой и тошнотной обыденности. Все теряло свою значимость, обращалось в пустые декорации ради декораций: люди, города, поступки. Не оставалось ничего, во что можно было бы поверить, и что могло бы наполнить его осмысленностью. И если страдания тела выдержать можно, то эту тоску, что ширится до слепого ужаса, стерпеть нельзя никак – она попросту сводит с ума. Чего ради? Зачем? Почему? Бутылка не задается этими вопросами, она выжигает их, оставляя только чистое блаженство. Господи, дай мне сил пережить этот день, подумал Том, аккуратно приподнимаясь. Дай мне сил изменить то, что я могу, и мудрости принять то, что изменить я не способен. Во славу Отца, и Сына, и Святого духа. Аминь.
Том дотащил свое тело до ванной, лёг в неё и включил ледяной душ. Тело ёжилось, спасаясь. Но спасения ждать было неоткуда. Приведу себя в порядок и сяду писать, сказал он себе. Дело решеное. Я знаю, чего хочу… Но черт, мне бы опохмелиться. Просто немного выпить. До бара я не дойду – боже упаси, я не выползу из дома. Ни денег, ни сил. А избили-то меня нормально, господи, как же все болит…
Левый глаз заплыл настолько, что Тому оставалось только щуриться – держать его закрытым было сложно. Хотя бы нос не сломали. Удивительно, подумал Том. А может там и ломать уже ничего. Попасть под холодный напор воды – это как получить удар в грудь; выбивает воздух из легких, и ты начинаешь глубоко, размеренно дышать. Том переключил воду на горячую и лежал под обжигающем потоком, пока не стало душно. Затем опять переключил на холодную. Пульсация в висках обрела звук, такой размеренный стук, как будто сердце подскочило в мозг, а сам мозг насадили на тонкую, ледяную иглу. Вынуть ее – и он вытечет через уши, глаза и нос. Господи, как мне вытерпеть это. Том подставил голову под струю и глотал воду, пока не напился, после чего протянул руку к раковине, взял скрученный тюбик мятной пасты и выдавил себе в рот. Мы получаем то, что заслуживаем. Но какое провидение, какой пророк расскажет мне, за что я заслужил все это и почему, ради чего я страдаю? Где искать правду? На каких скрижалях, потерянных и рассыпавшихся в пыль времени, несущейся по дорогам вместе с сухими, почерневшими листьями, написаны пути к моему спасению?..
На кухне стоял душный, застоявшийся воздух от приготовленного завтрака. Том взял записку на столе, придавленную кружкой со остывшего кофе: «Приготовила тебе поесть, но, наверное, все уже остыло, и оставила пачку сигарет. Спасибо за вечер и прощай». Он сел за стол, достал сигарету и закурил. Как ее звали? Кажется, Роуз… Она ничего. Вчера было сказано много слов, много лишнего, одна риторика – от этого стачиваются грани сознания. Голова набивается ватой, красной и липкой от кровотечения мыслей. Это все без толку. Том глотнул кофе и подавился; холодный, застоявшийся кофе слишком кислил. Кажется, так же кислит застоявшаяся жизнь. Есть совсем не хотелось – Тому казалось, что если он возьмёт в рот даже кусочек, его стошнит; и все же он знал, что ему станет еще хуже, если он хотя бы немного не поест, поэтому насилу проглотил яичницу и кусок поджаренного хлеба.
Работа – лучшее отвлечение, даже когда ты разваливаешься по частям. Поэтому Том настроил барахлившее радио на какой-то шипящий однообразный джаз и сел за письменный стол, достав из блейзера все свои скомканные наработки. Сюжет невероятно простой: мужчина собирается покончить с собой, превращая самоубийство в ритуал, требующий определенной подготовки; он убирается в квартире, приводит в порядок внешность, гладит одежду, выбирает стул, вешает веревку, заготавливает мыло. Последний раз трапезничает в тишине. Он больше не размышляет ни о чем, потому что все уже решено. Только изредка у него проскальзывают сомнения – но персонаж списывает их на последние стоны умирающей воли к жизни и не обращает на них внимания; у него просто потеют от них ладони и подмышки. Возможно даже стекает пару капель пота по спине. Затем наступает час, в который он должен лишить себя жизни. Он встаёт на стул, продевает голову в петлю, натерев шею мылом, и, встав на край стула, готовится сойти с обрыва – спрыгнуть со скалы в безызвестность смерти, в безупречное ничто. И вдруг раздаётся стук в его дверь – на этом рассказ обрывается. Продолжение читайте в следующем выпуске, спасибо. Сперва может показаться, что раз кто-то постучал, то очевидно, что героя ждёт спасение. Но это не так. Он может соскочить и вздернуться, а в дверь так и продолжат стучать, пока он будет корчиться в агонии, задыхаясь. Или могут войти, а он все равно повесится, и даже если его спасут, то он довершит дело потом. Или, может, его действительно ожидает спасение – в виде неожиданного оправдания своей жизни в лице какого-нибудь человека, ради которого стоило бы жить. Это неизвестно наверняка, так что Том считал, что завязка должна заинтриговать читателя и заставить его ждать продолжения. Покупать газету, чтобы узнать, чем это все-таки закончится. А еще это довольно вызывающе – и тема, и то, с каким безразличием он об этом напишет. Только сухие, как сломанные ветки, факты. Людей всегда интересовало то, что их пугало, и то, что они не понимают.
В иной раз ему бы давалось писать с трудом – особенно в таком состоянии – однако сейчас Том чеканил слова как машина. Он методично продвигал персонажа по сценарию, рассматривал декорации, пресыщал его пищей. Ничего лишнего, никаких отвлеченных слов. Только суть: стул, мыло, веревка. Стол с кружкой кофе и курицей с рисом под кисло-сладким соусом. Последняя сигарета, выкуренная прямо за столом. Об этом было легко писать – это как описывать свою комнату, то, как ты пьёшь кофе и куришь. Никаких усложнений, метафор и воплощения сложных образов, глубинных мыслей.
Закончив писать первую часть, Том вышел на кухню, вылил кофе в ковш, чтобы подогреть на плите. Сухость во рту не проходила, сколько бы воды он ни пил. Подогрев кофе, он перелил его обратно в кружку, достал последние две таблетки аспирина, проглотил их и запил. Руки тряслись. Том говорил себе, что не сделает этого, но голова расходилась по швам и тело брал озноб – он вышел на крыльцо, накинув на себя блейзер, и стоял там, выкуривая сигарету, глотая кофе и наблюдая, как день барахтается в сером молоке, холодный и пасмурный, болезненный, как и он сам. Интересно, где сейчас Роуз? Что она делает? Куда бежит от себя? Том надеялся, что она сможет найти дверь. Сможет спасти себя. Что насчёт его самого… Бросив окурок на тротуар, Том поежился и вошёл обратно. Он не сделает этого, нет. Он обещал себе. Сделать это – как просунуть голову в петлю. Нет, он не будет, он не станет. Нет…