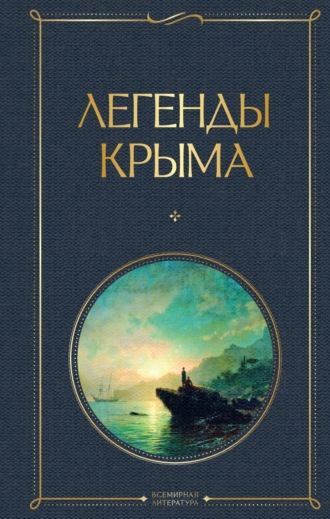
Легенды Крыма
– Кому нужна вода – пусть платит.
Поднялся в народе ропот:
– Бога побоялся бы.
Услыхал об этом Фриц. Стали холодными глаза. И велел не давать воды и за деньги.
– Пусть подохнут, если так.
Не знали люди, что делать. Как жить без воды. Просили Фрица.
– Хорошо, – сказал Фриц.
И велел отпускать воду всем, кроме одного.
– Он ругал мою веру, капли ему не дам.
Схватил мужичонку за шиворот и выбросил со двора. Упал мужичонка на камень и отбил себе печенку. Целый день мучился, а к вечеру стал помирать. Пересохло горло, внутри все жгло.
– Испить бы…
Но немец, чтобы не дали пить умирающему, велел запереть семь колодезей до утра. И не было воды.
Потянулся мужичонка перед зарей, какое-то слово сказал и умер.
Не поняли люди его слова, но пришлось оно Богу к уху.
И когда утром Фриц послал за водой для себя, ему сказали, что ушла вода из семи колодезей.
С тех пор и нет ее.
Пояснения«Семь колодезей»– железнодорожная станция на 44-й версте от Феодосии по Керченской линии. У станции экономии немецких колонистов. Поселения последних в Феодосийском уезде появились еще в первой половине XIX века. Окрестности «Семи колодезей», как вообще весь Керченский полуостров и в особенности его юго-западная часть, чрезвычайно бедны водой, и вопрос о воде – больной вопрос для местных жителей. Факт исчезновения воды из колодцев в местности, изобилующей грязевыми сопками, какой является Керченский полуостров, не представляет ничего необычного, так как естественным последствием явлений тектонического характера являются разрывы и другие нарушения напластований, которые могут повлечь за собой уход воды в более глубокие слои. Легенду рассказывал мне мой садовник Алексей Фролов, долгое время служивший в экономии у «Семи колодезей».

Мыс Ильи
Феодосийская легенда
Чем ближе к Ильину дню, тем ниже нависают облака, душнее становится воздух и чаще ночные грозы.
А в Ильин день затемнятся облака, забегают змеи молний и треском громовых раскатов напомнит о себе пророк.
Беда попасть тогда в море. Хорошо, если только сорвет снасти. Иной раз закружит судно, швырнет на скалу и щепками выбросит у мыса Ильи.
Помолись, моряк, на церковь пророка – не случилось бы несчастья.
А видна та церковь с большой дали, хотя и невелика она. Такая, какие строили в давние времена.
В те времена, когда верили в Вышнюю силу и знали свою слабость перед Нею. Хотя и были смелы, пожалуй, смелей, чем теперь.
Не выдумали люди, что Илья, сын Тамары, построивший церковь, в открытое море ходил на дощанке.
А когда стал богатым и завел свой корабль, в самую страшную бурю не боялся оставить гавань и в декабрьский шторм поднимал паруса.
Но раз случилось выйти под пророка Илью. Освирепело в тот день море, озлились небеса, и попрятались люди в жилища. А Илья Тамара поднял сразу флакос и тринесту и белой чайкой унесся в волну.
Кто рискнул бы сделать это теперь? Разве только сумасшедший.
Далеко ушел Тамара в море, не стало видно берегов. Не знал он опасности и не верил в рыбачью сказку об Илье.
– И молния, и гром – от облаков.
И когда подумал так, накатился на судно вал выше мачты на много мер.
– Васта темони, клади руль! – крикнул Тамара рулевому, но оторвался руль, и понеслось судно по воле ветра к береговой скале.
Понял Илья, что близка гибель, и в испуганной душе шевельнулось сомнение, не карает ли его пророк за неверие.
И в ту же минуту пронесся с севера на юг громовой раскат, и над мысом, где теперь церковь Ильи, в пламени и тысячах искр опустилась огненная колесница.
– Илья! – воскликнул Тамара и подумал в душе: «На том месте, где видел его, построю ему церковь, хотя бы пришлось для того продать корабль».
– Матим бистин, своей верой клянусь в том.
Не успела остыть эта мысль, как примолкла гроза и ветер с берега погнал волну в море, а с нею и Тамарин корабль.
– Баста темони, – прозвучал над Тамарой чей-то грозный голос, и увидел себя Тамара стоящим у руля, который, подплыв к судну, стал на свое место.
К вечеру достиг Тамара Сугдеи, сдал товар и, нагрузившись новым, вернулся в Кафу.
Не рассказал, однако, никому о случившемся, пожалел продать корабль и решил заработать прежде больше денег и тогда построить храм.
Сначала решил так, но вскоре передумал.
– Не может быть, чтобы все это случилось. Просто приснилось. Колокитья!
И успокаивая себя так, он со временем забыл о своей клятве.
Все шло хорошо; за десятки лет ни один из кораблей его не потерпел крушения, и Илья Тамара стал богатейшим купцом Кафы.
Однако в душе, помимо воли, жило что-то, что напоминало о случае в молодых годах. Не любил Тамара смотреть на гору, где было ему видение, и избегал выходить в море под Ильин день.
Но однажды, незадолго до этого дня, пришлось ему возвращаться от Амастридских берегов.
– Да будет благословенно имя Георгия, патрона той страны!
Попутный ветер резко нес корабль, и вдали стали уже синеть Таврские горы.
И вдруг сразу стих ветер, точно смело его с моря, и корабль попал в мертвый штиль.
Больше всего боятся его моряки, но наступал Ильин день, когда по всему Понту носится ветер, и Тамара спокойно лежал на корме.
Он подсчитывал барыши и, кончив подсчеты, улыбнулся торговой удаче.
– Не нужно быть знатным, не нужно быть ученым, чтобы хорошо жить. Нужно только быть умнее других, чтобы пользоваться их глупостью. Алю пулунде грамата, алю полите гносис!
– Скверная мысль, – сказал кто-то в душе его, и вздрогнул Тамара.
Поднялся с ложа, посмотрел на берег. Оттуда медленно надвигались тучи, и зарница сверкала зловещим глазом.
Побежала по морю предветренная рябь, за нею береговик погнал волну.
Корабль поднял все паруса и взял нос на восток, где была Кафа, но, попав в странное течение, не мог далеко уйти.
А ветер быстро крепчал, недобрым шумом гудело море, воздух шипел и свистал, завывая.
Не выдержала порыва главная мачта и обломилась.
Плохо дело!
И в последнем сумеречном свете увидели гору, где когда-то случилось видение.
Вспомнил о нем Тамара и смутился духом. Настала темь, нельзя было видеть своей руки; ливень заливал потоками палубу, волна била через борта, и в трюмах появилась течь. Истрепались в клочья штормовые паруса, не слушался корабль руля, как гнилая нитка, оборвалась якорная цепь, когда нагнало корабль к берегам и попытались бросить якорь.
– Одно чудо может спасти!
И молили люди о чуде, умоляли Илью смягчить гнев, обещали весь первый улов отдать на свечу ему.
А Тамара упал на колени и в сердце своем поклялся исполнить, что обещал когда-то в своей юности.
Огненная молния рассекла небо, опалила воздух, озарила корабль и скалы, среди которых он носился; в последнем зигзаге скользнула по мачте и загорелась сиянием впереди судна.
Кто-то грозный и гневный поднял над кораблем руку. Сверкал молниями его взгляд, в бешеном порыве рвалась борода, готовы были открыться уста для гибельного слова.
– Элейсон имас, Кирие! Помилуй нас!
Опустилась рука проклятия и указала погибавшим путь спасения.
В стороне зажглись кафские огни и… потухло сияние.
Как убитые, заснули дома корабельные. Не заснул только старик Тамара. Стоял у городского храма и шептал слова тропаря:
– Почитающих тебя, Илья, исцели.
Стоял всю ночь, и утром нашли его там же. Не узнали его, так изменился он. Покоем величия дышало лицо, и близостью Неба светились глаза.
И когда через год иконный мастер писал образ пророка Ильи для нового храма, который построил на горе Тамара, это с него он списал лик пророка.
Оттого не видно гнева в пророческих глазах и нет страха, когда смотришь на икону.
Умер Тамара глубоким стариком и под конец дней избегал говорить о пережитом, но люди читали об этом в чистом взоре его.
Ибо взор души человеческой проникает часто глубже, чем подсказывает речь.
ПоясненияМыс Ильи– любимое место загородных прогулок феодосийских жителей. Здесь находится старинная греческая церковка в честь пророка Ильи, приведенная в последнее время в полный порядок. 20 июля в этой церковке совершается богослужение, которое особенно охотно посещается рыбаками. Среди них, независимо от того, христиане они или татары, имя Ильи особенно чтимо. Колокитья(Колокифья) по-гречески значит кабачок (тыква), но в переносном смысле будет «пустяки».
Аллу пулунде грамата, аллу пулите гносис,буквальный перевод: в одном месте продается ум, а в другом ученость, в смысле можно быть ученым и неумным.
Легенду рассказывал мне бывший староста церкви старичок Илья Павлович Тамара, хорошо известный всем старожилам-феодосийцам и ныне уже покойный.

Мамаева могила
Старокрымская легенда
Вместе со стужей несет северный ветер снежный буран и окутывает белым покровом старокрымские всхолмья и поляны.
На лунном свете играет искрами Мамаев курган, точно кто шевелится на его вершине; а когда закружит снежный вихрь, кажется, будто поднимается большой белый медведь.
С полуночи завоет вьюга, и начнет медведь свой бурливый рев; а как только первый свет различит белую нить от черной, уйдет увалом с Мамаева кургана.
И тогда из недр могильного холма слышны ржание коней и скрежет зубов и голос проклятий.
У подножия Мамаева кургана закрыта от ветра могила азиза, могила святого, того дервиша, который приходил к Мамаю в начале и конце его дней.
В начале, когда поднималась слава шахи-хана. В конце, когда закатилась его звезда.
Был день и была ночь. И исполнилось то, что должно было быть.
В золотом шатре, в кашемировом халате, усеянном огнем бриллиантов, сидел Мамай, когда увидел его дервиш в первый раз в далекой северной степи.
Гордый своим гневом шахи-хан отвернулся от улемов и мурз, которые склонились перед ним в трепете страха.
А дервиш в отрепьях шел на восток поклониться священной Каабе.
Заметил его Мамай и приказал позвать.
– Ты исходил мир. Скажи, как велик он и много ли времени надо, чтобы покорить его?
– Мир беспределен, – отвечал дервиш, – и беспредельно людское желание, но могуществу самого сильного человека есть предел.
Усмехнулся Мамай.
– Кажется, ты не знаешь, с кем говоришь?
Но дервиш не смутился.
– Даже великий повелитель – все же человек, ничтожный перед Аллахом.
– Аллах на небе, – рассердился Мамай, – и не вмешивается в земные дела. Оставь свои сказки для глупых людей.
Покачал дервиш головой:
– Жалко мне тебя.
Слишком дерзок был ответ, и сверкнул шахи-хан гневом.
– Чтобы ты мне больше не показывался на глаза. Иначе куски твоего тела я брошу на корм медведям.
Поклонился дервиш Мамаю.
– Буду помнить твои слова. Не забудь и ты.
И ушел.
Много стран исходил после этого дервиш, много дней провел в пути. Достиг духом высоких ступеней и забыл немощи тела.
Научился ничем не дорожить, и оттого казалось, стал богатым, не боялся сильных и сделался тем сильнее их.
И жалел Мамая, хотевшего покорить мир.
Доходили о нем слухи. Мамаевы войны как река: не сдержать ничем реки. И люди перед Мамаем как листья, которым пришла пора упасть.
«Забыл Мамай, что смертен, как все», – думал дервиш.
И не удивился, когда узнал, что погибло войско его, и только с немногими спасся он в южные степи.
Если убьют – мир не наденет печальных одежд, никто не раздерет ворота у кафтана.
Но не настал еще час. Мамаю улыбнулось лицо Аллаха, и успел он уйти в пределы Кафы. Там ему обещали приют.
Когда пришел туда дервиш, на базарах и площадях говорили о Мамае и богатствах его, сокрытых в Шах-Мамае, в подземельях ханской ставки.
Долго Мамаевы рабы носили туда сундуки с сокровищами, оружием, и, когда засыпали вход, хан приказал умертвить их, чтобы никто не знал, где зарыты его богатства.
А по ночам к воротам Кафы подходили мамаевы люди, чтобы посмотреть, бодрствует ли стража, и в народе говорили, будто задумал Мамай завладеть Кафой.
И в самую темную ночь, когда снежная буря загнала всех в жилища, у крепостной стены жалобно прокричала сова. И когда дважды повторился ее крик – Мамаевы люди бросились к стенам крепости.
Но не спала крепостная стража и истребила всех нападавших; всех, кроме одного, который кричал совой перед нападением.
Избег Мамай смерти и скрылся в тайнике водохранилищ.
И когда, озябший и голодный, он дрожал от страха смерти, кто-то пошевелился вблизи.
Окликнул Мамай и узнал голос дервиша, и молил спасти его.
– Ты, верно, забыл, что запретил мне являться на глаза тебе, – сказал дервиш, вспомнив золотой шатер и гнев шахи-хана, и склоненных перед ним улемов и мурз.
Содрогнулось от унижения сердце Мамая, но, пересилив себя, он ответил:
– Тогда тебе говорил повелитель, а теперь просит иззябший, голодный человек.
И исполнил дервиш, о чем просил его Мамай, – вывел за город по канаве для стока горных вод.
Еще не наступил рассвет, когда подошли к дороге на ханскую ставку.
Чудилась Мамаю погоня за ним, говорил он дервишу:
– Ускорь шаги, слышны голоса. Догонят – убьют.
Но ветер донес из деревни предутренний крик петуха, и дервиш остановился, чтобы совершить намаз.
– Нашел время молиться! – закричал на него Мамай и хотел идти дальше один, но не знал хорошо дороги и боялся заблудиться.
Взглянул на него дервиш. На раннем утреннем свете казалось мертвенным лицо Мамая, и пожалел он его.
– Моли пророка послать мир твоей душе.
И дервиш говорил о том, как непрочно величие людей и как безумно стремление к нему.
И словами своими стал он ненавистен Мамаю, и не мог Мамай терпеть больше унижения перед ним.
– Глупый раб, я вырвал бы твой язык, если бы было время.
И, выхватив нож, он всадил его в горло дервиша, а чтобы не узнала его погоня, сорвал с убитого одежду и надел ее на себя.
А с бугра неслось несколько всадников, и передовой, заметив бегущего в отрепьях человека, принял его за беглого раба. И когда бежавший не остановился на его окрик, он размозжил ему палицей голову.
А наутро шах-мамайцы нашли оба трупа, один вблизи другого, и похоронили их там, где нашли.
Но, проникнутые покорностью к повелителю, насыпали над ним высокий курган, чтобы люди не могли потревожить царского праха.
И сохранился Мамаев курган до наших дней, а рядом с ним – могила азиза.
В зимнюю непогоду, когда северный ветер нагонит снежный буран, лучше не ходите мимо кургана. Может напугать злой медвежий рев, и похолодеет сердце от Мамаева стона.
ПоясненияЛегенда, записанная Кандараки в V томе его «В память столетия Крыма», имеет за собой, несомненно, историческую подкладку. В Софийской летописи говорится: «Мамай же гоним сый, бегая пред Тахтамышевыми гонители и прибеже близь города Кафы и сослася к кафинцы по докончанию и по опасу, дабы его прияли на избавление дондеже избудут от всех гонящих его; и повелеша ему; и прибежа Мамай в Кафу со множеством имения, злата и серебра. Кафинцы совещася и сотвориша над ним облесть и ту от них убиен, убо бысть тако конец безбожному Мамаю» (Карамзин. История Государства Российского, изд. 5, кн. II, т. V, стр. 44 (1842).
Академик Кеппен в «Списке известнейших курганов России» (Спб., 1837) указывает могилу Мамая. Это курган у дороги из Феодосии в Старый Крым, вблизи последнего. Неподалеку от кургана, сохранившегося до наших дней, деревня имени Мамая – имение Арцеуловых Шейх-Мамай. Татарское предание указывает на курган, как на могилу Мамая, а рядом с последней и на могилу азиза – святого, фигурирующего в легенде. Насколько известно, археологических раскопок кургана произведено не было. По народному преданию, вместе с Мамаем были погребены и все его сокровища. Легенда о белом медведе, который в снежную ночь выползает из могилы, держится среди старокрымцев – русских поселян, и я слышал рассказ об этом из уст тамошнего священника, ныне почившего отца Капитона Гергилевича.

Солдаткин мост
Старокрымская легенда
Теперь пройти ночью не страшно, кругом застроено. А раньше был пустырь, и над обрывом стояла кузня, а в кузне жил цыган-кузнец.
Бил молотом кузнец по наковальне, летели в стороны искры. Скалил зубы цыган, хохотал.
Хватит по голове, мозги, как искры, разлетятся.
– А, чтоб тебя! – говорили люди и избегали без надобности ходить к кузнецу.
Неподалеку жила молодая солдатка. Муж ушел на войну в Туретчину, и два года не было вести о нем.
– Верно, убили, а не то так просто помер.
Приглянулась солдатка цыгану, стал он к ней захаживать. Когда орехов, когда чего другого носил.
Уклонялась солдатка от ласки, но и не хотела, чтобы цыган вовсе перестал ходить к ней.
Вертелась, вертелась и забеременела.
– Что будем делать, если солдат вернется? – боялась солдатка.
А цыган хохотал:
– Ребенка под мост – и концы в воду. Чего, дура, робеешь?
И пришло время родить. Мучилась, мучилась солдатка и родила дочечку.
Беленькую, не на цыгана – на солдата похожую.
– Не моя дочь, – верно с кем сблудила.
Толкнул женщину ногой и унес девочку к мосту, привязал к ней камень и швырнул в место поглубже.
И ударили в это время в ночной пасхальный колокол.
Вскрикнуло дитя и замолкло.
– Куда ты девал девочку? – допытывалась солдатка. – Хоть бы покрестили ее, нехристь ты этакий!
– Покрестил сам ее, – хохотал злее прежнего цыган.
Недолго пожила солдатка и померла; все хотела позвать свою дочечку, но не знала, как позвать, потому что не было у нее христианского имени.
Прошло много лет. Из молодого цыган старым стал и таким неприятным, что не дай Бог на ночь встретиться. Не заснешь потом.
В народе дурно говорили о нем. Было много обид всяких. И один парень не стерпел, хватил его молотом по голове, и разлетелись мозги, как искры от наковальни.
А вскоре развалилась и цыганская кузня.
Судили парня и засадили в острог. Но в ночь под Пасху зазевался надзиратель, и убежал парень из острога.
Убежал и спрятался под мост.
Искали – не нашли.
– Убежал, видно, в горы.
Лежит парень под мостом и слышит, как ударил пасхальный колокол.
Перекрестился парень.
– Христос воскресе!
И почудилось ему, будто из тины за мостом кто-то ответил:
– Воистину.
Примолкнул парень, боялся шевельнуться. Стихнул ветер, выглянула из-за туч луна, осветила местность.
И увидел парень, как вместе с туманом поднялась от ручья девушка в белом и потянулась к нему.
– Кузнецова дочь я, имени нет у меня, потому что некрещеной бросили. Мучаюсь я. Похристосуйся со мной, и помру я тогда христианкой. Так сказано мне.
Поднялись у парня волосы дыбом, и бросился он бежать от моста. И сколько времени бежал – не помнил, и куда бежал – не соображал.
Очнулся в острожной больнице, рассказал все, что случилось с ним. Только никто не поверил, а за побег дали ему сто плетей.
Однако, хоть не поверили, все же стали говорить один другому о некрещеной дочери солдатской, и под следующую Пасху никто не пошел через мост.
Разговелся острожный надзиратель и стал хвастать, что пойдет на мост и ничего с ним не случится.
И пошел.
Идет, а у самого сердце бьется. Кто шел позади – поотстал, а впереди собака воет, и пасхальный звон похоронным кажется.
Стал подходить к мосту: не мост, а снежная белизна.
Присмотрелся и видит – красавица стоит, волосы длинные распущены.
Стоит в одной рубахе, дрожит, руки вперед простирает.
– Пошли, говорит, ко мне такого, чтобы еще ни с кем не похристосовался. Похристосуется со мной, помру христианкой, и мать на место в гробу ляжет.
Не слушал дальше надзиратель, убежал к себе в острог и со страха запер сам себя в одиночную.
И с тех пор стало всем известно, что каждый год в пасхальную полночь ищет девушка у моста, чтобы кто-нибудь похристосовался с нею, с первой. И не может найти такого храброго, чтобы не побоялся спасти ее, хотя бы пришлось самому умереть.
Застроился город; кругом моста стали дома. Живут в них новые люди и не знают, что случилось некогда у моста.
Только одна старуха помнит, как рассказывала ей о несчастной солдатской дочке бабка ее и будто бы, рассказывая, добавляла:
– Все же дождалась несчастненькая. Вернулась с чужбины душа солдатская, возвратился старый солдат взглянуть на свои места. Под Пасху, в самую полночь, ступил он на мост.
Бросилась к нему девушка и рассказала все.
Не смутилась душа солдатская. Храбрость с жалостью в ней вместе жили.
– Христос воскресе!
И трижды похристосовался солдат с дочкой солдатской.
И успокоились оба навеки.
ПоясненияЛегенда выросла среди русских поселян, которые появились в Старом Крыму в конце XVIII – начале XIX века. Легенду рассказывала местная жительница Матрена Павловна Нич. Ремесло кузнеца в руках цыгана является в Крыму и доселе обычным. Интересно, что с образом цыгана связывается представление как о чем-то злом не только у русских поселян, но и среди татарского населения.

Карадагский звон
Отузская легенда
Капитани Яни лежит у костра, смотрит на гору.
– Как камбала, капитани Яни?
– А, чатра-патра… Плохо, неплохо! Куда идешь?
– В Карадаг. Там, говорят, в сегодняшнюю ночь слышен звон.
– Энас нэ, аллос охи. Один слышит, другой нет.
– Откуда звон? Из Кизильташа?
Капитани Яни отворачивается, что-то шепчет.
– Оттуда, – показывает он на море. – Может быть, даже из Стамбула.
Мы некоторое время молчим, и я смотрю на Карадаг.
Отвесными спадами и пропастями надвинулся Карадаг на берег моря, точно хотел задавить его своей громадой и засыпать тысячью подводных скал и камней.
Как разъяренная, бросается волна к подножью горного великана, белой пеной вздымается на прибрежные скалы и, в бессилии проникнуть в жилище земли, сбегает в морские пучины.
Капитани Яни подбрасывает в костер сушняку и крутит папироску.
Я ложусь на песок рядом с ним.
– А ты сам слышал?
– Когда слышал, когда нет.
Темнеет. Черной дымкой подернулся Отузский залив; черной мантией укрывает Карадаг глубины своих пропастей.
Капитани Яни медленно говорит, вставляя в речь греческие слова, и я слушаю под шум прибоя рассказ старого рыбака.
Слушаю о том, как под Карадагом был некогда город и в залив входили большие корабли из далеких стран.
– Хроня, хроня! Как бежит время.
И как там, где ползет желтый шиповник, был прежде монастырь.
Бедный монастырь, такой бедный, что не на что было купить колоколов.
– Какомири! Какомири! Бедняки были.
Тогда в Судаке жил Стефан – Агиос Стефанос.
И просили монахи святого Стефана помочь им, но был беден Стефан и не мог помочь.
Был беден, но смел, не боялся сказать правду даже знатным и богатым.
Не любили его за это царь и правители и вызвали на суд в ис тин Полин, в Стамбул.
В самую пасхальную ночь увозили его на корабле. Шел корабль мимо Карадага, и вспомнил святой монахов. Вспомнил и стал благословлять монастырь.
А в монастырь к заутрени прибыл из города Анастас-астимос, Анастас-правитель.
Знали и боялись Анастаса на сто верст кругом.
– Фоверос антропос! Никому не давал пощады.
В те времена в стране был обычай: кто под Пасху оставался в тюрьме, того отпускали на свободу.
Не хотел Анастас исполнить обычай, велел потуже набить колодки заключенным.
– Ти антропос! Вот был человек!
Узнал об этом игумен и не велел начинать службы.
– Ти трехи? В чем дело? – спрашивал Анастас монахов.
Боялись монахи сказать, но все же сказали:
– Ох, строгий игумен. Не начнет, если сказал. Отпусти людей из тюрьмы.
Вскипел гневом Анастас, схватился за меч.
– Нейдет в церковь, так сам пойду за ним.
Выше церкви было кладбище. Еще теперь можно найти могилы.
Только подошел астимос к кладбищу – зашевелились могильные плиты.
Отшатнулся Анастас, опустил меч; отнялись у него ноги, не мог идти дальше.
– Анастаси каме! Анастас, сделай, – сказал чей-то голос.
Может быть, было не так, но так говорят.
– Пиос ксеври! Кто знает!
Подошел к Анастасу игумен, упал пред ним Анастас, обещал сделать по обычаю.
Открыл игумен церковную дверь, и запели монахи.
– Христос анести ек некрон.

