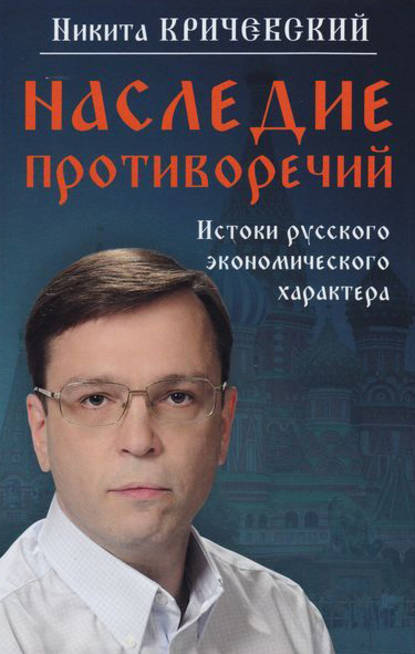По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Наследие противоречий. Истоки русского экономического характера
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В отношении самой рациональной цели следует заметить, что мыслители часто предпочитали “проходить мимо”, памятуя о том, что могут “заковыряться”, поскольку цели могут быть как идеальными (недостижимыми, что превращает движение к ним в перманентный процесс), так и реальными, субъективными или объективными. Упрощенное целеполагание приводило к поверхностной (но не всегда неверной) оценке средств достижения, что также нередко характерно для западных экономических исследователей. Кажется, возьми за основу модель homo economicus (человека экономического) как обладающего совершенной информацией мгновенного вычислителя оптимальных путей для удовлетворения потребностей и получения удовольствий, и дальнейшие рассуждения покатятся сами собой. Вот как это, к примеру, происходит у “золотого голоса” западной капиталистической этики Макса Вебера и его заокеанского “пастыря” Бенджамина Франклина в книге Вебера “Протестантская этика и дух капитализма”: “…честность полезна[3 - Здесь и далее в цитатах выделения сделаны самими авторами, если не указано другое.], ибо она приносит кредит, так же обстоит дело с пунктуальностью, прилежанием, умеренностью – все эти качества именно поэтому и являются добродетелями… Приобретение денег – при условии, что оно достигается законным путем, – является при современном хозяйственном строе результатом и выражением деловитости человека, следующего своему призванию, а эта деловитость, как легко заметить, составляет альфу и омегу морали Франклина”
. И никого не волнует, что, по Хайеку, “многие общественные институты, представляющие собой необходимое условие успешного достижения сознательных целей, по сути дела, являются результатом обычаев, привычек или установившихся практик, которые не были изобретены и соблюдаются без преследования какой-либо цели”
. Например, та же до сих пор ментально существующая русская община возникла для каких угодно целей, но только не как предприятие, алчущее прибыли.
Деньги – вот, по мысли Вебера и Франклина, главный показатель деловитости, умеренности и прочих добродетелей, а цель жизнедеятельности – их “приобретение”. После прочтения труда Вебера значительная часть западного общества наверняка спешила воплощать теоретические установки в практику, повторяя: “приобретение денег (относительно) законным путем и есть искомая мораль”. Попутно западный обыватель вспоминал теорию эволюции Чарльза Дарвина, из которой вытекает, что Бога нет, а также воззрения Фридриха Ницше (“Бог задохнулся в богословии, нравственность – в морали”), и вот уже перед нами утилитарный, живущий для себя и по собственным моральным убеждениям человек, ключевым нравственным стремлением которого является “приобретение денег”.
Пестование, выпячивание ложных начал, характерный образец которого мы наблюдаем у Вебера, а также у многих, очень многих прочих исследователей, и формирует то самое отличное от русского мировоззрение западного общества. “Просвещенным” европейцам всегда казалось, что мы “идем не туда”, что мы “дикари” и “варвары”, что мы добровольно отказываемся от единственно верных, по мнению западников, добродетелей. А все потому, что мы никогда в массе своей не были озабочены “приобретением денег”. Из веберовского понимания западного экономического менталитета следует теоретическое обобщение на уровне хозяйственного строя, правда, при этом тот самый homo economicus по дороге куда-то теряется: “Стремление к предпринимательству”, “стремление к наживе”, к денежной выгоде, к наибольшей денежной выгоде само по себе ничего общего не имеет с капитализмом. Это стремление наблюдалось и наблюдается у официантов, врачей, кучеров, художников, кокоток, чиновников-взяточников, солдат, разбойников, крестоносцев, посетителей игорных домов и нищих – можно с полным правом сказать, что оно свойственно all sorts and conditions of men[4 - Людям всех типов и сословий (лат.).] всех эпох и стран мира, повсюду, где для этого существовала или существует какая-либо объективная возможность… Капитализм безусловно тождественен стремлению к наживе в рамках непрерывно действующего рационального капиталистического предприятия, к непрерывно возрождающейся прибыли, к “рентабельности”. И таковым он должен быть. Ибо в рамках капиталистической системы хозяйства предприятие, не ориентированное на рентабельность, неминуемо осуждено на гибель”
. Вебер отождествлял хозяйственную деятельность ради потребления с экономическими действиями, направленными в первую очередь на получение прибыли. Стремление к предпринимательству, наживе, денежной выгоде, наблюдающееся у представителей многих профессий и социальных групп, есть склонность к обеспечению потребления, как собственного, так и членов их семей (кланов, родов), но не к прибыли. Еще Аристотель, предвосхищая эту распространенную ныне методологическую ошибку, подчеркивал, что “сущностью домашнего хозяйства в собственном смысле слова является производство ради потребления – в отличие от производства ради прибыли, – однако, продолжает он, дополнительное производство для рынка отнюдь не должно разрушать самодостаточность хозяйства, пока урожай в нем выращивается для пропитания семьи, как скот или зерно; продажа излишков не должна разрушить основу домашнего хозяйства”
. В противовес Западу стремление к автаркии, самодостаточности домашнего хозяйства, нацеленное на наиболее полное удовлетворение потребностей индивидуума, семьи, рода (да что там – страны, о чем мы регулярно слышим в русских публичных прениях) за счет собственных ресурсов, но никак не прибыль, всегда были на переднем плане у русского человека.
Если излишек продавался, то не ради получения прибыли, а ради того, что конкретно на этот излишек можно было купить. Деньги на Руси всегда были в основном не средством обмена, а средством платежа, обозначавшим материальный уровень притязания на ту или иную вещь, недостающую не столько в хозяйстве, сколько в потреблении. (Призывать на помощь Дж. М. Кейнса с его хрестоматийным высказыванием: “Давно известно, что потребление представляет собой единственную цель всякой экономической деятельности”
– полагаю излишним.) Что, безусловно, не исключает выполнения деньгами функции средства накопления (обеспечения будущего потребления), как и практической реализации некоторыми индивидуумами пресловутой “склонности торговаться и барышничать”
(этот фразеологический оборот Карла Поланьи стал своеобразной интерпретацией Смитовой “склонности к торгу и обмену”
).
Именно намерением обеспечить будущее потребление на прежнем или хотя бы сопоставимом с достигнутом ранее уровне при реализации того или иного негативного риска объясняется страсть русского человека к формированию невидимых для фискалов заначек “на черный день” (на случай голода, лишений, болезней, войны, несправедливости со стороны государства), а если говорить об общине – общаков. Кстати говоря, заначки и общаки были в почете и у “склонных к торговле и барышам” купцов, промышленников, ремесленников, хотя им впору было бы усвоить посыл, сформулированный Вебером: “Время – деньги; тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по десять шиллингов и тем не менее полдня гуляет или лентяйничает дома, должен – если он расходует на себя всего только шесть пенсов – учесть не только этот расход, но считать, что он истратил или, вернее, выбросил сверх того еще пять шиллингов”
. Причем стремление к сохранению либо, при благоприятном стечении обстоятельств, повышению уровня потребления отнюдь не исключает капиталистические начала в экономике (ориентацию на рентабельность), которые ошибочно ставил во главу угла общественной жизни Вебер. Если по нынешним временам мы ушли от автаркии в личных (семейных) хозяйствах (урожаи с садовых участков не в счет), это не значит, что мы изменили прежней склонности к обеспечению потребления любыми доступными нам способами, включая “резервирование” свободного времени (о чем будет идти разговор в следующем разделе).
Вебер, а также Франклин стали своеобразными кормчими западных теоретизирующих и практикующих экономистов. Вот что, к примеру, говорил бывший председатель ФРС США Алан Гринспен в своем выступлении 10 июня 1997 г. на торжественном ужине в честь награждения ученых в Центре имени Вудро Вильсона: “Та капиталистическая культура и инфраструктура, которая поддерживает рыночную экономику в капиталистических странах, создавалась на протяжении многих поколений: законы, традиции, нормы поведения, а также разнообразные предпринимательские профессии и методы работы, которые в экономике централизованного планирования не играют заметной роли”
.
Мысль Гринспена “крутится” вокруг, по Веберу, основанного на “ожидании прибыли посредством использования обмена, то есть мирного (формально) приобретательства” капиталистического способа ведения хозяйства или просто капитализма
. Прибыль, деньги, не играли “заметной роли” не только в экономике централизованного планирования, но и в досоветской рыночной экономике. “Приобретение денег”, стяжательство практически всегда в русской жизни уступало “уравнивающему” общинному менталитету наших предков, не зря же в русском социуме до сих пор в ходу завистливая поговорка “выбиться в люди”, то есть выйти из прежнего социального круга.
В этой связи движение к долговременным и эффективным институтам, таким как права собственности или соблюдение контрактов, нельзя признать исчерпывающим в деле постепенной трансформации русского экономического характера (об одномоментном сломе ментальной конструкции после неудачного “эксперимента начала 1990-х речь, надеюсь, не идет). Подтверждение чему – фактологическое несоответствие, подмеченное Дейдрой Макклоски: Китай, например, имел гарантированные права собственности на землю и коммерческие товары на протяжении тысячелетия. При династиях Мин и Цин (1368–1911) право собственности и контрактов соблюдалось и для верхов, и для низов, как это было на протяжении большей части китайской истории. То есть права собственности были, а промышленной революции так и не случилось, хотя Китай и Европа в экономическом развитии в Средневековье шли, как известно, “ноздря в ноздрю” (впрочем, Макклоски, как и автор, не ставит под сомнение безальтернативность наличия эффективного института прав собственности, необходимого для успешного функционирования экономики)
. Скорее, нужно говорить не об изменениях, а о продуктивном использовании различных черт русского характера в достижении устойчивого экономического роста.
В русском этосе представления о добродетели отличны от западных. Хорошо это или плохо – отдельный разговор с неопределенным итогом (а скорее всего, без такового). Ясно, однако, что свойственные русским неприхотливость и небрежность в быту, стойкость и выносливость в лихие времена, изобретательность и иррациональность в хозяйственных делах, подвижничество и взаимовыручка в социальных вопросах и многие другие черты русского этоса появились не из космоса, а стали мировоззренческими характеристиками нации в ходе подвижнического перемещения по имперским российским просторам, героического противостояния в многочисленных кровопролитных войнах, разрешения внутренних социальных противоречий, хозяйственного и личного взаимодействия с другими народами, конвергенции религиозно-утопических представлений о справедливости и обескураживающей реальности.
Ресурсное проклятие[5 - Термин “сырьевое проклятие”, отражающий ситуацию, когда значительные природные ресурсы препятствуют экономическому развитию, стал общеупотребительным после публикации Джеффри Сакса и Эндрю Уорнера “Природные богатства и экономический рост”, где указывалось, что в 1970–1989 гг. страны, экспорт природных ресурсов из которых был существенным, как правило, отставали в экономическом росте от стран, где природных ресурсов в структуре экспорта было немного. Из 23 развивающихся стран лишь в Маврикии и Малайзии темпы роста были сопоставимыми с темпами “несырьевых” государств (Sachs J., Warner A. Natural Resource Abundance and Economic Growth. – Cambridge: NBER Working Paper 5398, Dec. 1995).]
В современном обществе при упоминании “ресурсного проклятия” чаще всего вспоминаются углеводороды, что, конечно же, неверно. “Ресурсное проклятие” на Руси начиналось с земли. В отличие от Запада, земля как ресурс в начале и середине прошлого тысячелетия, особенно с началом освоения русского Севера и Сибири, по причине ее обилия не представляла для русских сколь-нибудь существенную ценность. Более или менее значимую роль при оценке ценности земли играли не столько плодородие или расположение, сколько затраченный на ее освоение труд, природно-климатические условия, а также, в случае если земля была расположена на приграничных территориях, отвлечение сил и средств на оборону и безопасность. Впрочем, со временем последний аспект, в силу интуитивно нащупанной властью тактики наделения окраинной землею ратных людей, переформатировался из обременения в преимущество: земельный надел на границе доставался собственнику даром, а платой за государеву “щедрость” становилась охрана рубежей государства. Причем через непродолжительный промежуток времени еще вчера приграничный надел, как правило, оказывался в глубине российской территории.
Неудивительно, что развитие натурального хозяйства в России в ранний период и Средние века основывалось на казавшемся тогда неисчерпаемом главном ресурсе натурального хозяйства – земле, чего на Западе с ее незначительной территорией не было и в помине. Как писал русский экономист XIX в. Александр Кауфман, “пока земельный простор во много раз превышал трудовую способность населения, последнее не ощущало надобности в регулировании ни землевладения, ни землепользования”
. Новые земли осваивались, колонизировались путем, в основном, ненасильственного захвата, на них возникали сначала починки (починок – вновь возникшее сельское поселение из одного двора; когда рядом возникали один или два других двора, починок становился деревней. – Н.К.), а потом и многодворные населенные пункты. Если бы освоение территорий не было сопряжено со значительными трудностями, требующими приложения существенных физических усилий, как правило, неподвластных одной, пусть даже крупной, семье, в дальнейшем мы, возможно, увидели бы становление индивидуальной, а потом и частной собственности на землю. Еще один элемент, упоминавшийся при выявлении ценности земельного надела – тягло (тягло – совокупность податей, уплачиваемых индивидуально или общиной по общей раскладке. – Н.К.). Тягло часто перевешивало вложенные в освоение земельных участков ресурсы и становилось базовой причиной бегства крестьян с обработанных земельных участков. Сибирь и Север европейской части России еще долго осваивались преимущественно самозахватом, при этом наместники удельных князей и государевы люди были заинтересованы, в первую очередь, не в наделении крестьян землей (этой проблемы не существовало), а в том, чтобы никто не ушел от тягловой запряжки.
Совместный характер освоения и обработки земель привел к формированию социально-правового подхода к земельной собственности как общинной ценности, потребовавшей должного оформления и регулирования лишь когда на фоне наметившегося недостатка свободных земель в европейской части России и значительного объема вложенного поколениями труда было введено подушное обложение, которое, в свою очередь, сопровождалось переделом земельных участков пропорционально платежам. Тем не менее общинный взгляд на землевладение не претерпел сколь-нибудь существенных изменений, закристаллизовавшись в менталитете русских в виде отношения не только к земельным ресурсам, но также к флоре и фауне, а в дальнейшем и к полезным ископаемым как принадлежащим, по мнению русских, всем членам большой общины под названием “Россия”.
Проецируя представленный выше тезис Кауфмана на все российское население, притом что “община, освоив известную территорию, резервирует, так сказать, пользование этой территорией исключительно своим членам: она их допускает, посторонних же она не допускает до “занятия” земли в черте освоенной ею территории”
, мы придем к следующему заключению. Сосредоточение “активов” (земельных участков, лесных угодий, прибрежных территорий, полезных ископаемых) в частных руках идет вразрез с укоренившимися представлениями русского человека о факторах производства как об общественной (коллективной) собственности, издревле дававшей хлеб, соль, меха, рыбу, воск, а затем еще и деньги, причем немалые. В свою очередь, общественные блага в пределе нашего социального воззрения стремятся к неисключаемости в потреблении и несоперничеству в доступе, проще говоря, земля, полезные ископаемые, инфраструктура в русском понимании должны использоваться на благо всего общества, а не с целью обогащения отдельных лиц, тем паче с нарушениями закона.
Не означает ли вышесказанное, что русский народ пока, что называется, не дозрел до полноценной институционально закрепленной частной собственности на активы? Возможно, хотя русские историки предпочитали в открытую об этом не говорить. Посмотрите, как о русском раннем детстве отзывался историк Борис Чичерин: “Личность человеческая отнюдь не вдруг выступает на историческое поприще. Пока народ находится в состоянии еще младенческом (в древности. – Н.К.), в нем преобладает чувство общности; все сливается в безразличную массу, поглощающую в себе неделимые существа. Только мало-помалу, при внутреннем развитии общественного быта и в особенности при столкновении народа с другими племенами, из этой массы выделяются личности, которые, приходя к сознанию своей особенности и своих частных интересов, начинают предъявлять свои отдельные требования и права. Тогда образуется и частная собственность, которая прежде поглощалась совокупным владением общины… Полное освобождение частной собственности из единства родового владения является уже плодом долгого и медленного исторического процесса”
.
А что же Запад, каков его взгляд на российский менталитет? Западные ученые приходили к схожим выводам как на предмет происхождения института общинности, так и по поводу наличия прочих институтов. Известный шведский экономист и политолог Стефан Хедлунд подчеркивал, что “крепкие нормы коллективизма, которыми была пронизана советская эра (та самая экономика централизованного планирования, о которой говорил Гринспен. – Н.К.), в целом уходят корнями в глубокое прошлое и существовали задолго до большевиков… В то время как функциональное происхождение этих норм вызывает громкие споры, нетрудно документально подтвердить, что коммунальные сельские институты, такие как мир и община (здесь швед Хедлунд, очевидно, по незнанию употребляет синонимы. – Н.К.), романтизировались и считались некоей сущностью всего русского. Немало говорит об этом наследии то, что после прихода к власти большевиков бедные крестьяне взяли дело в свои руки и насильно положили конец начатым при премьер-министре Столыпине в 1906 г. попыткам позволить всем желающим сделаться частными фермерами, владеющими законными правами на свою долю общинной собственности”
.
Японский исследователь Кандзи Хайтани полагает, что “индоктринация (навязывание массовому сознанию системы убеждений, установок, стереотипов. – Н.К.), проведенная советским правительством, не создала коллективистскую ориентацию русского народа; скорее, она помогла сохранить, взлелеять и расширить традиционный коллективизм, развившийся в стране за века жизни при диктаторском режиме”
. (Здесь мы не станем уходить в неявно навязываемую политологическую дискуссию об отличиях монархии, авторитаризма и диктатуры, а также об эффективности монархического или авторитарного правления, к тому же теоретические изыскания и результаты развития многих развивающихся стран-лидеров говорят нам о том, что отчетливой взаимосвязи между политическими институтами и экономическим ростом не существует.)
В середине 1980-х гг., практически в одно время с Хедлундом и Хайтани, американский историк-славист Эдвард Кинан представил свое видение возникновения институциональной основы в политике: “Гипотеза о депривации очень слабо объясняет ту политическую культуру, которая развилась в Московии, а также не отвечает на вопрос, почему эта культура была – несмотря на черты, которые западным людям могут показаться непривлекательными или “несовершенными”, – такой эффективной и так прекрасно подходила для удовлетворения нужд Московии… Создание специфической и удивительно эффективной политической культуры во враждебной и угрожающей среде, бывшей колыбелью политической культуры России, было самым выдающимся достижением этого народа”
.
Термин “ресурсное проклятие” стал общеупотребительным в отношении России лишь во второй половине XX – начале XXI в. и совпал с периодами спекулятивного роста цен на углеводороды. В этой связи непонятно, почему Россия в недавнем “нефтегазовом” прошлом, да еще с исконными общинными представлениями о коллективных правах собственности на упомянутые факторы производства, должна была добровольно отказаться от материальных результатов сваливавшихся на нее естественных преимуществ и, отказывая себе в росте общественного потребления, идти в неизвестном направлении с неопределенным исходом, к примеру по пути той же туманной модернизации, без неотложных на то причин. Исконная русская бедность, ставшая такой же неотъемлемой чертой национального существования, как пресловутые бескрайние просторы, а также потери и лишения, с которыми столкнулись люди в период проведения так называемых либеральных реформ 1990-х, просто не оставляли властям предержащим начала XXI в. иного выхода, кроме перенаправления значительной части сырьевых сверхдоходов на повышение уровня жизни людей. Не учли лишь одного – “деревья не могут расти бесконечно”. Перманентные поиски нового выгодного “ресурса” также всегда сопровождают нашу экономическую историю. Эта ментальная черта въелась в умы даже тех современных российских экономистов, кто мнит себя “либералами”. Дошло до того, что предлагается экспортировать человеческий капитал, подразумевая под ним интеллектуальные способности молодого поколения: “Если мы в состоянии много лет производить качественный человеческий капитал, это должно стать нашей мировой специализацией. Нужно на наши университеты замкнуть мировые студенческие потоки и сделать это предметом экспорта”
. Логично спросить, есть ли у инициаторов подобного полурабского экспорта права собственности на интеллект других индивидуумов, но в данном случае важен не ответ на этот вопрос, а само направление поиска, сочетающее в себе ментальные отголоски рабства и “природно-сырьевого” проклятия. Еще один момент – ex ante отказ без малого 150 миллионам российских граждан в способности к эффективному квалифицированному труду – оставим на совести “эксперта”.
На примере России мы имеем дело с экономической моделью, позволяющей вот уже больше тысячи лет существовать и развиваться, не прикладывая к этому сколь-нибудь существенных и, что важно, регулярных усилий, исповедуя отличные от остального мира ментальные ценности. Лишь в отдельные короткие периоды истории неспешное течение российской экономической реки прерывалось мощными модернизационными порогами, причем, как правило, модернизационная политика навязывалась сверху, по вертикали. Но и в немногих локальных случаях модернизации по горизонтали главным фактором успеха было обилие все тех же “проклятых” ресурсов.
России, безусловно, не нужно было “напрягаться”, как это происходило при Петре I или Иосифе Сталине. Страна могла бы развиваться семимильными шагами при социально-экономических нововведениях, способствующих раскрытию ментальных черт русского характера, чему есть многочисленные исторические примеры и подтверждения из предшествующего развития.
Церковь
В “великом расхождении” свою роль сыграла своекорыстная линия поведения представителей Русской православной церкви (РПЦ). На протяжении веков церковь как в России, так и в Европе была увлечена преумножением своих богатств, однако, в отличие от католической, а затем и протестантской, РПЦ пошла по пути соглашательства с практически любыми действиями властей, даже не пытаясь заявиться на общественной арене в качестве независимого, автономного, внегосударственного (или надгосударственного) института.
Русские историки скрупулезно описывали предпринимательские выгоды церковного бытия самых разных эпох, приведем лишь малую часть из зафиксированного. Например, Кирилло-Белозерский монастырь владел «обширными вотчинами на протяжении от Белого моря вплоть до Москвы, имел большое количество пахотных земель, но обрабатываемые за счет монастыря земли не отличались большой доходностью, сравнительно невелик был и оброк с крестьянских земель, он составил в 1601 г. 300 руб. кроме продуктов. Напротив, в том же году улов рыбы в количестве 16 тыс. шт. дал 553 руб., а от сбыта соли получилось 4445 руб. Рыбные и, в особенности, соляные промыслы составляли, следовательно, несравненно более важный источник дохода монастыря, чем сельское хозяйство. Монастырю удалось приобрести значительное количество рыбных езов (ез – частокол или плетень поперек реки, чтобы не дать рыбе хода и выловить всю на месте. – Н.К.), частью путем купли, частью же и главным образом в качестве пожалований… Еще большее значение имело добывание соли. Стягивая в свои руки солеварение в нескольких местностях северного края, монастырю в небольшой сравнительно промежуток времени удалось довести свой соляной промысел до степени весьма крупной и доходной статьи, несмотря на то, что для этого ему необходимо было собрать целый ряд незначительных долевых участков в варницах. Он старался монополизировать солеварение, вытесняя мелких промышленников. Это значительно облегчалось тем, что кирилловская братия, участвуя в сябренных товариществах (сябры, или шабры, – прообраз современных акционеров: владельцы общего капитала, имевшие возможность продать или заложить свою долю. – Н.К.), которым принадлежали варницы, не платила податей и за них вынуждены были делать взносы “тяглые отсталые людишка”, которые вследствие этого, “в земских разметех в конец загибли, платячи за тех сильных людей”, “охудали” и частью “разбежались от тех их нужни и от голода”. Солеварение было выгодно для монастыря и по той причине, что ему предоставлялось право беспошлинной продажи до 40 тыс. пудов соли»
.
А вот одна из коммерческих вех существования Соловецкого монастыря периода русского Средневековья: царской грамотой 1592 г. монастырь освобождался на пять лет от оброков и дани с рыбных ловель и за десятую рыбу в волости Варвуге, за десятую рыбу в Кеми, с рыбных ловель в Сумской волостке, на р. Выге, в Двинском уезде с двух пренов для солеварения и с варницы в Неноксе. Монастырь был также освобожден в Вологде от пошлин с привозимой им с Холмогор соли
.
Следующий пример. «Жалованная грамота Николаевскому Корельскому монастырю 1578 г. упоминает о том, что имеется: “Монастырьский промысл в Уне и в Неноксе, розсольные вытки (доли. – Н.К.) в варницах и дворы и те деи они промыслом секут дрова монастырскими людми и наймиты и водят деи к тому промыслу на монастырских лошадях дрова и варят соль и ти соль променивают на хлеб… да у них же на Двине на Малокурье Кол тоня (место на реке или водоеме, где производится лов рыбы неводом. – Н.К.), да за монастырем Кудмо озеро да Солза речка, рыбные ловли; да у них же деи промысл за морем за Терской стороне, в Варвуте реке луки, рыбные ловли”»
.
Наконец, Троицко-Сергиев монастырь, расположенный в центральной части России, имел на Севере свои соляные варницы и рыбные промыслы. “В 1641 г., в момент описи монастыря царской комиссией, он владел варницами Солигаличскими, Балахонскими и на реке Луде, рыбные ловли производились на реке Стерже, в Останкинском уезде, на Волге близ Терюги и на севере в Варзуге”
. Помимо бессчетных оброков и коммерческих доходов церковь получала доходы, вступая в права наследства. Из трудов профессора Казанской духовной академии Ивана Покровского мы узнаем, что «в древней Руси на всех наследниках лежала строгая и непременная обязанность устраивать поминовение по душе покойника. Сама казна, получая выморочное наследство, не освобождалась от этой обязанности (наследство считается выморочным, когда наследники либо отсутствуют, либо не приняли наследство, либо утратили на него право; такое имущество отходило казне. – Н.К.). Законы царя Ивана Васильевича, грамоты царя Михаила Федоровича обязывали наследников “устраивать душу умершего”, т. е. делать вклады из наследства на помин души покойника… Казанский архиерейский дом до самого конца XVII в. пользовался правом наследства “на помин души”»
.