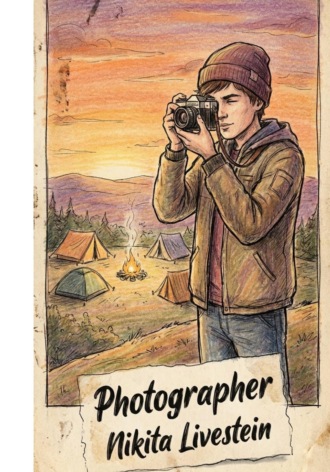
Фотограф

Никита Ливестеин
Фотограф
Марк приехал в лагерь «Орлёнок» с одним рюкзаком и старым плёночным фотоаппаратом, доставшимся от деда. В рюкзаке, помимо необходимого, лежали пять кассет чёрно-белой плёнки и тетрадь в чёрной обложке. План был прост: пережить три недели, максимально слившись с пейзажем, и уехать обратно с пачкой снимков, на которых не будет ни одного его отражения. Фотоаппарат был идеальным щитом. Смотришь в объектив – и мир отдаляется на безопасное расстояние, превращаясь в композицию из света и тени. Ты внутри кадра, но тебя в нём нет.
Его отряд, седьмой, состоял из двадцати шумных тринадцатилетних ребят. Марк занял дальнюю койку в углу, откуда было видно озеро сквозь сосны. Он уже мысленно выстраивал кадр: тёмные вертикали стволов, ажур ветвей, плоское серебро воды. Горизонт.
– Привет! Я Алиса, твой вожатый на эту смену. Всё в порядке?
Голос был тёплым, густым, как августовский мёд, и моментально нарушил все внутренние настройки. Марк вздрогнул и медленно опустил камеру.
Она стояла в дверях, залитая полуденным светом из коридора. Невысокая, в простой серой футболке и шортах, с тёмными волосами, собранными в небрежный хвост. Но дело было не во внешности. Дело было в присутствии. Она заполняла собой пространство, не захватывая его. В её улыбке не было дежурного вожатского задора, только лёгкая, чуть усталая открытость.
– Всё нормально, – выдавил он и снова поднёс фотоаппарат к глазу, случайно наведя объектив на неё.
В маленьком прямоугольнике стекла она преломилась иначе. Солнечный луч из окна ловил мельчайшие пылинки в воздухе, создавая вокруг её силуэта мягкое сияние. Она не позировала. Просто стояла, опершись рукой о косяк, слегка склонив голову, и смотрела на него. В этом не было ничего особенного. И всё было совершенно иначе.
Щелчок затвора прозвучал неожиданно громко в наступившей тишине. Он поймал её не готовой к снимку. Поймал момент до улыбки. Миг простого человеческого внимания.
Алиса слегка приподняла бровь.
– Ловишь момент? – спросила она без упрёка, с лёгким любопытством.
– Это… для настройки фокуса, – глупо пробормотал Марк, отводя взгляд от камеры. – Чтобы проверить свет.
– А я уж подумала, стану твоей первой лагерной жертвой, – она рассмеялась, и звук был таким же естественным, как шелест листьев за окном. – Ладно, устраивайся. Через час построение на линейке. И, Марк… – Она уже поворачивалась уходить, но она остановилась. – Рада, что ты в нашем отряде.
Она ушла, оставив после себя лёгкий запах соснового мыла и ощущение разрушенных планов. Марк медленно перемотал плёнку. Первый кадр. Тот, что для проверки света. Он лежал в камере, как невысказанное признание. Он снял её. Не озеро, не сосны, не горизонт. Он снял её. И щит дал первую трещину.
Вечером на отрядном огоньке, когда все выкрикивали имена и увлечения, Марк, краснея, сказал:
– Марк. Фотографирую.
– Что, типа, инстаграмщик? – крикнул веснушчатый парень с гитарой.
– Нет. На плёнку. Чёрно-белое.
В глазах большинства мелькнуло скучающее непонимание. Но Алиса, сидевшая напротив у костра, кивнула.
– Это честно, – просто сказала она, и её слова, обращённые не столько к отряду, сколько к нему, упали прямо в тишину после её голоса. – Плёнку не отредактируешь задним числом. Только то, что было.
Их взгляды встретились на мгновение сквозь дрожащий от жара воздух. В её глазах отражались языки пламени, и в них не было ничего, кроме простого принятия этого странного факта. Он смотрит на мир через прямоугольник плёнки. И это нормально.
Позже, когда уже стемнело и все расходились по корпусам, он задержался, чтобы снять догорающие угли. Рядом послышались шаги.
– Ты часто так? Остаёшься один? – спросила Алиса.
– Чаще всего, – признался он.
– Я тоже, – она улыбнулась ему одним уголком губ. – Иногда кажется, что лагерь становится по-настоящему собой только тогда, когда всё стихает. Настоящим. Как на твоей плёнке.
Она ушла первой, оставив его наедине с ночью, озером, звёздами и странным новым чувством – чувством, что его тишину… поняли. Не простили, не разрешили – именно поняли.
Марк поднял камеру и сделал кадр почти в полной темноте, на длинной выдержке. На проявленной позже плёнке получится лишь размытое свечение углей и чёрный силуэт холма на фоне чуть более светлого неба. Но он будет знать, что на этом снимке есть и её незримое присутствие. Её слова. Её понимание.
Он пошёл к корпусу, крепко сжимая в руке холодный металл фотоаппарата. Щит треснул, но всё ещё был с ним. А впереди было целое лето. И он уже боялся проявить эту первую, самую важную кассету.
Дни начали накладываться друг на друга, как прозрачные кадры на одной плёнке: завтрак, линейка, игры, купание. Марк стал призраком отряда – тихим, незаметным, вездесущим. Его фотоаппарат, ловя моменты: смеющегося вожатого Игоря с мокрой головой после заплыва, двух девочек, шепчущихся на крыльце, младшего мальчика Диму, который с задумчивым видом рассматривал муравейник. Он снимал не события, а промежутки между ними. Тени, паузы, молчание.
И всё чаще – Алису.
Он не планировал этого. Она просто была… в фокусе. Везде. На утреннем построении, зевающая, прикрыв рот ладонью. На футбольном поле, азартно спорящая с судьёй из пятого отряда. Засыпающая на лекции о безопасности у костра, её ресницы отбрасывали тени на щёки. Он ловил её непричесанной, уставшей, смеющейся до слёз над шуткой, о которой он не слышал. С каждым кадром идеальный образ вожатой – «звёздочки» трещал и рассыпался, открывая под ним человека – живого, сложного, уязвимого.
Однажды он наткнулся на неё за старым корпусом, который все называли «бункером». Она сидела на замшелых ступенях, обхватив колени, и смотрела в лесную чащу. На её лице не было ни улыбки, ни привычной мягкой сосредоточенности. Была пустота. Усталость до самого дна. Серый свитер на ней казался частью сумерек.
Марк замер в десяти шагах, пальцы сами сомкнулись на спуске. Щелчок. Звук был приглушённым, но она услышала.
Алиса медленно обернулась. Не улыбнулась. Не сделала вид, что всё в порядке.
– Поймал? – спросила она тихо. Голос был плоским, без привычных медных обертонов.
– Мне… жаль, – пробормотал Марк, чувствуя себя вором. Он украл её частный момент краха.
– Не надо. – Она махнула рукой и подвинулась на ступеньке, давая место. – Игорь устроил разбор полётов. Оказалось, я плохо заполняю отчётность и недостаточно «горячо» вовлекаю актив. – Она усмехнулась, но в звуке не было веселья. – Иногда кажется, что я играю в какую-то огромную, утомительную игру, правила которой все знают, кроме меня.
Он сел рядом, осторожно, как на краю пропасти. Между ними лежала дистанция в полметра и молчание, густое, как смола.
– Я не умею в игры, – наконец сказал Марк, глядя на свои кроссовки. – Коллективные. С правилами.
– Я знаю, – ответила Алиса. – И знаешь что? Сейчас это кажется не недостатком, а… роскошью.
Он посмел на неё взглянуть. В её глазах стояла та самая глубокая, одинокая усталость, которую он только что запечатлел. Но теперь в них был и отблеск признательности. За то, что он не пытался её развеселить, дать совет, сделать вид. Он просто сидел. И молчал. И этого оказалось достаточно.
– Покажешь? – неожиданно спросила она, кивнув на камеру. – Когда проявишь… этот кадр?
Марк почувствовал, как кровь ударила в виски.
– Ты… захочешь увидеть? – Он снял себя уставшей, беззащитной, настоящей.
– Больше всего на свете, – тихо, но твёрдо сказала Алиса. – Мне иногда кажется, я сама себя не вижу. Только отражение в чужих ожиданиях. А ты… ты видишь то, что есть.
Она поднялась, отряхнула шорты.
– Спасибо, Марк. За тишину.
И ушла, растворившись в сумерках, оставив его одного с наступающей ночью, тяжёлой камерой на коленях и странным, щемящим чувством ответственности. Он должен был проявить этот кадр идеально. Не затемнить, не передержать. Передать ту самую хрупкую, почти невыносимую правду, которую он увидел. И которую она доверила ему увидеть.
С этого дня между ними протянулась тонкая, невидимая нить. Они почти не говорили на общих собраниях, но их взгляды встречались через толпу – и в этом была целая тихая беседа. Он приносил ей чашку чая, когда она засиживалась с бумагами. Она оставляла на его тумбочке яблоко из своего пайка. Однажды, когда отряд на «весёлых стартах» снова оставил его запасным, она подошла и села рядом на скамейку.
– Не нравится бегать с мячом? – спросила она, глядя на поле.
– Не умею, – честно сказал он.
– А я не умею рисовать, – пожала она плечами. – И не люблю арбузы. У каждого своя ересь.
Он рассмеялся. Коротко, сдавленно, но это был смех. И она засмеялась в ответ, и на миг они были просто двумя людьми, сидящими на старой скамейке, чужими в море всеобщего веселья, но своими – в этом маленьком островке взаимного понимания.
Всё изменилось с приездом Кирилла.
Он ворвался в лагерь на третьей неделе, как яркая вспышка цветной плёнки в чёрно-белый мир Марка. Новенький белоснежный кроссовки, идеальная причёска, уверенная улыбка, которая, казалось, была включена по умолчанию. Он был старым другом Алисы из города. И он приехал специально, чтобы навестить её.
Марк впервые увидел их вместе на пляже. Кирилл что-то рассказывал, жестикулируя, смеялся громко и заразительно. Алиса улыбалась в ответ, и в её глазах светилось что-то знакомое, тёплое. Старая дружба. Лёгкость. Простота, которой у него с ней никогда не было и не могло быть.
Марк стоял в тени сосен, его палец бессознательно нажал на спуск. Щелчок. На плёнке останется: она смеётся, запрокинув голову, а он смотрит на неё с обожанием и собственнической нежностью. Яркий, простой, идеальный кадр.
В тот вечер на дискотеке Кирилл, как рыцарь на турнире, кружил только Алису. Марк наблюдал из своего тёмного угла, возле колонок. Он видел, как её смех становился всё более естественным, как она забывала о вожатских обязанностях, о бумагах, об Игоре. Она просто была девушкой на танцах с красивым парнем. И в этом не было ничего плохого. В этом была нормальная, здоровая, солнечная жизнь. Та, к которой он не имел никакого отношения.
Марк тихо вышел из шумного корпуса. Воздух за порогом был прохладным и ясным. Он поднялся на свой холм, к точке, с которой всё начиналось. Озеро лежало внизу, тёмное и безмолвное.
Он достал камеру, но не стал снимать. Он просто смотрел в видоискатель, водя им по силуэтам строений, по тлеющим окнам столовой. Всё было размыто, не в фокусе. Только одна мысль стояла перед его внутренним взором с кристальной, режущей чёткостью: Он может сделать её счастливой. По-настоящему. Без тишины, без намёков, без этих вечных расшифровок взглядов. Просто и ясно.
А он, Марк, со своей чёрно-белой плёнкой и вечной боязнью сделать неверный шаг… Что он мог предложить? Тень от прошлого, ещё до того, как оно стало прошлым.
Он опустил камеру. Глубина резкости – это выбор. Можно сфокусироваться на главном объекте, размыв фон. А можно попытаться ухватить всё сразу, рискуя получить кашу, где нет ничего по-настоящему чёткого.
Кирилл был для Алисы главным объектом. Ярким, однозначным, в фокусе.
А он, Марк, был лишь частью размытого, неясного фона её лета. И пора было перестать обманывать себя.
Он развернулся и пошёл прочь от озера, к корпусу, к своему углу, в свою раковину тишины. На этот раз – добровольно. В его кармане лежала почти отснятая кассета. Последний кадр на ней был пустым. Он не стал снимать уходящую с Кириллом с дискотеки Алису. Некоторые истории лучше остаются незапечатлёнными.
На следующий день Марк сделал то, что было логичным, и от этого – невыносимым. Он стал невидимкой окончательно. Он не прятался, нет. Он просто сделал себя фоном настолько качественным, что перестал восприниматься даже как объект. На линейках он стоял в самом конце шеренги. Во время игр уходил «фотографировать природу». Он избегал столовой в часы пик, предпочитая брать бутерброд с собой.
И Алиса… Алиса была занята. Кирилл остался в лагере на несколько дней, и он, казалось, намеревался заново открыть для неё все прелести обычного отдыха. Они катались на лодке, играли в волейбол (Марк видел это с балкона корпуса, через телеобъектив), смеялись за общим столом. Кирилл был открыт, галантен, ослепителен. Рядом с ним Алиса казалась другой – более лёгкой, сияющей, простой. И Марк понимал, что это не маска. Это была часть её, та самая, которая тосковала по простым правилам и ясным чувствам. Та, которую он не мог дать.
Он продолжал снимать, но теперь это были исключительно пейзажи, абстрактные узоры коры, тени решёток. Люди исчезли из кадра. Последнюю кассету, третью по счёту, он отснял за два дня. Там не было ни одного лица.
А потом Кирилл уехал. Не попрощавшись с отрядом, лишь махнув рукой Алисе из окна дорогой машины. Лагерь будто выдохнул и снова погрузился в привычную, чуть потрёпанную рутину. Алиса вернулась к обязанностям, но в её улыбке появилась новая, едва уловимая тень. Не грусть, а скорее… задумчивость. Она стала чаще смотреть вдаль, терять нить разговора.
Однажды после ужина Марк пошёл в свой угол на холме. Он хотел снять закат над озером, последний в этой смене. До отъезда оставалось три дня.
Он уже настроил камеру, когда услышал шаги. Лёгкие, быстрые. Он не обернулся, но сердце упало куда-то в сапоги.
– Марк.
Он медленно опустил камеру и повернулся. Алиса стояла в паре метров от него, в той же серой ветровке. Без улыбки.
– Ты… избегаешь меня? – спросила она прямо. В её голосе не было обиды, только усталое любопытство, как будто она разгадывала сложную, но не очень интересную загадку.
– Нет, – соврал он, чувствуя, как горит лицо. – Просто… много работы над проектом. Для школы. Фотопроект.
– На пейзажах? – Она подошла ближе и села на поваленное дерево, смотря не на него, а на озеро. – Кирилл уехал. Он предложил мне… всё. Переехать в город, поступить в его институт, быть рядом.
Марк молчал. Внутри всё оборвалось и замерло.
– Это логично, – тихо продолжила она. – Мы давно знаем друг друга. Родители дружат. Он… он твёрдо знает, чего хочет. От жизни. От меня.
– И ты согласилась? – Голос Марка прозвучал хрипло и чужим.
– Я сказала, что мне нужно подумать. До конца смены. – Она наконец посмотрела на него. В её глазах плескалось оранжевое закатное небо и что-то ещё – тёмное, неуловимое. – Он давит. Говорит, что это мой шанс вырваться отсюда, из этой «песочницы». А я смотрю на этот лагерь, на этот холм, на озеро… и не понимаю, почему хочу вырваться. Мне и здесь хорошо.
Они сидели в тишине, которую нарушал только крик одинокой чайки над водой.
– А потом я подумала о тебе, – сказала Алиса так тихо, что он едва расслышал. – О твоих фотографиях. Ты не снимаешь то, что должно быть красивым. Ты снимаешь то, что есть. Даже если это криво, неидеально, грустно. В этом есть… честность. Которая пугает. Но без которой всё остальное кажется картонной декорацией.
Марк сжал камеру так, что пальцы побелели.
– Я не такой, как он, – выдохнул он. Это была не констатация факта, а что-то вроде предупреждения. Извинения.
– Я знаю, – кивнула Алиса. – И я не прошу тебя быть таким. Я… я хочу увидеть их. Фотографии. Все. Особенно ту. С «бункера».
Он посмотрел на неё, поражённый.
– Ты уверена?
– Более чем когда-либо.
На следующее утро, в свой выходной, Марк уехал в ближайший городок с крошечной фотолабораторией. Старик-лаборант, пахнущий химикатами и старыми книгами, забрал у него три кассеты, пообещав проявить к вечеру.
Ожидание было пыткой. Марк ходил по лагерю, не в силах ни на чём сосредоточиться. Он боялся. Боялся, что снимки выйдут плохими, что он всё испортил, что та самая, важнейшая фотография окажется просто снимком уставшей девушки без души. Он боялся её разочарования. И своего собственного.
В пять вечера он забрал три конверта с негативами и стопку отпечатков. Старик молча кивнул – знак качества. Дрожащими руками Марк сел на скамейку у входа в лабораторию и начал перебирать отпечатки.
Первый конверт. Самые ранние снимки. Озеро, сосны, отряд на линейке, мельком пойманные лица. Всё было технически правильно, но безжизненно. Потом появилась она. Сначала случайно – в кадре со зданием столовой, обернувшаяся на звук его шагов. Потом чаще. Улыбающаяся, хмурящаяся, задумчивая. С каждым кадром она оживала на бумаге не как симпатичная вожатая, а как человек. И он, смотря на эти снимки, видел не только её, но и себя – того, кто её увидел таким.
Второй конверт. Здесь было больше её. И вот он – тот самый кадр. «Бункер». Он вынул его и замер.
Чёрно-белая фотография была совершенной. Не в техническом, а в человеческом смысле. Он поймал не просто усталость. Он поймал одиночество. То самое, глубинное, которое носят в себе даже самые surrounded people. Свет падал на её профиль, высвечивая влажный блеск в уголке глаза, который так и не стал слезой. Пальцы, вцепившиеся в колени. Ссутуленные плечи, будто несущие невидимую тяжесть. И при всём этом – не уродство, а странная, хрупкая красота правды. Красота доверия, которое она ему оказала, позволив это снять.
Он долго смотрел на этот снимок, и сердце его билось медленно и гулко, как набат.
Третий конверт был самым тонким. Пейзажи. Тени. Ни одного лица. И среди них – последний, сделанный уже после отъезда Кирилла. Пустая скамейка на холме, на которой они сидели. Длинная выдержка сделала озеро размытым, молочным, а небо – полосчатым от облаков. В этом кадре не было людей, но в нём было её отсутствие. И его тоска по ней.
Он вернулся в лагерь уже в сумерках. Алиса ждала его у ворот, закутавшись в свой свитер. Она ничего не сказала, только вопросительно посмотрела.
– Готово, – сказал он, и голос его звучал чужим, новым, более твёрдым.
Они пошли не в корпус, а к тому самому «бункеру». Сели на те же ступеньки. Марк молча протянул ей папку с отпечатками. Он не смотрел на неё, пока она перебирала снимки. Он смотрел на свои руки, на первую звезду, загоревшуюся над лесом.
Он слышал, как она задерживает дыхание на некоторых кадрах. Слышал лёгкий, прерывирый вздох, когда она дошла до того самого, ключевого снимка.
Долгое-долгое молчание.
Потом – шорох бумаги.
– Боже, – тихо выдохнула она. Не с ужасом, а с изумлением. – Я… я ведь действительно была такой.
– Ты и сейчас такая, – неожиданно для себя сказал Марк. – Просто обычно это прячешь.
– А ты нашёл, – она подняла на него глаза. В сумерках они казались совсем тёмными. – И показал мне. Спасибо.
Она перебрала остальные снимки, остановившись на последнем – пустой скамейке.
– Это где мы… – начала она.
– Да, – кивнул он.
– Он очень… одинокий. Этот снимок.
– Да.
Она сложила фотографии, аккуратно положила их в папку и застегнула её.
– Кирилл звонил сегодня, – сказала она ровным голосом. – Спросил, приняла ли я решение.
Марк замер, ожидая удара.
– Я сказала «нет».
Воздух вырвался из его лёгких одним махом. Он посмотрел на неё, не веря.
– Почему? – прошептал он.
– Потому что он хочет красивую картинку. Идеальную историю. А я… – она положила ладонь на папку с фотографиями. – После того как увидела себя настоящую на твоём снимке… я не могу снова надеть маску. Даже ради «счастливого конца». Он предложил мне роль в своей готовой пьесе. А я… я, кажется, хочу написать свою. Пусть она будет кривой, неидеальной, чёрно-белой. Но своей.
Она встала, отряхнулась.
– Завтра последний день. Потом поезда развезут всех по домам.
– Да, – сказал он, поднимаясь. Его мир, который ещё час назад был чётко разделён на «до» и «после», снова закружился, смешался, превратился во что-то новое и пугающее.
– Марк, – она обернулась к нему, уже на пути к корпусу. – Фотография со скамейкой… она мне нравится больше всех. Можно, я её оставлю себе?
– Конечно, – он кивнул, и в груди что-то ёкнуло, сладко и больно.
– И ещё… не исчезай, ладно? Хотя бы завтра.
Она ушла, унося с собой папку с его летом, с его правдой, с его сердцем, аккуратно упакованным в чёрно-белые прямоугольники.
Марк остался один. Он поднял камеру, посмотрел в видоискатель. В нём был тёмный силуэт «бункера», пустые ступени, одинокая звезда. Но теперь это не казалось концом. Это было пауза. Очень длинная выдержка, в которой всё ещё может проявиться свет.
Он медленно, осознанно нажал на спуск. Щелчок.
Последний кадр на пустой кассете. Не конец, а точка. С которой можно начать всё заново. Или просто продолжать. Уже не скрываясь, не боясь, не размывая фон. Сфокусировавшись на Время после лагеря оно растянулось, как резинка – сначала резко щёлкнув, а потом потеряв упругость и обвиснув унылыми петлями обыденности. Дома всё было по-старому: тихие ужины с мамой, её осторожные вопросы о лете, пыль на полках в его комнате, которая не исчезла за два месяца. Город встретил его серым небом и привычным шумом, который теперь казался не фоном жизни, а назойливым, бессмысленным грохотом.
Фотографии – те самые, проявленные – лежали в коробке из-под обуви под его кроватью. Он несколько раз перебирал их, но каждый раз ощущал острое, почти физическое жжение в груди. Смотреть на них было всё равно что прикасаться к ране, которая только начала затягиваться. Особенно к той, последней, со скамейкой. Её у него не осталось. Только негатив. А отпечаток был у Алисы.
Они не общались. Он взял её номер, она – его. На прощание у вагона они обменялись быстрым, неловким «напиши» или «позвони», которое повисло в воздухе невыполненным обещанием. Что он мог написать? «Привет. Как дела? У меня всё по-старому. Соскучился по озеру». Это звучало бы жалко и фальшиво. А молчание было честнее, но от этого не менее болезненным.
Он пытался вернуться к своему проекту для школы – «Город в деталях». Снимал трещины в асфальте, отслоившуюся штукатурку на старых домах, отражения в лужах. Но взгляд его был пуст. Он искал в этих кадрах то, что ловил летом – душу, историю, правду. А находил лишь равнодушную фактуру. Без её смеха где-то на краю кадра, без её усталого взгляда, который наполнял смыслом даже серый свитер и замшелые ступени, всё казалось пресным и ненужным.
Встреча с Алисой произошла неожиданно, через три недели после возвращения, и совсем не так, как он мог представить.
Он пошёл в единственный в городе магазин фотоматериалов за новой плёнкой. Дверь звякнула колокольчиком, внутри пахло химикатами, бумагой и пылью. За прилавком стоял пожилой мужчина в очках и что-то записывал в толстую книгу. И у стойки с альбомами, спиной к входу, стояла она.
Сердце Марка пропустило удар, а потом заколотилось с бешеной силой. Она была в простых джинсах и тёмно-синей кофте, волосы собраны в небрежный хвост. В руках она держала большой картонный конверт.
– Алиса? – его голос прозвучал хрипло и неуверенно.
Она обернулась. Увидела его. На её лице сначала мелькнуло чистое изумление, а потом – тёплая, широкая, настоящая улыбка, та самая, что освещала самые обычные лагерные дни.
– Марк! Боже, вот совпадение!
Они стояли и смотрели друг на друга, и мир вокруг на мгновение расплылся, потерял фокус. Старик за прилавком крякнул, напоминая о своём присутствии.
– Я… я просто за плёнкой, – пробормотал Марк, чувствуя себя идиотом.
– А я – за этим, – она подняла конверт. – Хотела отправить по почте, но раз уж ты здесь…
Он взял конверт. Он был тяжёлым и плотным. На лицевой стороне её аккуратным почерком было написано: «Марку. Чтобы не забывал, как видеть».
– Что это?
– Открой дома. Не здесь.
Они вышли из магазина вместе, на осенний улицу, где кружились первые жёлтые листья. Неловкость вернулась, но теперь она была другой – не от незнания, что сказать, а от переизбытка невысказанного.
– Как ты? – спросили они почти одновременно и рассмеялись. Смех снял напряжение.
– Скучаю по тишине, – призналась Алиса, засовывая руки в карманы. – Город оглушает. И по лесу. И по крику чаек в шесть утра, от которого хочется зарыться с головой в подушку.
– Я тоже, – сказал Марк. И это была чистая правда. Он скучал не столько по лагерю, сколько по тому состоянию внутренней чёткости, которое у него там было. По чувству цели в каждом щелчке затвора.
– А с Кириллом… – начал он и сразу замолчал, пожалев, что начал.
– Всё кончено, – закончила она просто. – Окончательно. Он не понял моего отказа. Решил, что я «не доросла». – Она пожала плечами, но в глазах мелькнула тень былой усталости. – А я, наверное, и не хочу «дорастать» до его стандартов. Легче, знаешь ли, когда ты перестаёшь пытаться вписаться в чужие рамки.
Они дошли до перекрёстка. Ей – налево, к автобусной остановке. Ему – прямо, домой.
– Откроешь конверт? – снова спросила она, и в её взгляде была лёгкая, почти детская тревога.