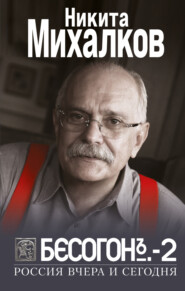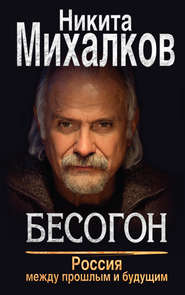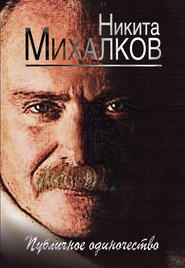По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мои дневники
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я был в кожаной куртке – широкой, летчицкой, с большим количеством карманов. И везущий нас каплей, мужик небольшого росточка, совершенно очумевший в Москве, уже крепко попивший, окинул эту куртку с множеством карманов несколько стеклянным взглядом и спросил:
– Ты водку взял?
– А что, можно?
Он не сомневался ни секунды:
– Давай беги, бери водку!
Не спросил даже: есть у меня деньги, нет у меня денег. Просто отправил и все.
Деньги у меня были. Я взял такси и домчался до ближайшего поселка, где был продуктовый магазин. Там я набрал водки, сколько в карманы влезало. Наверное, бутылок семь. А куртка широкая – не очень заметно, если равномерно по карманам рассовать.
Вернулся в аэропорт к каплею. У того один вопрос: «Привез?» – Привез.
Вскоре началась посадка в самолет. Каплей посадил меня рядом. В салоне – одни новобранцы, человек 150 примерно. Вот взлетели, «отстегните ремни», и каплей сразу – «Давай!..».
Я вынул водку, он принял на грудь стакан, еще побыл при памяти минут пятнадцать, и… больше я его живым не видел. Верней, поначалу он изредка еще просыпался, но тут же выпивал и снова «уходил в небытие»… А всех пассажиров удаляют же из самолета на стоянках. И вот я оказался в нашей команде, по сути, единственным, который мог бы, если не командовать (на это я и права не имел), то по крайней мере взять на себя хоть какую-то организацию.
Ребята-новобранцы так до конца и не поняли – кто я, что я. Видели, что я с каплеем сидел, что мы беседовали поначалу с ним и даже выпивали. И, конечно же, ребята решили, что я тоже из командного состава.
Я разделил их на пятерки, назначил ответственного и сказал: вот, братцы, мы стоим здесь час, можете пока перемещаться в пределах аэропорта как угодно, но через час – вы здесь.
– Конечно же, я не могу вам запрещать выпивать, – говорю. – Просто поймите, что если кто-то отстанет, то всем будет хреново.
Они вняли моим речам. Разбились по пятеркам и вышли в аэропорт…
Тогда первый раз в жизни увидел я одну занятную картину. В 70-е повсюду на вокзалах и в аэропортах стояли одеколоновые автоматы, но здесь впервые я увидел, как люди, после того как опускали в автомат монетку, вместо того чтобы поодеколонить лицо или иные части тела, просто разевали рот на уровне той пипочки, откуда брызгался тройной одеколон, и в них заливалось сколько положено. Если было мало, клиент опускал еще монетку (кажется, 15 копеек).
А ведь гульнуть последний раз – святое дело! Но гульнуть за сотни верст от дома, в чужом городе…
Так мы выходили на каждой стоянке-заправке. После первой остановки человека три были уже не совсем вменяемы, поэтому в следующий раз их оставили в самолете (в компании храпящего каплея). Так мы с грехом пополам, но в целости-сохранности и без особых происшествий долетели до Елизово.
Надо заметить, что быстро сориентироваться в ситуации и организовать ребят мне помогло то, что еще в Щукинском училище я ставил спектакли, а затем во ВГИКе снимал курсовые и дипломный фильмы, в работе над которыми организаторские способности были нужны и важны. Они уже стали частью моего характера. Поэтому то, что я «построил» брошенных и предоставленных судьбе ребят, было достаточно естественным шагом для меня.
К прилету в Елизово наш каплей немножко оклемался, но был, что называется, нехороший. Мы выгрузились, было объявлено общее построение, и перед зданием аэровокзала мы встали в три шеренги – совершенно разваленные, не очень трезвые, не очень выспавшиеся. В общем, больше похожие на бригаду зэков, чем призывников. Каплей же вовсе, кажется, не представлял, что с ним все это время происходило, и, так и пребывая в состоянии общего напряжения и недоверчивости, видимо, во избежание лишних проблем… сдал меня патрулю.
Конечно, от меня тоже пахло, но я был в полном сознании! Причем всю каплееву работу проделал, и довольно ответственно. Уж не знаю, сдал он меня патрулю «по пьянке» или в похмельном синдроме – объятый иррациональным ужасом или попросту все еще был невменяем: то, что мозгу у него происходило, я не ведал. Наплести обо мне патрулю он мог все что угодно. Но зачем?! Может, успел узнать от кого-то из ребят о том, что я, по сути, исполняя всю его работу, разбивал их на пятерки, а после пересчитывал, и, опасаясь моего откровения в ответ на чей-то возможный вопрос, почему призывников сопровождал не ответственный офицер, а такой же призывник, как и все они, каплей «подстраховался» – оговорил меня перед патрульными и сдал им на руки.
Когда в комендатуре все-таки разобрались – что да как – и выяснили заодно, куда меня распределять, в аэропорту никого из ребят уже не было. А вместе с ними и низкорослый каплей исчез из аэропорта и из моей жизни навсегда. Но я запомнил на всю жизнь эту его трусливую неблагодарность, притом абсолютно не соответствующую моим представлениям о том, что такое офицер, тем более – морской офицер. Здесь же, рядом со мной, оказалось какое-то рыхлое, очень недалекое, безвольное и боязливое чмо. Ну что ж, бывает…
Никакого наказания я не понес. Ведь призывников нельзя наказывать до принятия присяги. Поэтому меня довольно резво отправили из комендатуры в полуэкипаж, где я и начал свою службу. Из тех ребят, что летели со мной в самолете, там оказалось всего человека три. Они были совершенно изумлены тем фактом, что я приступил к срочной воинской службе в звании матроса вместе с ними. «Мы-то думали, ты вместе с командиром! – качали головами. – А ты служить, что ли, тоже?» Я же словно не понимал их изумления: «Служить, ну да».
И не только у этих троих, а практически у всех ребят, еще когда я, совершенно неожиданно для них, встал в строй вместе с ними на построении у аэровокзала, возникла – и, казалось, совершенно естественно! – жгучая досада, что я управлял ими, не будучи «начальником», а значит, ими был упущен шанс послать меня куда подальше и в Новосибирске, и в Якутске, и в Хабаровске. Послать и вести себя как угодно. А там уж «однова живем», как говорится, – все равно в армию уходим. Мое несанкционированное «руководство» теперь вызывало в них негодование и ревность. Такой же засранец и гражданский шпак, как и они сами, ими командовал, распоряжался, не давал нормально выпивать! А ведь гульнуть последний раз – святое дело! Но гульнуть за сотни верст от дома, в чужом городе…
Только позже я понял, до какого все это могло дойти куража безысходного… Причем все это и для аэропортов, и для самолета, и вообще для Аэрофлота с его жестким ответственным графиком могло кончиться достаточно неприятной историей. Да и для самих ребят, не говоря уж о каплее, который вполне мог за серьезное ЧП, случившееся по его вине, поплатиться карьерой.
Но, едва я встал в строй в Елизово, по рядам полетел такой изумленный и злой ропот, что на мгновение мне стало не по себе. Я же, напротив, удивлен был тем, что они не только не испытывали ко мне и малейшей благодарности, но горячо поддержали каплея, когда он сдавал меня патрульным.
Смешно вспоминать, но каплея этого я потом даже искал. Вернее, бдительно посматривал по сторонам во время службы – вдруг где-то встретится? Да так и не привелось глянуть ему в глаза никогда.
Борьба за смирение
…В армии я полюбил писать письма. И не потому, что ты отправляешь знакомому или любимому человеку весточку о себе, а потому, что, сев за стол, начав писать, ты невольно формулируешь все то, что волнует в этих новых для тебя условиях: новые ощущения, новые отношения, новый быт, абсолютно новый взгляд на самого себя, твое новое положение в окружающем мире – непривычное, странное, иногда обидное, но невероятно важное для постижения сути твоего существования. К примеру, то, что, будучи человеком с двумя высшими образованиями, уже снявшимся в определенном количестве фильмов и достаточно известным в кинематографическом мире (да еще с такой фамилией), оказавшись на плацу, в строю, перед старшиной первой статьи Толиком Мишлановым, ты совершенно растворялся в общей массе людей в бескозырках. Поначалу это было очень тяжело.
Дело даже не в том, что тяжело вскакивать с койки по команде «Подъем!» или бегать по плацу в сапогах, а тяжело с точки зрения принятия своего бесправного положения. И здесь невероятную помощь мне оказывали усвоенные в детстве уроки: отцовское «От службы не отказывайся, на службу не напрашивайся» и поразительной мудрости слова матери: «Никогда не обижайся! Если тебя хотели обидеть, не доставляй удовольствия тому, кто этого хотел, а если не хотели, то всегда можно простить».
Именно эти два правила стали для меня в определенном смысле оберегами, теми спасительными маяками, помня о которых я научился и смирять гордыню, и управлять своим горячим характером. Причем не из страха наказания, наоборот! (Неотвратимость наказания мне обычно только добавляла куражу.)
Поначалу эта борьба за смирение проходила совсем нелегко. Но постепенно я приучил себя даже получать от этого удовольствие. Как ни странно, я взял за основу образ Швейка, такого нарочито исполнительного дурака. Сначала это было похоже на игру, а потом я вошел в этот образ, и он мне показался невероятно привлекательным и удобным, для того чтобы существовать в этих условиях достаточно свободно и легко. Занятно, что эта покорность и смирение поначалу вызывали настороженность (и даже некий злой азарт) у старшин, которые распоряжались в нашем экипаже. Они интуитивно чувствовали что-то не совсем естественное в том, с какой легкостью и удовольствием человек кидался выполнять их бессмысленные приказы, такие, например, как «продувать макароны» или что-то вроде того. Тогда приходилось хитрить.
Например, к тому времени я давно бросил курить (причем бросал не один раз), но перекур для тех, кто начинает служить в армии, – святое дело, равно как обед и киносеанс. И вот как-то во время занятий строевой подготовкой на плацу старшина Мишланов объявил перекур, и все расселись на травке около плаца, рядом с бочкой для окурков. Поискав глазами некурящих, Мишланов быстро выхватил меня из общей массы и сказал: «Матрос Михалков, тебе все равно делать нечего, сбегай, принеси мне…» – уж не помню что – сигареты, спички, свежую прессу, бушлат или что-то другое. То, за чем он меня посылал, было как минимум на другом конце плаца. А кто не знает: по плацу если один, то бегом, если вдвоем, то строем. Просто так прогуливаться там, по крайней мере у нас, было категорически запрещено. Вот я так пару раз побегал то за этим, то за тем (все курят – я бегаю, приношу, докладываю), и в один прекрасный день, едва при очередном перекуре Мишланов собрался меня куда-то отправить, я говорю:
– Извините, товарищ старшина, я курю.
– Как? Ты же не куришь!
– Нет, уже курю.
И тут же стрельнул у кого-то папироску, прикурил и тем самым как бы снял вопрос о том, должен я или не должен куда-то бежать. Ведь я, как и все, в настоящий момент имею право отдыхать: я и сижу курю.
Таких случаев было довольно много, когда, не конфликтуя и не споря, что только озлобляет человека, имеющего над тобой власть (особенно в армии, особенно «деда», как называли и называют до сей поры старослужащих), ты разворачиваешь в свою пользу ситуацию, при этом развивая у себя ту самую смекалку, которая в других условиях, более тяжелых и серьезных, частенько выручает солдат.
Итак, письма были единственной отдушиной. Я постепенно втянулся в переписку, особенно с братом. Мне казалось, что мой монолог в письме чудесно превращался в диалог с ним. Рассказывая ему о своих невероятных испытаниях, я представлял, как он все это слушает и что может ответить.
Постепенно это вылилось в довольно оживленную переписку, которая очень помогала мне осмысливать свои впечатления, заодно эмоционально освобождая от них мою душу.
Впрочем, вскоре мне стало не хватать эпистолярной отдушины, и я завел дневник и вел его почти каждый день. Особенно часто делал записи во время похода с юга Камчатки до севера Чукотки…
Эта сложнейшая экспедиция была организована благодаря Зорию Айковичу Балаяну, в будущем – писателю и общественному деятелю, в те времена работавшему на Камчатке врачом. Так что я благодарен судьбе, забросившей меня на берег Тихого океана, в том числе за встречу с этим уникальным человеком.
Старший матрос Михалков с товарищами по оружию на Тихоокеанском флоте. 1972 год.
…Я хорошо помню, как мы – мой непосредственный начальник, с которым мы быстро сдружились, капитан первого ранга Вячеслав Пантелеев и капитан-лейтенант Котилевский, работавший в штабной разведке, – в конце лета 1972 года чуть ли не ежедневно выходили на небольшой яхте «Дельфин» в знаменитую Авачинскую бухту. Мне тогда посчастливилось по выходным, когда я получал увольнительные, несколько раз выходить с ними на яхте в открытый океан. Вскоре к нам присоединился и Зорий Балаян.
Вот что писал Зорий о тех днях наших походов в своей книге «Белый марафон»: «Дух захватывало каждый раз, когда приближались к Трем Братьям – трем гигантским скалам, стоящим бок о бок у входа в открытый океан. Туда нас всегда тянуло – на простор, где и цвет воды другой – более небесный, где и волны покруче, и белые «барашки» побелее и покрупнее! Но слишком маленький наш «Дельфин». Он даже меньше тихоокеанского «барашка». Да и не делается это просто так – захотел и вышел в океан. А главное – тогда у нас была другая цель, другая дорога».
Скалы «Три брата» в Авачинской бухте у выхода в открытый океан
С однополчанами
Да, тогда у нас была другая дорога. Однажды на яхте Зорий вдруг сказал, что скоро сделает мне замечательный подарок. Он попросил капитана «Дельфина» выйти из Авачинской бухты на несколько кабельтовых в открытый океан. И уже там попросил, чтобы я спел из фильма «Я шагаю по Москве» строки: «А я иду, шагаю по Москве, / Но я пройти еще смогу / Соленый Тихий океан, / И тундру, и тайгу…». И, когда я выполнил его заявку, уверенно провозгласил: «Вот, походили по Тихому океану, но несомненно пройдем вскоре и тундру, и тайгу!»
Через несколько месяцев мы углубились в тундру… Я и впрямь получил, может быть, самый бесценный подарок в моей жизни. Слова гениального Гены Шпаликова из песни, которую я пел в фильме «Я шагаю по Москве», песни, которую пела вся страна, оказались пророческими.
Дневники и записные книжки
Введение к дневникам 1972–1973 гг.