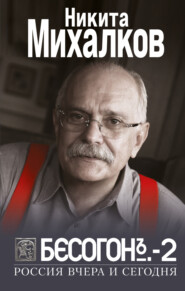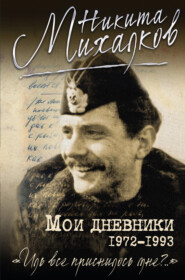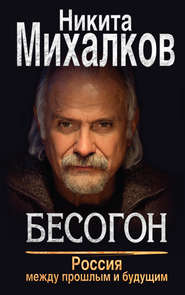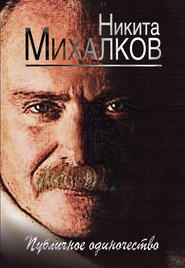По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Территория моей любви
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
(Михаил Владимирович Михалков)
Иногда мне кажется, что мой дядька, родной брат отца, Михаил Владимирович Михалков, прожил за четыре года войны все, что ему было отпущено прожить за жизнь. Ни до, ни после он не испытывал тех взлетов и пропастей жизни, которые выпали на его долю на войне.
Его расстреливали три раза, он двенадцать раз бежал из немецкого плена. Был в Бресте в первый день войны, а потом он все четыре года шел к своим…
Однажды, когда дядька вел меня из школы домой, мы с ним обходили яму. Он мне говорит: «Пойдем, пойдем быстрее». Я ему: «А что такое?» А он отвечает: «Яма мусорная, видеть ее не могу…»
Когда мы пришли домой, я все-таки уговорил его мне разъяснить, почему он так сказал.
А случилось с дядей Мишей вот что. В одном из концлагерей на Украине они вместе со своим другом – однокашником-грузином скребли тупыми деревянными ножами столы в лагерной столовой. Вдруг вошел фельдфебель и что-то сказал по-немецки. А дядя Миша совершенно автоматически ему по-немецки ответил (в отцовской семье с детства хорошо говорили на этом языке). В лагере же было категорически запрещено скрывать то, что знаешь немецкий язык. И тогда фельдфебель доложил об этом нарушении.
Немедленно прибежал и начал орать дежурный офицер. Перепуганный дядя Миша делал вид, что ничего не понимает, а бедный грузин действительно ничего не понимал и только хлопал глазами. Ничего не добившись, дежурный офицер коротко приказал фельдфебелю: «Расстрелять обоих!» Фельдфебель вывел пленных к ограде лагеря, и они начали в мягком густом черноземе рыть себе могилу. Пока рыли, дядя Миша все еще на что-то надеялся. Но когда яма уже была по грудь и выскочить из нее было невозможно, он тихо сказал грузину: «Прощай, брат, нас сейчас тут расстреляют. Прости».
Михаил Владимирович Михалков (дядя Миша)
У бедного грузина подкосились ноги, он чуть не потерял сознание. И тут откуда-то издалека раздался крик дежурного офицера: «Ну что, вырыли помойную яму?» – «Так точно!» – отвечал фельдфебель.
Когда дядя Миша понял, что им повезло, он в невероятном счастье обнял своего грузина и радостно зашептал ему на ухо: «Ура! Это не могилу мы себе рыли, а яму для помойки». И тут произошло самое страшное. Грузин решил, что его просто жестоко разыграли. Он вырвался из рук дяди Миши, схватил острую лопату и со страшным криком со всего размаха хотел ударить товарища по голове. И тут раздался выстрел. Грузин так и осел с поднятой над головой лопатой. Стрелял фельдфебель, который увидел, что происходило. Затем он выругался и помог обессилевшему Мише вылезти из ямы. И приказал засыпать тут же тело бедного грузина. А новую помойную яму велел после обеда копать рядом.
Братья Михалковы – Александр, Сергей, Михаил
«После этой страшной истории, – продолжал рассказывать мой дядя, – я потерял чувство страха. Это был рубеж. Я уже ничего не боялся и был готов к смерти каждую минуту. Но вот когда, даже много лет спустя, даже сейчас, вижу помойку, у меня подкашиваются ноги и начинает мутить».
Поразительно…
Уже потом в России, после того как он попал сначала в одиночку, а затем в лагерь, дядя Миша написал своему брату, моему отцу: «Я бежал из немецких лагерей, а куда мне бежать сейчас? Мне нетрудно убежать отсюда, потому что немцы охраняли лучше. Но куда бежать?!»
Вот такая семейная «частная история», а сколько в России таких историй?..
Детские годы
География детства
…Помню намерзшие сосульки на штанах. Мокрые рукавицы…
Запах кофе на террасе летом, чашки толстые на даче. Дивный прозрачный свет, особенно утренний.
Вспоминаются отдельные предметы или некие их очертания, казалось бы, не очень связанные между собой, но какая-то деталь может потянуть за собой целую историю…
Блики на паркете в квартире московской… Мы жили на улице Воровского (возвращено название Поварская), до этого на улице Горького (теперь Тверская). На Воровского я прожил большую часть детства и юности, а потом переехал – стал жить отдельно.
Но основные ощущения детства – это дача и московская квартира.
Дача на Николиной Горе – это то, что называется малой родиной. Я там жил почти с рождения, с пяти лет…
Когда мои дети были маленькими, я повел их от нашей дачи вниз, в поле, и там за рекой, на другом берегу, за церковью, садилось солнце. И я просто без всякой патетики сказал: «Вот, ребятки, это ваша родина». И после этого почти каждый вечер, пока мы жили там до переезда в город, они просили меня, чтобы мы пошли посмотреть на родину.
Никита и Андрей Михалковы с воспитательницей Никиты испанкой Хуанитой. 1946 г.
До двенадцати лет я круглый год жил на Николиной Горе с нянькой-испанкой, воспитательницей Хуанитой, попавшей в СССР на пароходе с детьми, которых увозили от гражданской войны 1937 года в Испании. Она появилась в нашем доме еще до моего рождения. И почему-то очень любила именно мальчиков. Сказав, что «если будет девочка – я не останусь, если мальчик – останусь у вас». Родился я – и она осталась.
До двенадцати лет я говорил почти все время по-испански, так что иногда отец не мог понять, что я от него хочу. Затем мой язык превратился в какую-то смесь испанского с русским.
Хуанита была испанкой совсем маленького роста и, как сейчас помню, с очень жесткой ладошкой. Ее запомнили мои детские ягодицы, когда она меня наказывала. Она была очень строгой, как мне казалось, и невероятно любящей. Ее любовь была настолько сильной и по-испански горячей, что, как я потом понял, она даже ревновала меня к моей маме. Мама и отец приезжали на дачу не так часто. А весной мы вовсе были отрезаны от дороги, и, пока не налаживался при разливе паром, они жили в Москве, а мы – на даче. Все детство – это бесконечное ожидание приезда родителей. Сельский магазин, поселок РАНИС – работников науки и искусства. Я переименовал аббревиатуру РАНИС в «Утомленных солнцем» в ХЛАМ: поселок художников, литераторов, артистов, музыкантов.
С самого раннего детства моя жизнь была связана с собаками. На Николиной Горе жили овчарки, сменяя одна другую. Первая собака, которую я помню, была серая большая овчарка Найда – невероятного ума и любви ко мне. Однажды Хуанита, я, четырехлетний, и жившая в нашем строящемся доме портниха Шура начали играть зимой в прятки. Шура водила, а мы с Хуанитой прятались. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». В поисках меня Шура прошла мимо, и я выскочил из-за дерева и побежал к тому месту, чтобы «застучаться». Шура кинулась за мной. Это увидела Найда и, выскочив из будки, кинулась мне наперерез, повалила, схватила зубами и потащила за воротник шубы к себе в вольер. Бросившиеся было за мной Хуанита и Шура были отогнаны ее страшным рычанием и лаем. Они отступили.
Никита и Найда на даче на Николиной Горе. 1952 г.
Найда затащила меня к себе в вольер, потом втянула к себе в будку и села у входа. Бедные женщины кричали, ругались, требовали от Найды, чтобы она отошла от будки. В ответ овчарка лишь рычала. В этой теплой собачьей будке, застеленной сеном, я и уснул. Самое интересное, что, когда она меня тащила, я не испытывал никакого страха, а даже наоборот – мне нравилось, что она меня тащит, отпугивает Хуаниту. Не было у меня никакого желания вскочить и от нее убежать.
Приехали родители, и только маме Найда разрешила меня забрать. Когда отец, испуганный и возмущенный, пытался Найду наказать, я заплакал, умоляя не трогать ее.
И как сейчас помню, я впервые уговорил пустить Найду в дом. Она сидела с нами у печки и чувствовала, что за то, что она сделала, ее не только не будут наказывать и ругать, наоборот, оценены ее любовь и верность.
Веревочки
Как сейчас помню, стою с мамой в Столешниковом переулке в самой знаменитой кондитерской. Большая, вся какая-то белесая тетка в белом халате укладывает в коробку из тонкого картона разнообразную «красоту». А «красота» эта слагается из двух «корзиночек» с вишенкой в середине, двух «картошек», эклера с заварным шоколадным кремом и белой глазурью сверху и многослойного «наполеона». Стою и глотаю слюни, кажется, уже сладкие, предвкушая неземное удовольствие. Наконец белая тетка накрывает полную коробку белой крышкой и начинает завязывать бумажной бечевой. Но тут ее кто-то отвлекает, она начинает разговор, автоматически продолжая затягивать все новые и новые узлы.
Никита с мамой. Конец 1940?х гг.
Вот вяжет она узлы и вяжет, а я стою и ужасаюсь: «Мама дорогая, что же ты делаешь?.. Вот принесем мы эту коробку, которую ты завязала, наверное, узлов на сорок, домой. И что?!»
Казалось бы, возьми ножницы или нож, разрежь бечевку, и все – полный рот пирожного. Ан нет. Нам с сестрой и братом дома категорически запрещалось резать бечевки и ленты, которыми были завязаны покупки и подарки. (Я помню, на кухне в буфете открывался ящик, и в нем лежали пробки, на которые были намотаны эти самые ленточки и бечевочки.) И вот ломались ногти, доставались иголки, чтобы все это поддевать и развязывать.
Для чего? Почему?!
А потому что, как говорил Серафим Саровский: «Паче поста и молитвы есть послушание». Это была для нас настоящая школа, урок терпения – всегда доводить начатое дело до конца.
Вот и развязывали мы эти веревочки. За это время много чего передумаешь. Даже и пирожное есть порой расхочется, пока эту коробку развяжешь…
О воспитании
Моя мама часто говорила: «Воспитывать надо, пока поперек лежит, лег вдоль – уже поздно!»
Поэтому надо водить детишек в церковь, в воскресную школу, читать им русские сказки. Тогда, подрастая, они будут ощущать себя частью великой Родины, ее истории и культуры.
Так и воспитывается самое главное – национальный иммунитет. Если он с детства прививается, потом никакие «прыжки и гримасы» жизни не страшны. Ты всегда в минуты сомнения и неуверенности сможешь обратиться к тому бесценному опыту семьи, детства.
Я думаю, какими бы методами «сознательно» нас ни воспитывали, та особенная атмосфера, которая витала в доме, непроизвольно высветлила и ту атмосферу, которую мы потом любовно пестовали и в других домах – в тех, где мы растили уже наших детей. И надеюсь, которую теперь наши дети создают в своих домах. Неуловимая аура…
Вообще, о воспитании много спорят – то ли так воспитывать, то ли эдак. Либо разрешать все и жалеть, либо не разрешать и жестко управлять становлением ребенка. Но мне кажется, главное, чтобы это было абсолютно органично во всех смыслах. Часто возникают споры: пороть, не пороть, наказывать, не наказывать? Я не знаю общего правила.
Если говорить про мою жизнь, то да, меня пороли. И довольно больно и обидно. Но уже тогда я понимал: меня никогда не наказывали просто так, из желания доказать превосходство взрослого над ребенком. Самые серьезные наказания полагались за вранье, что, собственно, осталось уже и в моей семье.
Здесь важно, чтобы в основе всех взаимоотношений (включая самые строгие наказания) лежали уважение и любовь.
Помню, как однажды я пришел домой (наверное, мне было лет четырнадцать или тринадцать). И отец унюхал запах, не свойственный ребенку, – запах алкоголя. Я не был пьян и действительно почти не пил. Во дворе мне дали глоток пива. Я его попробовал и больше пить не стал. И когда отец спросил меня: «Что ты пил?» – я ответил: «Просто пиво».
Иногда мне кажется, что мой дядька, родной брат отца, Михаил Владимирович Михалков, прожил за четыре года войны все, что ему было отпущено прожить за жизнь. Ни до, ни после он не испытывал тех взлетов и пропастей жизни, которые выпали на его долю на войне.
Его расстреливали три раза, он двенадцать раз бежал из немецкого плена. Был в Бресте в первый день войны, а потом он все четыре года шел к своим…
Однажды, когда дядька вел меня из школы домой, мы с ним обходили яму. Он мне говорит: «Пойдем, пойдем быстрее». Я ему: «А что такое?» А он отвечает: «Яма мусорная, видеть ее не могу…»
Когда мы пришли домой, я все-таки уговорил его мне разъяснить, почему он так сказал.
А случилось с дядей Мишей вот что. В одном из концлагерей на Украине они вместе со своим другом – однокашником-грузином скребли тупыми деревянными ножами столы в лагерной столовой. Вдруг вошел фельдфебель и что-то сказал по-немецки. А дядя Миша совершенно автоматически ему по-немецки ответил (в отцовской семье с детства хорошо говорили на этом языке). В лагере же было категорически запрещено скрывать то, что знаешь немецкий язык. И тогда фельдфебель доложил об этом нарушении.
Немедленно прибежал и начал орать дежурный офицер. Перепуганный дядя Миша делал вид, что ничего не понимает, а бедный грузин действительно ничего не понимал и только хлопал глазами. Ничего не добившись, дежурный офицер коротко приказал фельдфебелю: «Расстрелять обоих!» Фельдфебель вывел пленных к ограде лагеря, и они начали в мягком густом черноземе рыть себе могилу. Пока рыли, дядя Миша все еще на что-то надеялся. Но когда яма уже была по грудь и выскочить из нее было невозможно, он тихо сказал грузину: «Прощай, брат, нас сейчас тут расстреляют. Прости».
Михаил Владимирович Михалков (дядя Миша)
У бедного грузина подкосились ноги, он чуть не потерял сознание. И тут откуда-то издалека раздался крик дежурного офицера: «Ну что, вырыли помойную яму?» – «Так точно!» – отвечал фельдфебель.
Когда дядя Миша понял, что им повезло, он в невероятном счастье обнял своего грузина и радостно зашептал ему на ухо: «Ура! Это не могилу мы себе рыли, а яму для помойки». И тут произошло самое страшное. Грузин решил, что его просто жестоко разыграли. Он вырвался из рук дяди Миши, схватил острую лопату и со страшным криком со всего размаха хотел ударить товарища по голове. И тут раздался выстрел. Грузин так и осел с поднятой над головой лопатой. Стрелял фельдфебель, который увидел, что происходило. Затем он выругался и помог обессилевшему Мише вылезти из ямы. И приказал засыпать тут же тело бедного грузина. А новую помойную яму велел после обеда копать рядом.
Братья Михалковы – Александр, Сергей, Михаил
«После этой страшной истории, – продолжал рассказывать мой дядя, – я потерял чувство страха. Это был рубеж. Я уже ничего не боялся и был готов к смерти каждую минуту. Но вот когда, даже много лет спустя, даже сейчас, вижу помойку, у меня подкашиваются ноги и начинает мутить».
Поразительно…
Уже потом в России, после того как он попал сначала в одиночку, а затем в лагерь, дядя Миша написал своему брату, моему отцу: «Я бежал из немецких лагерей, а куда мне бежать сейчас? Мне нетрудно убежать отсюда, потому что немцы охраняли лучше. Но куда бежать?!»
Вот такая семейная «частная история», а сколько в России таких историй?..
Детские годы
География детства
…Помню намерзшие сосульки на штанах. Мокрые рукавицы…
Запах кофе на террасе летом, чашки толстые на даче. Дивный прозрачный свет, особенно утренний.
Вспоминаются отдельные предметы или некие их очертания, казалось бы, не очень связанные между собой, но какая-то деталь может потянуть за собой целую историю…
Блики на паркете в квартире московской… Мы жили на улице Воровского (возвращено название Поварская), до этого на улице Горького (теперь Тверская). На Воровского я прожил большую часть детства и юности, а потом переехал – стал жить отдельно.
Но основные ощущения детства – это дача и московская квартира.
Дача на Николиной Горе – это то, что называется малой родиной. Я там жил почти с рождения, с пяти лет…
Когда мои дети были маленькими, я повел их от нашей дачи вниз, в поле, и там за рекой, на другом берегу, за церковью, садилось солнце. И я просто без всякой патетики сказал: «Вот, ребятки, это ваша родина». И после этого почти каждый вечер, пока мы жили там до переезда в город, они просили меня, чтобы мы пошли посмотреть на родину.
Никита и Андрей Михалковы с воспитательницей Никиты испанкой Хуанитой. 1946 г.
До двенадцати лет я круглый год жил на Николиной Горе с нянькой-испанкой, воспитательницей Хуанитой, попавшей в СССР на пароходе с детьми, которых увозили от гражданской войны 1937 года в Испании. Она появилась в нашем доме еще до моего рождения. И почему-то очень любила именно мальчиков. Сказав, что «если будет девочка – я не останусь, если мальчик – останусь у вас». Родился я – и она осталась.
До двенадцати лет я говорил почти все время по-испански, так что иногда отец не мог понять, что я от него хочу. Затем мой язык превратился в какую-то смесь испанского с русским.
Хуанита была испанкой совсем маленького роста и, как сейчас помню, с очень жесткой ладошкой. Ее запомнили мои детские ягодицы, когда она меня наказывала. Она была очень строгой, как мне казалось, и невероятно любящей. Ее любовь была настолько сильной и по-испански горячей, что, как я потом понял, она даже ревновала меня к моей маме. Мама и отец приезжали на дачу не так часто. А весной мы вовсе были отрезаны от дороги, и, пока не налаживался при разливе паром, они жили в Москве, а мы – на даче. Все детство – это бесконечное ожидание приезда родителей. Сельский магазин, поселок РАНИС – работников науки и искусства. Я переименовал аббревиатуру РАНИС в «Утомленных солнцем» в ХЛАМ: поселок художников, литераторов, артистов, музыкантов.
С самого раннего детства моя жизнь была связана с собаками. На Николиной Горе жили овчарки, сменяя одна другую. Первая собака, которую я помню, была серая большая овчарка Найда – невероятного ума и любви ко мне. Однажды Хуанита, я, четырехлетний, и жившая в нашем строящемся доме портниха Шура начали играть зимой в прятки. Шура водила, а мы с Хуанитой прятались. «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». В поисках меня Шура прошла мимо, и я выскочил из-за дерева и побежал к тому месту, чтобы «застучаться». Шура кинулась за мной. Это увидела Найда и, выскочив из будки, кинулась мне наперерез, повалила, схватила зубами и потащила за воротник шубы к себе в вольер. Бросившиеся было за мной Хуанита и Шура были отогнаны ее страшным рычанием и лаем. Они отступили.
Никита и Найда на даче на Николиной Горе. 1952 г.
Найда затащила меня к себе в вольер, потом втянула к себе в будку и села у входа. Бедные женщины кричали, ругались, требовали от Найды, чтобы она отошла от будки. В ответ овчарка лишь рычала. В этой теплой собачьей будке, застеленной сеном, я и уснул. Самое интересное, что, когда она меня тащила, я не испытывал никакого страха, а даже наоборот – мне нравилось, что она меня тащит, отпугивает Хуаниту. Не было у меня никакого желания вскочить и от нее убежать.
Приехали родители, и только маме Найда разрешила меня забрать. Когда отец, испуганный и возмущенный, пытался Найду наказать, я заплакал, умоляя не трогать ее.
И как сейчас помню, я впервые уговорил пустить Найду в дом. Она сидела с нами у печки и чувствовала, что за то, что она сделала, ее не только не будут наказывать и ругать, наоборот, оценены ее любовь и верность.
Веревочки
Как сейчас помню, стою с мамой в Столешниковом переулке в самой знаменитой кондитерской. Большая, вся какая-то белесая тетка в белом халате укладывает в коробку из тонкого картона разнообразную «красоту». А «красота» эта слагается из двух «корзиночек» с вишенкой в середине, двух «картошек», эклера с заварным шоколадным кремом и белой глазурью сверху и многослойного «наполеона». Стою и глотаю слюни, кажется, уже сладкие, предвкушая неземное удовольствие. Наконец белая тетка накрывает полную коробку белой крышкой и начинает завязывать бумажной бечевой. Но тут ее кто-то отвлекает, она начинает разговор, автоматически продолжая затягивать все новые и новые узлы.
Никита с мамой. Конец 1940?х гг.
Вот вяжет она узлы и вяжет, а я стою и ужасаюсь: «Мама дорогая, что же ты делаешь?.. Вот принесем мы эту коробку, которую ты завязала, наверное, узлов на сорок, домой. И что?!»
Казалось бы, возьми ножницы или нож, разрежь бечевку, и все – полный рот пирожного. Ан нет. Нам с сестрой и братом дома категорически запрещалось резать бечевки и ленты, которыми были завязаны покупки и подарки. (Я помню, на кухне в буфете открывался ящик, и в нем лежали пробки, на которые были намотаны эти самые ленточки и бечевочки.) И вот ломались ногти, доставались иголки, чтобы все это поддевать и развязывать.
Для чего? Почему?!
А потому что, как говорил Серафим Саровский: «Паче поста и молитвы есть послушание». Это была для нас настоящая школа, урок терпения – всегда доводить начатое дело до конца.
Вот и развязывали мы эти веревочки. За это время много чего передумаешь. Даже и пирожное есть порой расхочется, пока эту коробку развяжешь…
О воспитании
Моя мама часто говорила: «Воспитывать надо, пока поперек лежит, лег вдоль – уже поздно!»
Поэтому надо водить детишек в церковь, в воскресную школу, читать им русские сказки. Тогда, подрастая, они будут ощущать себя частью великой Родины, ее истории и культуры.
Так и воспитывается самое главное – национальный иммунитет. Если он с детства прививается, потом никакие «прыжки и гримасы» жизни не страшны. Ты всегда в минуты сомнения и неуверенности сможешь обратиться к тому бесценному опыту семьи, детства.
Я думаю, какими бы методами «сознательно» нас ни воспитывали, та особенная атмосфера, которая витала в доме, непроизвольно высветлила и ту атмосферу, которую мы потом любовно пестовали и в других домах – в тех, где мы растили уже наших детей. И надеюсь, которую теперь наши дети создают в своих домах. Неуловимая аура…
Вообще, о воспитании много спорят – то ли так воспитывать, то ли эдак. Либо разрешать все и жалеть, либо не разрешать и жестко управлять становлением ребенка. Но мне кажется, главное, чтобы это было абсолютно органично во всех смыслах. Часто возникают споры: пороть, не пороть, наказывать, не наказывать? Я не знаю общего правила.
Если говорить про мою жизнь, то да, меня пороли. И довольно больно и обидно. Но уже тогда я понимал: меня никогда не наказывали просто так, из желания доказать превосходство взрослого над ребенком. Самые серьезные наказания полагались за вранье, что, собственно, осталось уже и в моей семье.
Здесь важно, чтобы в основе всех взаимоотношений (включая самые строгие наказания) лежали уважение и любовь.
Помню, как однажды я пришел домой (наверное, мне было лет четырнадцать или тринадцать). И отец унюхал запах, не свойственный ребенку, – запах алкоголя. Я не был пьян и действительно почти не пил. Во дворе мне дали глоток пива. Я его попробовал и больше пить не стал. И когда отец спросил меня: «Что ты пил?» – я ответил: «Просто пиво».