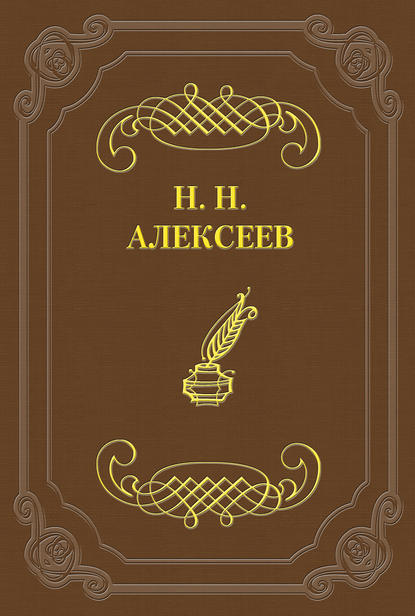По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лжецаревич
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, пани, но пора мне и честь знать – и то загостился, – ответил Белый-Туренин.
– Слышал новости, пан Самуил? – сказал Червинский.
– Это о царевиче-то? Слышал немножко. Да я все думаю, не пустой ли это слух.
– Нет, нет! – с живостью возразил пан Войцех. – Царевич действительно появился.
– Не так тут что-нибудь, – промолвил Павел Степанович, – может быть, и взаправду царевич какой-нибудь объявился, а только чтобы это был Димитрий – это вряд ли.
– Почему пан боярин так думает? – спросил Войцех.
– Потому что Димитрия, говорят, в живых нет. О смерти его я многое слыхал: одни рассказывают, что царевич сам закололся в припадке недуга, другие – что будто бы его Борис зарезать приказал, а все вместе – что Димитрия в живых нет.
– В том-то и дело, что царевич избежал смерти! – вскричал гость.
– Избежал смерти?
– Да! Вместо него убили другого мальчика. Изволь послушать, что мне рассказал приятель. Был у вельможного князя Вишневецкого в Брагине слуга именем Григорий. Это был странный человек, вечно задумчивый, сторонившийся от всех своих товарищей. Многие подозревали, что в его прошлом есть какая-то тайна. Случилось этому Григорию тяжело заболеть. Позвали священника, и Григорий на духу ему открыл, что он не простого звания, и просил в случае смерти погребсти его так, как прилично особам царственного рода. Священник не счел возможным сокрыть от князя Адама Вишневецкого то, что сообщил таинственный слуга. Князь пришел к ложу больного, и так как больной лежал в забытьи, то обыскали его постель, осмотрели все его вещи. Под подушкой нашли рукопись, где было сказано, что Григорий – никто иной, как царевич Димитрий. В этой же рукописи было подробно изложено, как несчастный царевич избег ножа убийц, благодаря помощи некоторых добрых бояр и дьяков Щелкаловых, был удален потом в Литву, где и скрывался в неизвестности, опасаясь преследований Бориса. На груди Григория нашли золотой крест, осыпанный драгоценными камнями. Скажи, откуда простой слуга мог бы достать такой крест? Григорий или, вернее, царевич Димитрий после объяснил, что это – подарок его крестного отца, князя Ивана Мстиславского. Нашлись, наконец, люди, удостоверившие сходство Григория с царевичем Димитрием, которого им довелось некогда видеть. Особенно один из них, некто Петровский, поклялся, что приметы у Григория – родимые бородавки на лице и короткая рука, суть именно такие же, какие были у царевича-отрока. Одним словом, не остается сомнения, что он – истинный царевич.
– Все может быть. – Промолвил Белый-Туренин. – Этого слугу звали Григорием?
– Да.
– Ты говоришь, пан, у него на лице две бородавки и рука одна покороче?
– Да, да.
– Гм… Дивно! Я знаю одного такого же Григория, – задумчиво проговорил боярин. – С ним вместе мы вот Максима Сергеевича сюда довезли из лесу, когда на него там злодеи напали. Долго он у Вишневецкого в слугах жил?
– Нет, несколько месяцев.
– Гм… Уж не он ли это и есть! – вскричал боярин.
– Теперь царевич все еще у князя Адама? – спросил Влашемский.
– Нет. Князь Адам дождался, когда царевич поправился, и свез его сперва к своему брату, князю Константину Вишневецкому, потом к Юрию Мнишку. В судьбе царевича также принимает участие папский нунций в Кракове – Рангони. Я слышал, что наш наияснейший король пожелал повидать царевича и хочет помочь ему добыть престол.
– Значит, опять будет воевать с Москвою? – сказал пан Самуил.
– Очень может быть.
– Царевич – римский католик, полагаю? – прервал свое молчание отец Пий.
– Нет, он, как вы называете, – «восточный схизматик». Говорят, склоняется, впрочем, к латинству.
– Он, вероятно, только орудие небесного промысла для обращения в истинную веру многих миллионов еретиков, – сказал патер.
Пан Войцех насмешливо посмотрел на него.
– Захотят ли еще они перейти в латинство! Для них латинство – ересь. И мне кажется, они более правы! – улыбаясь, проговорил Червинский.
– Ужасно слышать подобное из уст католика! – заметила пани Юзефа.
– Ну какой я католик! Я более уважаю Кальвина и Лютера, чем папу римского.
– А уж что наши русаки вере отцов не изменят – голову дам порукой. Покажись только поп латинский, да начни им сладкие речи говорить, так они покажут ему себя! Не поздоровится! – громко сказал Павел Степанович и засмеялся.
Усмехнулись заодно с ним только пан Войцех да Максим Сергеевич, остальные сделали вид, точно не слышали резкого замечания. Патер, весь багровый от злости, глядел в свою тарелку.
Остаток обеда прошел довольно натянуто. Все вздохнули облегченно, когда встали из-за стола.
XVII. Зверь победил
Тихий весенний вечер уже наступил. Где-то там, далеко за лесом, догорает солнце, и на вершинах деревьев сада Влашемских лежит розовый отсвет. Немного сыро. Земля еще не успела обсохнуть как следует после таяния снега, и влажные, теплые токи тянутся от нее вверх. Зелень еще не вся распустилась, но пушок уже весь пооблетел, и тонкий ароматный запах от только что проглянувших на свет Божий клейких листочков наполняет сыроватый воздух.
В этом запахе весны есть что-то возбуждающее деятельность нервов; точно страстью веет от земли-невесты, ожидающей горячих объятий своего жениха – знойного лета.
Весна справедливо зовется порою любви, и если вы, мой благосклонный читатель, ненавистник любви, как враг всякого рода «глупостей», бесцельных, «смешных» для вас, для «человека рассудка», – а под «глупостями» вы разумеете все то, что не имеет ясно выраженной материальной пользы: зачем, например, по целым часам проводить перед картиной, статуей? Стоит ли читать стихотворение и стараться вызвать в своем воображении намеченные в нем образы? Не смешно ли серьезному человеку зачитываться романом, повестью, если ваша жизнь течет так же размеренно-неуклонно, как ход хронометра, тогда советую вам плотнее запирать в весеннюю пору окна вашей комнаты, чтобы раздражающий аромат не пробился в нее, не заставил быстрее вращаться вашу кровь, учащеннее забиться холодное сердце и даже, пожалуй – horribile dictu! – не заставил вас откинуть ученый трактат, доклад «его превосходительству» или что-нибудь мудреное в этом роде, над чем вы склонили свою преждевременно лысеющую голову, взять трость и шляпу и, в противность вашим привычкам, отправиться на прогулку и не на Невский, не на Морскую, а куда-нибудь дальше, за черту города, где распускается липа, где начинает цвести черемуха.
Веяние весны сказалось и на молодом боярине Павле Степановиче Белом-Туренине, гулявшем по саду в этот последний вечер своего пребывания в усадьбе Влашемских.
Он казался задумчивым. Рой воспоминаний о пережитой любви наполнял его мозг. Ему было грустно, но эта грусть была нежна, как весенний лепесток; это не была гнетущая, отчаянная скорбь земная, «ночь души», знакомая ему прежде, это была дочь неба, светлая, чистая, как та слеза, которая готова была упасть с его глаз; все горькое, мрачное, что дала любовь, было забыто, все, что заставляло некогда замирать от счастья сердце – вспомнилось. Он снова жил в радостном прошлом, часы ли, мгновенья ли – не все ли равно?
Разве психическую жизнь человека можно измерять периодами времени? Бывают мгновенья – равные часам, бывают часы – равные мгновеньям.
Полумрак наполнял сад. Наступало молчание ночи, лишь изредка с вершины дерева все тише и тише доносился замирающий голосок какой-нибудь птички. Шедший медленно Павел Степанович вдруг остановился: бесплотный образ любимой женщины принял форму: это она – боярин готов был поклясться – сидела на скамье невдалеке от него.
Он узнал ее бледное личико со строгим профилем. Даже голова была так же несколько закинута назад, как она имела привычку. Боярин сделал несколько быстрых шагов, сидевшая повернула голову – и очарование исчезло: в ней не было ни малейшего сходства с тою женщиной, о которой думал Павел Степанович. Это была Лизбета.
Боярин понял, что он обманут сумраком, тяжело вздохнул и подошел к панне.
Лизбета вздрогнула, когда увидела перед собой Белого-Туренина.
«Я не искала… Сам пришел… Будь что будет – судьба!» – подумала она.
– Что, панночка, испугал я тебя? – спросил Павел Степанович, опускаясь рядом с нею на скамью.
Девушка так волновалась, что ответила не сразу.
– Нет.
– А мне показалось, что ты вздрогнула маленько.
– Это так – от сырости, да и прохладно.
Она смущенно мяла в руках бахрому платка, накинутого на плечи. Все, что собиралась она сказать боярину, вылетело у нее из головы; вместо того какой-то хаос мыслей наполнял ее мозг. Ей хотелось говорить, но слова не находились, и она молчала, и негодовала на себя за это молчание, и боялась, что, вот, сейчас боярин соскучится с нею сидеть и уйдет, и тогда уже никогда не придется свершить задуманного: завтра ведь он уже уезжает.
Белому-Туренину было тоже не до разговоров. Прежнее настроение сменилось новым. Когда обманчивый сумрак явил пред ним, а после рассеял образ недавно любимой женщины, боярин пережил в это мгновение резкий переход от радостного восхищения к глубокому отчаянию. Незажившая еще сердечная рана открылась и заструилась кровью. Горечь утраты почувствовалась с новою силою.
Другие электронные книги автора Николай Николаевич Алексеев
Розы и тернии




 4.5
4.5
Игра судьбы




 4.6
4.6