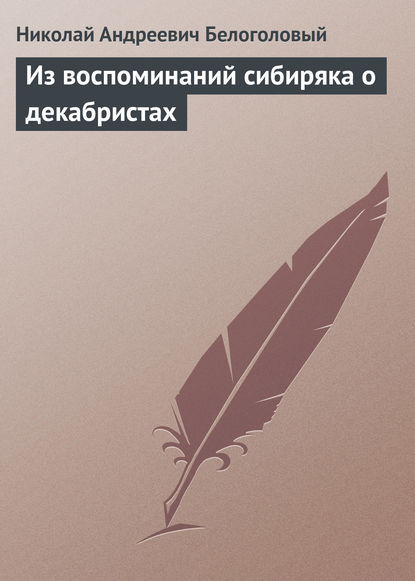По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Из воспоминаний сибиряка о декабристах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 1845 г. Трубецкие, как я сказал выше, жили еще в Оёкском селении в большом собственном доме. Семья их тогда состояла, кроме мужа и жены, из 3-х дочерей – старшей Александры, уже взрослой барышни, двух меньших прелестных девочек, Лизы – 10 лет и Зины – 8 лет, и только что родившегося сына Ивана. Был у них еще раньше сын Лева, умерший в Оёке в 9-летнем возрасте, общий любимец, смерть которого долго составляла неутешное горе для родителей, и только появление на свет нового сына отчасти вознаградило их в этой потере. Сам князь Сергей Петрович был высокий, худощавый человек с некрасивыми чертами лица, длинным носом, большим ртом, из которого торчали длинные и кривые зубы; держал он себя чрезвычайно скромно, был малоразговорчив и вследствие этого считался человеком ума рядового. О княгине же, Екатерине Ивановне, урожденной графине Лаваль, мне трудно что-нибудь сказать, потому что я видал ее очень мало и мне пришлось бы повторять только банальности, и то с чужих слов; помню только, что она была небольшого роста, с приятными чертами лица и большими кроткими глазами, и иного отзыва о ней не слыхал, как тот, что это была олицетворенная доброта, окруженная обожанием не только своих товарищей по ссылке, но и всего оёкского населения, находившего всегда у нее помощь словом и делом. Князь тоже был очень добрый человек, а потому и мудреного ничего нет, что это свойство перешло по наследству и к детям, и все они отличались необыкновенною кротостью. В половине 1845 года произошло открытие девичьего института Восточной Сибири в Иркутске, куда Трубецкие в первый же год открытия поместили своих двух меньших дочерей, и тогда же переселились на житье в город, в Знаменское предместье, где купили себе дом.
Мое сближение с семьей Волконских было более короткое, а потому я могу рассказать о ней сравнительно больше; она состояла тогда из мужа, жены, сына-подростка и дочери. Старик Волконский – ему уже тогда было около 60 лет – слыл в Иркутске большим оригиналом. Попав в Сибирь, он как-то резко порвал связь с своим блестящим и знатным прошедшим, преобразился в хлопотливого и практического хозяина и именно опростился, как это принято называть нынче. С товарищами своими он хотя и был дружен, но в их кругу бывал редко, а больше водил дружбу с крестьянами; летом пропадал по целым дням на работах в поле, а зимой любимым его времяпровождением в городе было посещение базара, где он встречал много приятелей среди подгородних крестьян и любил с ними потолковать по душе о их нуждах и ходе хозяйства. Знавшие его горожане немало шокировались, когда, проходя в воскресенье от обедни по базару, видели, как князь, примостившись на облучке мужицкой телеги с наваленными хлебными мешками, ведет живой разговор с обступившими его мужиками, завтракая тут же вместе с ними краюхой серой пшеничной булки. Когда семья переселилась в город и заняла большой двухэтажный дом, в котором впоследствии помещались всегда губернаторы, то старый князь, тяготея больше к деревне, проживал постоянно в Урике и только время от времени наезжал к семейству, но и тут – до того барская роскошь дома не гармонировала с его вкусами и наклонностями – он не останавливался в самом доме, а отвел для себя комнатку где-то на дворе – и это его собственное помещение смахивало скорее на кладовую, потому что в нем в большом беспорядке валялись разная рухлядь и всякие принадлежности сельского хозяйства; особенной чистотой оно тоже похвалиться не могло, потому что в гостях у князя опять-таки чаще всего бывали мужички, и полы постоянно носили следы грязных сапогов. В салоне жены Волконский нередко появлялся запачканный дегтем или с клочками сена на платье и в своей окладистой бороде, надушенный ароматами скотного двора или тому подобными несалонными запахами. Вообще в обществе он представлял оригинальное явление, хотя был очень образован, говорил по-французски, как француз, сильно грассируя, был очень добр и с нами, детьми, всегда мил и ласков; в городе носился слух, что он был очень скуп. Так как мне едва ли придется далее возвращаться к старику Волконскому, то я здесь, кстати, расскажу мое последнее свидание с ним, бывшее несколько лет после амнистии, в 1861 или в 1862 году. Я был тогда уже врачом и проживал в Москве, сдавая свой экзамен на доктора; однажды получаю записку от Волконского с просьбою навестить его. Я нашел его хотя белым, как лунь, но бодрым, оживленным и притом таким нарядным и франтоватым, каким я его никогда не видывал в Иркутске; его длинные серебристые волосы были тщательно причесаны, его такая же серебристая борода подстрижена и заметно выхолена, и все его лицо с тонкими чертами и изрезанное морщинами делали из него такого изящного, картинно красивого старика, что нельзя было пройти мимо него, не залюбовавшись этой библейской красотой. Возвращение же после амнистии в Россию, поездка и житье за границей, встречи с оставшимися в живых родными и с друзьями молодости и тот благоговейный почет, с каким всюду его встречали за вынесенные испытания – все это его как-то преобразило и сделало и духовный закат этой тревожной жизни необыкновенно ясным и привлекательным. Он стал гораздо словоохотливее и тотчас же начал живо рассказывать мне о своих впечатлениях и встречах, особенно за границей; политические вопросы снова его сильно занимали, а свою сельскохозяйственную страсть он как будто покинул в Сибири вместе со всей своей тамошней обстановкой ссыльнопоселенца. Но при всей этой видимой бодрости он жаловался на одышку и другие болезненные явления, просил меня осмотреть его – и я нашел у него старческое перерождение артерий с последовательным расстройством компенсации сердца, отеком ног и т. п. Тут же по поводу своих опухших ног Волконский передал мне удивительную историю, случившуюся с ним в Париже, назидательную для врачей и для пациентов. В 50-х и 60-х годах среди русской знати, ездившей за границу для лечения, большой репутацией, как консультант, пользовался дрезденский профессор Вальтер, и большинство обращалось к нему за советом и за назначением минеральных вод. Побывал у него и Волконский, а потом через несколько времени, попавши в Париж, почувствовал себя очень нехорошо: вероятно, от усиленной ходьбы по улицам, от частых подъемов по высоким лестницам, деятельность больного сердца нарушилась, и старика стали особенно беспокоить сильно отекшие ноги, и так как проф. Вальтер случайно находился тут же в Париже, то Волконский, узнав об этом, пришел к нему посоветоваться. Недаром говорится: «в Париж приедешь – угоришь»; должно быть, угорел и профессор и, сбитый с панталыку суетой парижской жизни, принял больного, куда-то торопясь, спешно осмотрел наиболее мучившую его ногу, распухшую и всю испещренную красными и синими полосами, и затем, приняв озабоченную физиономию, без дальнейших расспросов и околичностей сказал: «не могу скрыть от вас, князь, что ваше состояние крайне серьезно: у вас воспаление кровеносных сосудов, болезнь настолько опасная, что если мы не поспешим отнять у вас поскорее ногу, то я не ручаюсь за вашу жизнь. Но сам я не хирург, а потому сделаем лучше всего так: отправляйтесь немедленно домой и ложитесь в постель, а сегодня же в 4 часа я заеду к вам и привезу с собой одного из лучших здешних хирургов, и мы потолкуем, а так как, мне кажется, операцию рискованно откладывать в долгий ящик, то мы захватим с собой и ассистентов и все нужное, чтобы сделать ее тотчас же, если только найдем это нужным». Ошеломленный таким неожиданным приговором, старик еле доплелся до своей квартиры, перетревожил ужасною вестью всю свою семью, бывшую, к великому счастью, вместе с ним в Париже, улегся в постель, и все стали с понятным волнением поджидать приезда докторов. В положенное время они явились целым взводом, с ящиком инструментов; семья тотчас же атаковала Вальтера расспросами, и он, повторив ей то же, что высказал утром больному, пошел с врачами в спальню пациента и сталь совместно с ними осматривать ноги пациента и тут же, обращаясь к дочери Волконского, указал ей на широкие красные и синие полосы, покрывавшие густою сетью распухшие голени, как на зловещий признак воспаления вен, заставляющий его настаивать на операции. – «Как? – сказала молодая женщина, – да ведь это полосы от цветных шерстяных чулок, которые носит всегда папа!» и, увидав удивление, смешанное с недоверием, на лице ученого немца, распорядилась подать мыло и теплую воду и тотчас же на глазах консилиума смыла начисто все эти грязные полосы и пятна. Смущенный Вальтер поспешил ретироваться с привезенными хирургами и инструментами. «Да, не заступись за меня дочь, отхватили бы мне ваши знаменитые коллеги обе ноги, а то бы, пожалуй, и совсем зарезали» – закончил Волконский свой рассказ, добродушно посмеиваясь. Это было мое последнее свидание с стариком; он вскоре уехал из Москвы и в половине 60-х годов умер в имении своего зятя Кочубей, в селе Воронки, Козелецкого уезда, Черниговской губернии.
X
Но если старик Волконский, поглощенный своими сельскохозяйственными занятиями и весь ушедший в народ, не тяготел к городу и гораздо больше интересовался деревней, то жена его, княгиня Марья Николаевна, была дама совсем светская, любила общество и развлечения и сумела сделать из своего дома главный центр иркутской общественной жизни. Говорят, она была хороша собой, но, с моей точки зрения 11-летнего мальчика, она мне не могла казаться иначе, как старушкой, так как ей перешло тогда за 40 лет; помню ее женщиной высокой, стройной, худощавой, с небольшой относительно головой и красивыми, постоянно щурившимися глазами. Держала она себя с большим достоинством, говорила медленно и вообще на нас, детей, производила впечатление гордой, сухой, как бы ледяной особы, так что мы всегда несколько стеснялись в ее присутствии; но своих детей, Мишеля и Нелли, она любила горячо и хотя и баловала их, но в то же время строго следила сама за их воспитанием. Мишель был на два года старше меня, и в 1845 г. ему минуло 13 лет. Нелли же была на 2 года моложе своего брата. Зимой в доме Волконских жилось шумно и открыто, и всякий, принадлежавший к иркутскому обществу, почитал за честь бывать в нем, и только генерал-губернатор Руперт и его семья и иркутский гражданский губернатор Пятницкий избегали, вероятно из страха, чтобы не получить выговора из Петербурга, появляться на многолюдных праздниках в доме политического ссыльного. В описываемое мною время оживлению Иркутска немало содействовало присутствие в нем ревизии сенатора Толстого, назначенной в 1844 г., и в состав которой входило человек 15 молодежи из лучших знатных фамилий; тут были кн. Львов, кн. Голицын, кн. Шаховской, гр. Сивере, барон Ферзен, Безобразов и др. – и все они постоянно вращались у Волконских, потому что, кроме этого дома и дома Трубецких, тогдашняя иркутская жизнь мало могла дать для развлечений светской молодежи, а у Волконских же бывали и балы, и маскарады, и всевозможные зимние развлечения. Мой старший брат и я, сделавшись учениками А. В. Поджио, тотчас же попали в этот круг и стали часто бывать в нем; таких сверстников для компании Мишелю, большею частью из воспитанников губернской гимназии, собиралось постоянно человек 15, и это посещение светского барского дома не могло не влиять на нас в хорошую сторону, исподволь шлифуя наши нравы и манеры, оставлявшие желать многого по причине глухой обстановки тогдашней провинциальной жизни.
Однажды задумано было устроить домашний спектакль из мальчиков, собиравшихся в доме Волконских; не помню, кто был распорядителем и кого угораздило выбрать для этого фонвизинского «Недоросля», пьесу, меньше всего подходившую для домашнего театра и во всяком случае бывшую далеко не по силам юных артистов. Волнение и суета поднялись в нашем кружке великие; роли были розданы и переписаны; Мишель должен был изображать Митрофана, живший у них в доме и учившийся с ним мальчик Зверев – Простакову, мой брат – Правдина и т. д.; на мою долю досталась небольшая роль Простакова, которую я исправно отзубрил, но все боялся, что сробею перед публикой, и меня бросало то в холод, то в жар при мысли, что вдруг, выйдя на сцену, я перезабуду все и не в состоянии буду произнести ни одного слова; даже просыпаясь ночью, я старался пробежать в голове всю роль, начиная с выходной фразы «Me…мешковат немного». – Уже заказаны были декорации, и репетиции у Волконских шли довольно часто в полном составе нашей труппы, но то ли из игры нашей ничего путного не выходило, то ли по другим причинам, затея эта вскоре рухнула, и нам так и не удалось дебютировать на сценических подмостках. Надо полагать, что актеры мы были самые первобытные, потому что ни один из нас ни разу не видал до того никаких образцов, которым мог бы подражать, так как только около этого времени в Иркутске чуть ли не впервые появилась драматическая труппа, дававшая публичные спектакли, да и то такая горемычная, что ее лицедейством трудно было воспользоваться нам для руководства.
С этими первыми театральными впечатлениями, испытанными на моем веку, связано у меня несколько забавных воспоминаний, которые я приведу здесь для иллюстрации того уровня, на каком находилось в Сибири около половины XIX столетия сценическое искусство, и дли этого позволю себе небольшое отступление. Начать с того, что представления прибывшей тогда в город труппы происходили в небольшом деревянном бараке, построенном в центре городского сада, живописно раскинувшегося по берегу Ангары; барак этот был так неказист и мал, что когда я приехал в 1854 г. в Иркутск уже юношей и нашел на окраине этого сада вновь выстроенное здание благородного собрания или клуба, то для прежнего храма Мельпомены не нашли лучшего употребления, как обратить его в кухню для нового собрания. Наивность и публики, и актеров не далеко ушла от эпохи Аристофана – и у меня еще тогда врезалась в память одна афиша, на которой после названия пьесы и поименования действующих лиц стояло примечание, предупреждавшее посетителей, чтобы они не думали, что актер такой-то выйдет на сцену в действительно пьяном виде, а что опьянение это будет кажущееся, требуемое исполняемою им ролью. Очень памятен мне также мой восторг, когда отец в первый раз меня взял с собой в этот барак на одно из представлений, и то чувство, не то недоумения, не то разочарования, какое я испытал после него, вернувшись домой. Спектакль состоял из двух пьес: сначала шел какой-то переводный водевиль из испанских нравов, под названием «Дон Рануле де-Калибрадос» или «Что и честь, когда нечего есть», а потом известное драматическое представление «Купец Иголкин». Водевиль мне показался верхом совершенства и остроумия, я так и закатывался со смеху и с затаенным дыханием ловил каждое слово актеров, которые мне казались какими-то особыми существами, хотя едва ли на самом деле они были на высоте достоинства испанских грандов, ими изображаемых. «Иголкин же» меня удовлетворил гораздо меньше: патриотическая соль его мне тогда была мало доступна, а актеры, вдруг преобразившиеся из благородных испанцев в русских граждан, стали до того ходульны, начали так дико завывать, что получалось впечатление чего-то неестественного, нагонявшего на меня, несмотря на жадный интерес к представлению, уныние и даже скуку. А тут в довершение всего случился еще эпизод, разрушивший всякую иллюзию в одном из самых патетических мест: на сцене московская площадь с Кремлем вдали, толпится народ, с колокольни Икона Великого несется мерный протяжный благовест, очевидно, благовест этот производился за кулисами ударами в большой таз, и вдруг, шутя или неумышленно, таз этот вырвался из рук звонаря и с звяканьем и дребезжанием завертелся по полу – отчего получился трезвон, слишком знакомый всякому и не имеющий ничего общего с колокольным звоном, так что вся публика, настроенная мелодрамой на минорный тон, разразилась громким хохотом. Наконец, когда представление кончилось и мы поехали домой, наш кучер Кузьма неожиданно обернулся с козель и сказал отцу тоном, звучавшим самой презрительной насмешкой: «Ну, уж киятр, А. В., только одно прозвание; какой же это киятр?» – А что? – спросил удивленный отец – разве ты тоже смотрел? – «А как же! – продолжал Кузьма, – мы с кучерами смотрели сперва в щелки, снаружи, да тут плохо видать, а потом вышел к нам один из актеров и говорит: не хотите ли, ребята, идти полюбопытствовать поближе, я вас проведу даром? Ну, известно, дело занятное; мы, человек 6, оставили лошадей на товарищей и прошли за ним в дом; а он, как нас провел, и говорит опять: ну, говорит, послуги за послугу; вы тут смотреть можете, а только нам беспременно нужен для представления кучерской армяк; пущай нам кто-нибудь из вас даст на часок на подержание, вернем без обману во всей исправности. Как это он нам сказал, мы и видим – статья не подходящая: как можно хозяйское добро так зря отдать чужому человеку; кто его знает, какой он человек? А тут выскочили, значит, его товарищи и все пристают – дайте, да дайте! Мы видим, дело дрянь, хотели было вон, а они возьми, да дверь-то замкни на замок, и у нас тут без потасовки бы не обошлось, да один из кучеров надумался и говорит: а ну вас, черти! – берите вот мой армяк, его не убудет; только бы, чтобы на части, не рвать и не пачкать! Да тут же им и снял свой армяк». И тут отец мой припомнил, что новгородский купец Иголкин щеголял действительно в каком-то армяке, смахивавшем на кучерской и плохо приходившемся на могутный рост актера-трагика. Вот какими незатейливыми ресурсами обладало сценическое искусство в Иркутске менее чем поливка назад, и пусть современники сравнят это положение с настоящим, и они невольно скажут: свежо предание, а верится с трудом!
Впрочем, тут же, около этого времени, в конце 1846 г. или в начале 1847 г., сделана была попытка удовлетворить потребностям общества в театральных позорищах, и устроен был любительский спектакль в гимназии; поставлены были две пьесы, и исполнение их заслужило общее одобрение, а интерес спектакля еще увеличился тем, что одна из пьес была местного произведения и принадлежала, кажется, перу иркутского старожила, штаб-лекаря А. И. Орлова. У меня из нее в памяти осталось несколько куплетов, которые я привожу здесь, как любопытный и нигде не сохраненный образчик туземной поэзии того времени. Вот эти куплеты:
Наш Иркутск – прекрасный город,
Это – сущий божий дар,
Хоть зимой в нем страшный холод,
И ужасный летом жар;
Хоть в Иркутске не прельщают
Ни палаты, ни дворцы,
Не дивят, не восхищают
Нас гвардейцы-молодцы;
Хоть блестящего вокзала
Долго мы не заведем,
Хоть газеты иль журнала
Мы еще не издаем;
Хоть не пишем сочинений
На заказ и на показ
И Демидовских хоть премий
Не бирал никто из нас;
Хоть, быть может, очень многи
Нас во многом обвинят,
Если дельно, если строго
Разбирать нас захотят
Петербуржцы, москвитяне
С европейским их умом —
Но зато мы, иркутяне,
Благоденственно живем.
Есть у нас всего довольно,
Если взять да перечесть,
Так что вырвется невольно:
Все в Иркутске нашем есть!
Много всякого запасу,
Рыбы, дичи, сколько хошь,
И огромный туяз квасу
На базаре льют за грош.
Есть у нас два гастронома
И десяток поваров,
И для тона есть два дома
Превосходных докторов и т. д.
Далее, все в этом же роде, следовало перечисление немудреных и первобытных достопримечательностей города, которое заканчивалось тем, что спросите у любого жителя, и всякий вам скажет: «славно нам в Иркутске жить!» Понятно, такие куплеты встречены были восторженно и некоторое время распевались польщенными иркутскими горожанами, которых патриотические претензии почти и не шли далее здорового пищеварения и сытых желудков. Вторая пьеса была некогда известный водевиль «Школьный учитель», которому постарались тоже придать местный колорит: так, между прочим, в сцене экзамена вставлен был такой вокальный диалог между учителем и учениками; Учитель: «Чем замечательна Сибирь, что в ней растет, что в ней родится?» Ученики: «Корица, перец и имбирь». Учитель: «Ребята, врать так не годится». – Таковы были зачатки иркутского театра когда меня в 1847 г. отправили учиться в Москву, а в 1854 г., когда я приехал студентом домой на ваканцию, то я уже нашел настоящий театр в весьма поместительном и специально выстроенном здании, с ложами, с постоянной труппой, с репертуаром из пьес Гоголя, Островского и т. д., конечно с гардеробом, избавлявшим актеров от необходимости занимать костюмы у кучеров.
Так быстро развилась в Иркутске одна из отраслей изящного искусства – и этому быстрому ее росту не мало содействовало, без сомнения, присутствие декабристов. Уж одна открытая жизнь в доме Волконских прямо вела к сближению общества и зарождению в нем более смягченных и культурных нравов и вкусов. Но и помимо того, как ни старались остальные декабристы не слишком выдаваться вперед и сохранять свое скромное положение ссыльнопоселенцев, но единовременное появление в небольшом и разнокалиберном обществе 20-тысячного городка 15 или 20 высокообразованных личностей не могло не оставить глубокого следа. Некоторые из них, как например Николай Бестужев, Никита Муравьев, Юшневский и Лунин, оказывали неотразимое влияние своими выдающимися умами, большинство же – тем глубоким и разносторонним просвещением, пробелы в котором они тщательно восполнили во время своей замкнутой от мира, но дружно сплоченной жизни в Чите и Петровском заводе. Истинное просвещение сделало то, что люди эти не кичились ни своим происхождением, ни превосходством образования, а, напротив, старались искренно и тесно сблизиться с окружавшей их провинциальной средой и внести в нее свет своих познаний; все пройденные ими в жизни испытания наложили на них печать не озлобления, не человеконенавистничества, а безграничной гуманности, необыкновенного благодушия и скромности и создали из них тот своеобразный и редкий в России тип, который с таким высоким художественным тактом и так верно воспроизводил гр. Л. Толстой в отрывке из романа «Декабристы». Естественно поэтому, что они скоро завоевали себе общую любовь и уважение в Иркутске, и благотворное влияние их на окружающую среду было глубоко, хотя, быть может, и не легко уловимо, потому что достигалось медленно и незаметно, не громкими фразами и не блестящими делами, а разумной и всегда согретой гуманными наклонностями беседой и личным примером безукоризненной честности во всех проявлениях своей будничной жизни, бывшей на виду у всех. Каждый из них в отдельности и все вместе взятые – они были такими живыми образцами культуры, что естественным образом поднимали значение и достоинства ее в глазах всякого, кто с ними приходил в соприкосновение, и особенно в тех, в ком бродило смутное сознание чего-то лучшего в жизни, чем то животное прозябание и самоопошливание, какими отличалась жизнь тогдашнего провинциального захолустья. И нет сомнения, что весьма многие из иркутских чиновников и купцов, только в силу этого непосредственного обаяния просвещения, почувствовали большую потребность в духовных наслаждениях жизни, стали больше читать и особенно стали заботиться о том, чтобы дать своим детям по возможности совершенное образование. Недаром же с этого именно времени, т. е. с конца 40-х годов, которые считаются в России самым глухим и неблагодарным периодом в истории русского просвещения XIX века, в иркутском обществе обнаруживается первое стремление молодежи в русские университеты, которое, получив тогда первый толчок, продолжало с тех пор только прогрессивно расти и развиваться.
XI
Но возвращаюсь к рассказу о моем воспитании у А. В. Поджио, продолжавшемся около двух лет до мая 1847 года. Зимой для уроков – первую зиму старший брат мой и я, а вторую – я и третий мой брат, – ходили на городскую квартиру Поджио, жившего в двух шагах от нашего дома, на Большой же улице, а на лето мы переезжали с ним вместе в его домик в деревне Усть-Куда. Учились мы у него французскому и русскому языкам, а для математики к нам в дом раза два в неделю продолжал приезжать кротчайший П. И. Борисов из Малой Разводной. Несмотря на то, что Поджио никак не принадлежал к присяжным педагогам и принялся за воспитание детей, когда ему уже перешло за 40 лет, но это отсутствие навыка и правильного метода окупалось у него чрезвычайной добросовестностью и терпением, так что мы скоро сделали заметные успехи в ученье и стали бойко болтать по-французски. Но главная суть не в этом, а в том, что нравственное влияние на нас Поджио, как воспитателя, было огромное. Я уже раньше сказал о его редкой доброте и прекрасных качествах, а потому, чтобы не повторяться, прибавлю только, что при всей страстности и живости своего южного темперамента, которых из него не могли вытравить ни крепость, ни ссылка, он не был ни раздражителен, ни вспыльчив, и его обращение с нами отличалось большою ровностью и чисто женственною нежностью, так что мы не могли не привязаться к нему и не стараться отплатить ему нашим послушанием; кроме того он всегда был искренен в своих поступках и не допускал ни малейшей фальши даже в словах. Зимой, когда мы только на несколько часов прибегали на уроки в его квартиру, это воспитательное его влияние на нас было более поверхностное и легко могло изглаживаться всей нашей остальной обстановкой грубоватого провинциального быта, но другое дело – летом, когда мы жили с ним под одной крышей и совсем поступали под его наблюдение, и тогда неизбежно подчинялись цельному обаянию его личности и проникались тою чистою и нравственно здоровою атмосферою, какая его постоянно окружала.
В полном расцвете весны, примерно около половины мая, Поджио увозил нас с собой в деревню Усть-Куда, где у него были свой домик и свое огородное и полевое хозяйство, и там мы оставались до половины сентября. Деревня эта лежит в 23–24 верстах от Иркутска, немного в стороне от Ангарского тракта, при впадении реки Куды в Ангару. В город для свиданья с родными мы приезжали не чаще одного или двух раз в месяц, большею частью вместе с Поджио, когда ему нужно было сделать покупки в городских лавках или повидаться с кем-нибудь по делам, и для нас эти поездки составляли большое наслаждение. Подавалась так называемая тележка или фаэтон на длинных дрогах, запряженный парой лошадей; обыкновенно кучера не брали вовсе, а Поджио правил сам лошадьми, надевши в рукава свою камлотовую шинель 37 и серую шляпу с широкими полями, из-под которой развевались его длинные черные волосы. На возвратном пути из Иркутска мы особенно любили подъем на Верхоленскую гору, на который требовалось около получаса времени; тогда мы вылезали из экипажа и рыскали по окраинам дороги, углубляясь понемногу в придорожный лес, то в погоне за бабочками и насекомыми, то в поисках за ягодами, грибами и цветами, и, бывало, успевали так избегаться, что, когда А. В., взобравшись на гору, позовет нас, мы, утомленные, бросались в экипаж и крупной рысцой ехали дальше. За станцией Урик, где до разрешения жить в городе жили Волконские, мы сворачивали с Ангарского тракта на узкий проселок, и на этом переезде к дому надо было переезжать вброд реку Куду, где нас ожидало новое удовольствие: в жаркие дни А. В. позволял нам выкупаться, а сам, сидя на берегу, курил из своего длинного чубука и только поторапливал, чтобы мы не чересчур долго злоупотребляли этим перерывом нашего путешествия. Наконец, вот и наша резиденция Усть-Куда, где протекли два памятных лета моего детства, о которых я всегда вспоминал с любовью, и где с того времени мне не пришлось побывать ни разу.
Деревенька была небольшая, вытянувшись в одну улицу из полусотни домов. Дом, занимаемый Поджио, был небольшой и отличался от прочих крестьянских только тем, что был обшит тесом и потому казался опрятнее; небольшое крылечко со двора вводило в обширные темные сени, откуда поднималась широкая лестница на чердак, служивший сенным сараем; из сеней вход был в большую комнату с окнами на деревенскую улицу, игравшую роль и салона и столовой; потом следовали две комнаты, выходившие в огород, из них одну занимал А. В., а другую я с братом. К дому примыкал обширный двор, на котором мы большею частью резвились во время отдыха от занятий; деревьев кругом не было, зато перед нашими окнами тянулся ряд парников и гряд, где Поджио с большими заботами выращивал всякую редкую в Сибири зелень и особенно ухаживал за дынями и канталупами, которыми очень гордился. Как итальянец по привычкам, он предпочитал мясу хорошие овощи и фрукты, и отсутствие последних в Иркутске составляло для него чувствительное лишение. Мне до сих пор памятен его рассказ, как радостно был он изумлен, когда по переселении в Усть-Куду из Забайкалья, пришедшая к нему на другой же день крестьянка предложила, не хочет ли он у нее купить «яблочков»? – «Как? да откуда же вы их привозите?» – «Зачем привозить, батюшка, сами выводим здесь». – «Почем же вы их продаете?» – «Да положите рублика два за мешок». – Для Поджио это был великий сюрприз, он не верил своим ушам: как? яблоки в Сибири, да еще продаются мешками? и он приказал бабе немедленно принести ему мешок, но разочарование наступило скоро, когда продавщица доставила ему мешок самого неказистого картофеля, и тут он впервые узнал, что за отсутствием яблоков в Сибири их громким именем титулуется простой картофель.
На нашем же дворе кроме различных хозяйственных служб, стояла особняком маленькая избушка, вросшая в землю и покачнувшись на бок: в ней одиноко проживал сосланный за польское восстание поляк Сабинский; это был фанатик своей национальной идеи, и хотя с декабристами он был хорошо знаком, но особенной близости между ними, казалось, не виделось. Во время наших игр во дворе мы не редко видали его возвращающимся с прогулки в свою крохотную избушку – и я, как теперь, помню его, хотя уже далеко не первой молодости, но стройную фигуру с большими черными глазами, всегда смотревшими строго и сосредоточенно из-под густо нависших бровей; мы его немного побаивались, но к этому детскому страху примешивалось и невольное уважение после того, как Поджио сказал нам, что это человек очень образованный и отлично говорит на семи языках. Долго пришлось бедному Сабинскому изжить в Сибири, и только в амнистию 1856 года он получил разрешение вернуться на свою родину, в Киев, но продолжительная ссылка не сломила его энергии и преданности польскому делу, и, как я узнал впоследствии, во время восстания 1863 года он снова вызвал против себя преследование правительства за деятельное участие в антирусских демонстрациях – за пение гимнов в киевских костелах, и снова был куда-то выслан, будучи уже более чем 70-ти летним стариком.
Кроме Поджио, в расстоянии нескольких домов от него, проживал еще в то время в Усть-Куде декабрист Петр Александрович Муханов в своем новом, совсем с иголочки, выстроенном им самим, домике в 3 или 4 комнатки, куда мы находили довольно часто или с Поджио, или одни, так как Муханов на лето взял на себя занятия с нами по арифметике. Это был человек могучего сложения, широкоплечий и тучный, с большими рыжими усами и несколько суровый в обращении, так что у нас, детей, особенной близости с ним не было, а потому и личность его оставила мало следа в моей памяти. В начале 50-х годов он помер скоропостижно в Иркутске чуть ли не накануне для своего вступления в брак с директрисой иркутского института, М. А. Пороховой. В том возрасте, в каком я был, меня гораздо больше, чем Муханов, интересовал часто проживавший в его домике, помешанный ссыльный Раевский. Кто он был прежде и за какую провинность попал он в Сибирь, я и теперь не знаю; слышал я только, что он, будучи до наказания человеком сановитым и образованным, во время следования в сибирскую ссылку был, вследствие каких-то недоразумений, на несколько лет задержан в Тобольском остроге и вынес в нем очень много тяжелых притеснений, что и было причиной его помешательства. Он был маленький, худенький старичок, лет около 60, со сморщенным лицом и вечно насупленными, густыми и седыми бровями; его часто можно было видеть на деревенской улице, выступающим всегда величаво в длинной, очевидно с чужого плеча, серой выцветшей шинели и съезжавшем ему на глаза картузе и постоянно рассуждающим вслух сам с собою с непомерной жестикуляцией. Человек он был кроткий и безобидный, и только, когда ему противоречили или когда к нему чересчур назойливо приставали деревенские мальчуганы, он горячился и разражался такими отрывистыми, генеральскими окриками, которые заставляли догадываться, что прежде он принадлежал к сословию лиц командующих. Перед Мухановым он просто благоговел и часто нам таинственно и шепотом передавал, что это никто иной, как великий князь Константин Павлович, желающий сохранять строжайшее инкогнито; себя же он считал за какого-то мифического фельдмаршала фон-Пуфа, посланного с войском в Китай для освобождения принцессы Помаро, взятой китайцами в плен и заточенной в фарфоровой башне. От Муханова он часто заходил к Поджио и Волконским, и декабристы всегда участливо принимали бедного помешанного старика из сострадания к его одиночеству и беспомощности. Мы с братом часто выручали его из схваток с деревенскими детьми, а потому он к нам очень благоволил, произвел в свои адъютанты, при встрече рассылал нас с поручениями к своей армии и с невозмутимой важностью главнокомандующего выслушивал наши доклады; все это нас очень забавляло, и мы много ухаживали за жалким старичком с тем чувством, с каким свойственно в тот возраст относиться к занимательным игрушкам. Много рассказывали тогда, как Раевский однажды забрался на прием к ревизору Толстому и начал публично распекать его за какие-то воображаемые промахи, сказавши между прочим: «ты сенатор Толстый, а я из тебя сделаю тонкого». О последующей судьбе Раевского, где и при каких условиях кончил он свою бесприютную жизнь, я ничего не слыхал впоследствии.
XII
Под мягким, хотя и неослабным наблюдением Поджио привольно и весело протекала наша деревенская жизнь. Уроки наши оставляли нам много свободного времени, которое наполнялось самыми разнообразными развлечениями, но главным притягательным для нас пунктом и источником всяких увеселений был Камчатник, летняя резиденция Волконских, отстоявший в 2-х – 3-х верстах от нашей деревни. Первоначально открыл это место О. В. Поджио и, прельстившись его величественной красотой и безлюдьем, выстроил для себя маленький домик, а впоследствии местность эта сманила и Волконских, и в годы, описываемые мною, они имели там уже давно обжитой двухэтажный дом, с разбросанными кругом него службами, но все это имело характер временного жилья и даже не было обнесено забором. Местность была действительно очень живописна; передний фас дома был обращен к Ангаре, протекавшей своими быстрыми, хрустально чистыми струями в 30–40 саженях от него и в этом месте дававшей весьма широкий плес, но сейчас же влево река разбивалась на два или три протока, огибавшие большие зеленые острова, поросшие молодым кустарником, березняком, боярышником и другими лиственными породами северной природы; сзади дома непосредственно тянулась цепь лесистых гор, и одна из них, самая высокая и ближайшая к дому, с вершины которой открывался превосходный вид на дремучую даль с прорезывавшею ее Ангарой, носила название в память декабриста доктора Вольфа – Вольфсберг. Вокруг дома столетние лиственницы и сосны образовали тенистый природный парк, а сибирское лето, так щедро вознаграждающее за свою кратковременность, развело богатый и роскошный цветник своей разнообразной, дикой флоры. Большое достоинство этой дачи заключалось еще в том, что близость холодной и быстрой реки значительно умеряла жар знойного лета и делала вечера даже прохладными. А как весело жилось в этом прелестном, хотя глухом и так страшно удаленном от европейской жизни уголке! И не только это казалось мне тогда, в моей наивности и в детском незнакомстве с таинственным прошлым этих почтенных людей, которых судьба, насильственно нарушив весь нормальный строй их жизни, забросила на Камчатник, но впоследствии мне не раз приходилось слышать от самих декабристов, уже по возвращении их в Россию, с какой благодарной памятью и с каким наслаждением вспоминали они о своем пребывании как в этой, так и в других сибирских дебрях. Конечно, все же это была жизнь подневольная, а известно, что даже золотая клетка, и тем менее сибирская, не в состоянии заменить свободы, но в этом-то и состояла замечательная характерная черта декабристов, коренившаяся в их солидном образовании и культурности, что они, казалось, легко примирялись со своей участью. Этою культурностью достиглось прежде всего то, что они, проведя несколько лет все вместе на каторге, сплотились между собой в тесный кружок, в большую братскую семью, среди которой находилось несколько человек с выдающимся умом и в которой члены, обладавшие наибольшею нравственною силою и большими материальными средствами, поддерживали своею энергией менее устойчивых, а небогатым давали возможность и средства расширять круг своих познаний. Притом они не замкнулись в своей кружковщине и при переходе на поселение тотчас же постарались найти себе практическую деятельность по душе и пристроиться к какому-нибудь делу на пользу края, где они были обречены искупать свою вину, а эта деятельная жизнь не позволяла им расплываться в бесплодных сокрушениях о загубленной судьбе и ожесточаться, и, привлекая к ним глубокие симпатии и уважение со стороны туземного населения, которых они не могли не замечать на каждом шагу, напротив, более или менее примиряла большинство из них с их сибирским настоящим.
На Камчатник мы отправлялись пешком или вместе с А. В. Поджио, или одни, иногда с утра, но большею частью пообедавши дома, и обыкновенно находили там шумную и веселую компанию. Кроме Волконской, муж которой часто отлучался по своему сельскому хозяйству в Урик, детей, товарища сына – Паши Зверева, гувернера, m-r Милльер, и гувернантки, там жил О. В. Поджио, и постоянно кто-нибудь гостил или из декабристов, или из городских знакомых. Несколько раз в лето приезжала семья Трубецких, зачастую привозя с собой двух барышень Раевских. Раевский тоже был политический сосланный, проживший также десятки лет в Сибири, и хотя был сослан одновременно с ними, но не считался принадлежащим к их кругу и, кажется, на каторге с ними не был. О нем и его семье я мало могу сказать; жил он в селе Олонках, в 60 верстах от Иркутска, и имел, кроме жены, двух дочерей и двух сыновей; дочерей он оставил при себе, а сыновей отправил для воспитания в Россию. Сам Владимир Федосеевич Раевский держал себя как-то особняком и, должно быть, редко выезжал из Олонок, потому что мне ни разу не пришлось его видеть ни у декабристов, ни в городе; репутацию он имел человека весьма умного, образованного и строгого, но озлобленного и ядовитого. Дочерям его в описываемое время – старшей Александре было уже около 16-ти лет, и она держала себя с нами взрослой, серьезной барышней, а меньшей Елизавете – лет двенадцать. Когда приезжали они и Трубецкие со своими тремя дочерьми, то из Камчатника тотчас же посылали за нами и устраивались танцы, petits jeux[2 - Развлечения (фр.).], игра в горелки на лужайке перед домом и т. п., и обыкновенно праздник заканчивался фейерверком, до которого Мишель Волконский был большой охотник и любил устраивать его сам. Во всех этих увеселениях нередко принимали участие и сенаторские чиновники, приезжавшие также группами в 2, 3, 4 человека повеселиться в гостеприимном доме.
Немалую также роль в развлечениях Камчатника играла охота, особенно осенью за зайцами, на которую захватывали и нас. Наиболее страстным охотником из всех был О. В. Поджио; у него была даже своя пара прекрасных гончих собак, – и вот около конца августа эти умные собаки, соскучившись летним бездействием, отправлялись на разведку на лежащие против Камчатника острова, и тогда тявканье и гоньба по горячему Заграя и Плаксы (клички обеих собак) начинали ежедневно разноситься далеко в чутком вечернем воздухе и смущать старческое сердце Ос. Вик-ча и 14-тилетнее сердце Мишеля, которому подарено было ружье, и он, как неофит, страстно жаждал охотничьих подвигов. Тогда наконец снаряжалась экспедиция, и хотя собственно стрелков было человек 8 или 10, экспедиция эта принимала большие размеры, потому что, помимо нас и прислуги нанималось несколько десятков мужиков, баб и детей и все это в лодках переправлялось на один из соседних островов. Эти дни охоты придавали особенное оживление нашей деревенской жизни и врезались в моей памяти, как одно из самых ярких воспоминаний того времени. Еще накануне мы помогали А. Винчу и Мухонову набивать патроны, а в день охоты с утренней зарей спешили в Камчатник и там суетились, помогая нагружать большой карбаз охотничьими снарядами и провизиею, между тем как собаки, визжа от радости, прыгали и метались как сумасшедшие. Наконец все готово, карбаз отваливал; гребцы едва успевали взяться за весла, как быстрая Ангара живо перебрасывала на выбранный остров всю эту оживленную компанию, стряхнувшую с себя все заботы дня и горевшую нетерпением поскорее добраться до бедных зайцев, которые и не чувствовали, какая страшная гроза на них надвигалась.
Высадившись, компания торопливо пускалась в путь по росистой и уже сморщившейся и пожелтевшей от осенних утренников траве; впереди быстро шагал Осип Викт-ч; он, как главный распорядитель, осматривал местность, отдавал приказы загонщикам и распределял, куда стать каждому охотнику. Брать мой и я поступали по очереди в адъютанты то к Алек. В-чу, то к Осипу В-чу и очень дорожили своим прикомандированием к последнему, не столько ради его первенствующей роли, как лучшего стрелка, сколько потому, что его собственное увлечение и охотничий азарт невольно сообщались и нам и придавали еще бо?льшую живость переносимым впечатлениям. Вот, расставивши всех по местам, О. В-чъ, устанавливается наконец и сам на облюбованном для себя месте, обыкновенно перед неширокою лужайкою, идущею вдоль невысокой поросли леса или кустарника, осматривается внимательно кругом и надевает пистоны; я помещаюсь сбоку на каком-нибудь пне, шагах в десяти, и наблюдаю за О. В-м. Солнце стоит уже высоко и заливает яркими лучами лежащий перед нами пейзаж начинающей блекнуть природы; в чутком осеннем воздухе уже разносятся где-то далеко от нас крики загонщиков, го-го-го-го! Крики эти мало-помалу приближаются к нам, и среди этого нарастающего гама начинает слышаться тявканье пары гончих, но О. В-ч продолжает стоять спокойно, прислонясь к стволу дерева и рассеянно щурясь на окружающую полипу; вдруг тявканье одной из собак быстро приблизилось к нам, еще несколько мгновений – и вблизи от нас раздались раз за разом два выстрела; О. В-ч тотчас же встрепенулся и взвел курки, крикнув в мою сторону отрывистым шепотом: «ну, теперь, братец, стояв смирно!» Повторять мне приказ не нужно, я и без того уже весь внимание и с замирающим сердцем слежу за преобразившейся вмиг фигурой старого охотника: все лицо его какою оживилось, помолодело, глаза быстро перебегают по лежащей перед нами полянке; вдруг он с необычайной быстротою перебрасывает ружье, прикладывается и направляет дуло вперед; я бесшумно поворачиваю глаза в сторону направленного ружья и жду не без сердечного трепета, что вот-вот у меня под ухом раздастся оглушительный выстрель; но проходит несколько секунд, я оглядываюсь на О. В-ча и вижу, что он уже опустил ружье и, стало быть, тревога была фальшивая. А между тем выстрелы все учащаются и справа и слева, сопровождаясь то возгласами торжества, то разочарованья; дикое оранье загонщиков все приближается, лай собак становится еще горячее, и вскоре над зеленью нашей полянки показывается отчаянно подпрыгивающая спинка беляка; О. В-ч не медлит, следует выстрел, другой, – и заяц, сделав прыжок в сторону, пропадает вдруг из моих глаз. «Кажется, убил; поищи тама», – говорит мне О. В-чъ, и я, стремглав, не помня себя, бегу по указанию его пальца и после немногих поисков взад и вперед попадаю взором на белеющую массу. Да, это заяц; он лежит, бедный, на боку и вздрагивает ножками, глаза его еще поворачиваются, но они уже подернуты какой-то тусклой дымкой и не видят моего приближения; его белая пушистая шкура слиплись на боку брызнувшей из раны кровью; он мне кажется необыкновенно большим, и я торжественно тащу его О. В-чу, который мельком взглянул на него с одобрительными словами: «славный, жирный» и снова стал в выжидательную позу. И так продолжаем мы стоять 4–5 часов все на том же месте, и часы эти летят незаметно, благо зайцев много, и они то и дело шмыгают мимо.
Наконец солнце уже далеко перешло на западную половину неба, голоса загонщиков становятся и хриплое и ленивее, выстрелы реже, и наконец я с великим прискорбием вижу появляющуюся между кустами фигуру одного из наименее ретивых охотников, со словами: «а что, О. В., не пора ли червяка заморить, да и по домам?» О. В-ч сам неохотно выслушивал это предложение, но покоряется ему, зноя, что большинство соратников не на его стороне и что действительно запаздывать не годится, так как на обратные сборы времени уйдет немало. Начинается обход охотников и снятие их с места, крики загонщиков смолкают, и все направляются к коврам, разостланным под деревьями, где ожидает холодный завтрак, кажущийся нам необыкновенно вкусным, и чай; происходит общий осмотр добычи; все рассаживаются на коврах, и еда перемешивается рассказами того или другого охотника о пережитых впечатлениях дня, среди которых случается и немало комических эпизодов, поднимающих общий смехе. Все наэлектризованы очень весело, шутят и острят, и чаще всего мишенью острот делался гувернер Милльер, подслеповатый и очень близорукий человек и потому плохой стрелок, изводящий пропасть зарядов и всегда возвращающийся с пустыми руками, а между тем великий хвастун и благер. В числе постоянных участников наших охот всегда находится один из кудинских крестьян, страстный охотник, являющийся со своим кремневым ружьем и с своей белой овчаркой-собакой, сносно выдрессированной для охоты за утками и болотной дичью и совсем непригодной для гоньбы за зайцами. Вот этого-то пса Милльер по своей подслеповатости нередко принимал за зайца, подкрадывался к нему и немало извел на него своих патронов, и только благодаря тому, что он стрелок был горе-горький, собака как бы чудом оставалась целой и невредимой. Зато между нею и французом установились особые и действительно вызывавшие на смех отношения: овчарка, добродушная и ласковая со всеми, не могла видеть равнодушно француза, и как только он поднимался с места, тотчас же вскакивала, очевидно признавая в нем своего личного и опасного врага, отбегала на почтительное расстояние и начинала неистово лаять и подпрыгивать. А так как собака всегда присутствовала при этих полевых завтраках и при ней Милльер не мог пошевелиться без того, чтобы не раздалось вблизи сердитое ворчанье, а вместе с тем не начались и обычные остроты товарищей по охоте, то и самолюбивый француз просто возненавидел своего лохматого врага. Наконец завтрак был кончен, мы усаживались в карбазы и отчаливали от перебудораженного нами острова, на котором снова водворялась непробудная тишина, и только уцелевшие зайцы, вероятно, долго не могли успокоиться от волнения, причиненного нашим нашествием. А мы с трофеями возвращались домой, где на берегу нас встречали дамы. Континентальная сибирская осень отличается своею ясною сухостью, и я ни разу не помню, чтобы дождь или непогода захватили нас на охоте и омрачили мои воспоминания об этих веселых днях, полных для меня и доныне своею светлою прелестью.
Уженье рыбы занимало также видную роль в наших летних досугах. У А. В. Поджио был арендован под покос луг, известный под названием «Выгородки», верстах в 2-х – 3-х от деревни и прилегавший к реке Куде; когда он отправлялся на Выгородки, то брал и нас с собой, к компании нашей нередко присоединялись Мишель с Зверевым и гувернером, и мы по целым часам простаивали с удочками под тощими прибрежными ивами, вытаскивая из тихих заводей реки пискарей и окуней, водившихся в ней в изобилии.
XIII
Кроме того, за это же время я пристрастился к чтению, и эта страсть, только возраставшая с годами, доставила мне в жизни самые чистые и высокие наслаждения, а потому я не могу не вспомнить с благодарностью, что этой страстью я в значительной степени был обязан времени, проведенному у А. В. Поджио. Впрочем я должен прибавить, что и отец мой, будучи весьма занятым своими торговыми делами, любил постоянно читать и следить за литературой, выписывал журналы, имел хорошую для того времени библиотеку и своим примером тоже поощрял во мне зарождавшуюся страсть. Отец сам по себе давал такую высокую цену хорошему образованию, что, вероятно, и без влияния декабристов не остановился бы перед трудностями дать нам его, а трудности эти были весьма существенны и, помимо удаленности Иркутска от образовательных центров, заключались и в том, что отец пользовался только весьма умеренным достатком, а никогда не считался богачом. Несомненно однако, что знакомство и общение с декабристами еще более укрепило его в намерении относительно нашего воспитания и очень облегчило ему выполнение этой задачи. Он не замедлил ее выполнить и, отправляясь ежегодно по делам на нижегородскую ярмарку, в Москву и Петербург, он в 1840 году увез с собою старшего моего брата и поместил его в пансион Эннеса, один из лучших иностранных пансионов, бывших тогда в Москве; мне же было объявлено, как второму сыну, что на следующий год очередь будет за мной.
Вообще можно сказать, что иркутское купечество проявляло уже тогда большее стремление к образованию, чем это замечалось среди купечества внутренней России – и этому, мне кажется, была довольно понятная причина. Попадалось и в Иркутске несколько старинных и богатых купеческих домов, живших замкнутою и патриархальною жизнью, но их было немного; большинство же состояло из недавних выходцев из той же внутренней России, почти исключительно из вологодской, вятской и архангельской губернии, а так как в далекую Сибирь пускались все люди способные, предприимчивые, не удовлетворявшиеся рутинными и тесными рамками местной торговли и стремившиеся в Сибирь, как в отдаленную строну, где их способности и энергия могли найти более обширное поле для применения, то таким образом естественно образовывался подбор людей умных и деятельных, любивших работать мозгами, а не сидеть, сложа руки. Подвижность их была действительно изумительная, ибо редкий из этих иркутян не покидал каждый год своей семьи на 3–4 месяца, отправляясь или на нижегородскую ярмарку, или вдоль по Лене – в Якутск и Охотск, а с конца 1850-х годов в район этих путешествий вошла и Амурское окраина; эти же путешествия сами по себе служили отличным развивающим средством, так как знакомили с новыми местами, сводили с множеством новых людей иных понятий, обычаев и взглядов, а это не могло не расширить еще больше умственный кругозор этих живых людей. Как на образец такой подвижности могу указать опять-таки на моего отца, который еще за несколько лет до своей смерти, а умер он 56 лет от роду, совершил свою 25-ю поездку в Москву, что, считая в оба конца, вперед и обратно, по 10,000 верст, дает почтенный итог в 250,000 верст; кроме того, он несколько раз съездил в Якутск, на Амур, и даже в год своей смерти, уже совсем расшатанный болезнью, успел побывать и в Петербурге и в Николаевск на Амуре, т. е. на крайних, западном и восточном пунктах Российской империи, между которыми расстояние по календарю значится в 9,917 верст. Еще если бы эти путешествия совершались с теми удобствами, с какими они совершаются в настоящее время, а надо помнить, что применение пара на русских путях началось лишь в начале 50-х годов, когда открылась Николаевская железная дорога и появились первые пароходы на Иволге и Каме; до того же надо было вплоть до Москвы ехать в тарантасах и на перекладных по таким дорогам, которые в весеннее и осеннее время делались почти непроездными. Я не берусь с точностью высчитать, какую часть своей жизни употребил таким образом мой отец на разъезды, потому что не знаю наверное числа его поездок в Якутск, на Амур, в Енисейскую тайгу, но едва ли я преувеличу, сказавши, что 7–8 лет своей жизни он провел в пути между двумя станциями; достаточно сказать, что он до того обжился в тарантасе и отвык от оседлых удобств, что последние годы своей жизни, когда ему удавалось прожить несколько месяцев покойно дома, он уже потерял привычку спать в кровати, а устраивался на ночь в большом кресле полулежа и надевая на себя свой дорожный костюм: халат на беличьем меху, мягкие козловые сапоги (ичиги) и даже какую-то мягкую шапку на голову.
И большинство иркутских купцов вело подобную разъездную жизнь, так что летом город заметно пустел, потому что одна часть уезжала в Нижний, другая уплывала по Лене, третья разъезжалась по золотым приискам, и только в октябре, по возвращении мужей, начиналась и в городе и в семьях полная жизнь. Надо думать, что выработке более самостоятельных и прогрессивных личностей в иркутском купечестве не мало способствовало также то, что в Сибири, при отсутствии крепостного права, вовсе не существовало поместного дворянства и следовательно не было того общественного элемента, который, если и был в русских провинциях несколько культурнее остальных, зато не мало грешил своим привилегированным положением, своею замкнутостью и тем родовым чванством, с каким относился к так называемым податным сословиям. В сибирских городах общество состояло из чиновников, военных и гражданских, и из купцов, и эти два сословия, в силу численной малочисленности общественных сил, неизбежно перемешивались между собою чаще, сближались теснее, и это вело только к еще большему развитию купцов и их общественной равноправности. Без сомнения, своим панегириком в честь иркутских купцов я нимало не хочу умалить заслуги декабристов и их роль в деле просвещения Сибири, а стараюсь только объяснить, почему их выдающиеся личности тотчас же были надлежащим образом оценены и приобрели в Иркутске общие симпатии, а их пропаганда необходимости образования встретила такую подготовленную почву, что быстро стала приносить плоды. Так, одновременно с моим старшим братом, отправлен был из Иркутска старший же сын купца Н. И. Баснина, человека очень богатого, умного и большого оригинала, и помещен также в пансион Эннеса, а на следующий год, когда отправили и меня, отвезен был туда же и второй сын Баснина. А ведь нетрудно понять, как тяжело доставалось это образование детей нашим родителям, и надо было сильно сознавать его значение, чтобы идти на такие жертвы; не говоря уже о материальных затратах, весьма значительных вследствие удаленности Иркутска от столиц, какой нравственной борьбы стоила нашим отцам и матерям решимость отпускать своих детей за 5,000 верст, на руки совершенно чужих и посторонних людей, совсем в другую часть света, откуда всякое письмо шло в один конец никак не меньше месяца, а в весенние и осенние распутицы срок этот удлинялся чуть что не вдвое, телеграфа же тогда не было еще и в помине. Для детей тоже эта разлука с домашним кровом обходилась не без большой ломки, но мне кажется, судя по виденным мною образцам, такая ранняя оторванность от семьи скорее имела на них благоприятное, чем дурное влияние в смысле выработки нравственных характеров. Перенесенные в совершенно новую обстановку и рано предоставленные самим себе, дети ранее обыкновенного, в 12-14-летнем возрасте, сознавали необходимость строже следит за собою и за своими поступками, обходиться без советов старших, привыкали распоряжаться своими действиями самостоятельно и не рассчитывать на баловство и на всепрощающую любовь домашних; все это развивало наши характеры и придавало нм большую энергию и выдержку. Конечно, бывало иногда и обратное, то есть что такая преждевременная самостоятельность и такое отсутствие родительского контроля обращались во вред и приготовляли деморализованных людей, но так как во-первых я таких примеров знаю сравнительно очень мало, а во-вторых случаи воспитательной порчи среди детей, выросших под крылом родителей и постоянно на помочах, встречались, и, пожалуй, встречаются в России и до сих пор очень часто, то я склонен скорее думать, что система воспитания сибирских мальчиков вдали от родных имела, по крайней мере дли своего времени, гораздо больше хороших последствий, чем дурных.
Промелькнула и последняя зима моего привольного и беззаботного детства дома. Я все продолжал заниматься у А. В. Поджио, к которому на смену выбывшего старшего брата поступил теперь мой третий брат. Наступила весна. Недели за две до отправления в Москву меня уволили от всех занятий и в течение этого времени баловали до отвалу, исполняя все мои желания и прихоти, вроде того, как баловали в те годы сыновей, сдаваемых в рекруты. Мать старалась не отпускать меня от себя, в голосе отца слышались в обращении со мной необычайно ласковые ноты, братья великодушно уступали мне во всем и дарили мне свои любимые вещи, разные бабушки и тетушки, а у нас их было немало, носили меня на руках. Словом, я чувствовал себя калифом на час, и мое упоение этим именинным настроением смущалось только частыми слезами бедной матери и набегавшим на меня смутным представлением о предстоящей мне перемене в жизни. Тяжесть разлуки со мной усиливалась для родителей еще тем обстоятельством, что в этом, 1847 году, отец никак не мог ехать сам в Москву, а потому приходилось меня даже на дорогу сдать на попечение посторонним людям, и в спутники или, как говорится в Сибири, в попутчики мои до Москвы найдены были интендантский чиновник Галенковский, ехавший в отпуск, и иркутский мещанин Стрекаловский, молодой человек, отправлявшийся в Москву для изучения стеклянного и фаянсового производства, и которому отец специально поручил меня во время путешествия. Накануне назначенного к отъезду дня мать позвала меня к себе и уложила мой чемодан при мне, чтобы я знал, где и что из моего белья и платья лежит, и не перерывал по-пустому весь чемодан, и в заключение дала мне особенную книжечку, в которой записан был весь мой гардероб, с наказом беречь все и не растеривать, так как ходить за мной больше уж будет некому. Потом я перешел в кабинет к отцу, и он мне прочитал составленное им для меня и написанное на большом листе бумаги наставление, как я должен вести себя в дороге и по приезде в Москву, наполненное не банальными сентенциями, а с тем ясным здравым смыслом, который его отличал, и с тою попечительною любовью, которая старалась предусмотреть до мелочей все затруднения и дотоле неведомые мне положения, какие могли встретиться на чужбине при дебютах в самостоятельной жизни; эту инструкцию он отдал мне, приказал почаще в нее заглядывать и советоваться с нею во всех затруднительных случаях. Утро отъезда прошло в больших суетах; в последний раз я пообедал в своей семье и тотчас же после обеда все родные и близкие разместились в разных экипажах и поехали провожать меня до Вознесенского монастыря, лежащего в 4-х верстах от города по московскому тракту и служащего обычным местом последнего расставанья с едущими в Россию; впереди, на долгуше, ехал я с родителями и братьями. В монастыре был отслужен, по всегдашнему обыкновению, напутственный молебен у мощей иркутского святителя Иннокентия, потом все перешли в монастырскую гостиницу, напились чаю, и затем наступил последний момент прощания. Отец чуть не насильно вырвал меня из объятий матери и подсадил в тарантас, по бокам моим поместились товарищи моего путешествия; все обнажили головы, перекрестились, и при словах: «Ну трогай, ямщик; с Богом!» застоявшаяся тройка весело двинулась, унося меня в неведомую даль. В последний раз мелькнуло у меня в глазах побледневшее, заплаканное лицо матери и неестественно веселое лицо отца с судорожно подергивавшимися губами, и я залился горькими слезами, уткнувшись лицом в свою дорожную подушку; мои спутники не пытались даже меня утешать и оставили свободно выплакаться. Этими слезами я оплакивал первый период моего детства, веселый, счастливый; впереди меня ждало что-то новое, особенное и, главное, совсем чужое.
Здесь я обрываю последовательный рассказ о моей личной жизни и далее коснусь ее лишь настолько, насколько в нее входят позднейшие мои воспоминания о декабристах. Чувствую опять-таки, что эти воспоминания и мелки и скудны, и если тем не менее пишу их, то в надежде, что и они могут со временем пригодиться как достоверный материал.
XIV
В Москве я тотчас же поступил в пансион Эннеса, где уже находился мой старший брат, и так как подготовлен я был хорошо, то и был принят в 3-й класс, а продолжая учиться старательно, через три года, т. е. в 1850 году, когда мне не исполнилось еще 16 лет, был в состоянии выдержать вступительный экзамен в Московский университет на медицинский факультет. В университете мои занятия шли так же успешно, и я надеялся в 1855 году окончить курс и вернуться на родину, но Крымская война совсем перепутала мои планы, когда правительство предложило нам, еще студентам 4-го курса, поступить военными врачами до окончания полного медицинского образования. Во мне началась сильная борьба: с одной стороны, всеми помыслами меня тянуло неудержимо домой в Иркутск, страстно хотелось повидать отца и мать, которых я не видал 7 лет, хотелось отогреться в тепле родной семьи после многолетнего пребывания среди чужих; а с другой, мое 19-летиее сердце не могло оставаться равнодушным к героическим усилиям русской армии, и я рвался туда – на эти севастопольские укрепления, где лилась родная кровь и валялись тысячи раненых, которым, в качестве врача, я мог принести посильную пользу. Узел этих колебаний я разрубил тем, что решил воспользоваться летней вакацией 1854 года и, сдавши переходные экзамены с 4-го курса на 5-й, прокатиться в Иркутск, повидаться с родителями и проститься с ними, быть может, снова на долгий срок, так как тогда я бы мог с более покойной совестью и с удовлетворенными чувствами отправиться по окончании курса врачом в действующую армию.
Тут же, весьма кстати для меня, подошло, что вакации в университете в этот год были продолжительнее обыкновенных, вследствие того, что, по случаю войны, вышло распоряжение, ввиду недостатка военных врачей, ускорить выпуск казеннокоштных студентов 4-го курса, а также и всех своекоштных, добровольно пожелавших обойтись без 5-го курса; таких добровольцев нашлось немало и только 50 человек, в числе которых был и я, хотели во что бы то ни стало отслушать 5-й курс; тем не менее и нас пристегнули к товарищам и заставили сдать переходные экзамены к началу мая; таким образом, мои вакации должны были продлиться около четырех месяцев. Однако мое намерение воспользоваться этим длинным отдыхом, чтобы съездить в Иркутск, т. е. отмахать 10 000 верст, считая туда и обратно, и притом в раннее весеннее время, когда не установилась летняя дорога и не сбыли весенние разливы рек, имеющие место обыкновенно в мае, не могло не казаться очень опрометчивым и безрассудным, а потому, когда я сообщил мое намерение приятелю моего отца, купцу П. И. Куманину, у которого я проживал все время моего пребывания в Москве, то этот весьма умный и почтенный человек, очень любивший меня, уставился на меня своими глазами, выражавшими недоумение, в здравом ли я уме и не чересчур ли перезубрил во время экзаменов. Но я так горячо и в то же время убедительно развил мои мотивы, что старик тут же обнял меня, сказавши: «Ну, что же? в добрый час, валяй, друг любезный, а если твой отец осерчает на тебя за твою поездку и найдет ее сумасшедшей, то ему ты так-таки и скажи, что, значит, и я на старости лет сошел с ума, потому что я план твой одобрил и благословил тебя на дорогу». Я успел подыскать себе и двух попутчиков, ехавших до Тюмени и, сдав 3-го мая последний экзамен, на следующий же день выехал из Москвы в родные края.