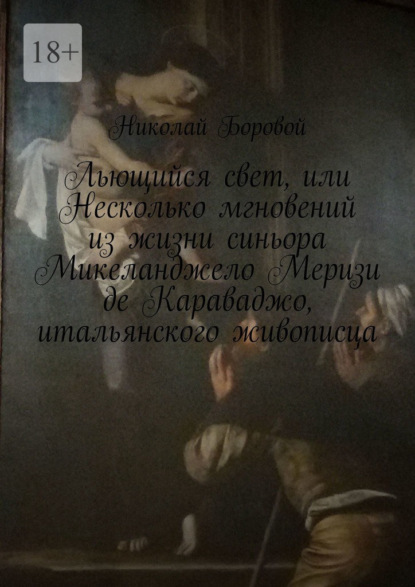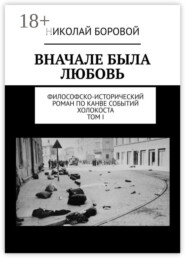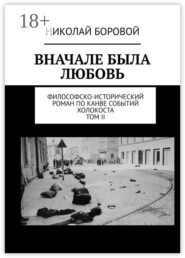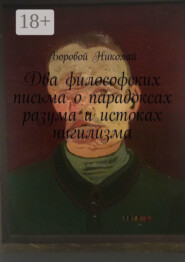По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Льющийся свет, или Несколько мгновений из жизни синьора Микеланджело Меризи де Караваджо, итальянского живописца. Драма-роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Галло. Да по какому праву?! Кто он такой, этот нищий и бездомный бретер и выпивоха?! Его нет вообще! Что он написал, чтобы сметь даже слушать с недостаточным почтением? Какие-то зарисовки вульгарной жизни, словно ниспровергающие искания великих мастеров?!
Д`Арпино. Правы вы и в этом. Школа учит нас претворять натуру, словно освобождая ее от частностей и житейской грязи, иначе к высокому ее языком не прикоснуться. И даже любящие натуру, какова она, северные художники, тем не менее этого принципа придерживаются. Этот же человек упивается тем, что иначе как грязь и пошлость не назовешь. И кто научил его этому, что его к этому привело – не понятно. Он и вправду упивается грубыми лицами и грязными пятками, словно есть в этом какой-то смысл и этому призвано служить высокое искусство живописи, это должно писать. Ну, предположим. А как же быть с сюжетами Библии и Святого Евангелия? Где найдет он в таком подходе язык и средства, чтобы их воплощать, да еще следуя тем значениям, которые придает им веками Святая Церковь? Это тупик. Он не желает и по строптивости и испорченности его необузданного нрава не может учиться. И потому погубит себя, пусть даже имеет дар от Господа. И потому вы правы и в том, Галло, что слишком много внимания мы уделяем его персоне.
Джентилески. (на ухо Грамматико) Они правы при полной их неправоте. Микеле и вправду написал мало. Однако даже в малом обещает превзойти их, если еще этого по сути не сделал. И уже дает кое-чему у него научиться. А значит талант его огромен… что же до судьбы… тут поди знай… И многое зависит в том числе и от монсиньора.
Кардинал. А где же можно найти этого строптивца?
Галло. О ваше высокопреосвященство, не стоит вам ей-богу утомлять себя этим!
Кардинал. (настойчиво и с властностью) И всё же?
Галло. Да хоть на рынке Кампо-дель-Фьоре или в одной из ночлежек для нищих. А может, у какой-нибудь паперти или под деревьями в саду монсиньора Боргезе или герцога Медичи! А вернее всего – в темнице или же там, где случился какой-нибудь очередной громкий скандал. Они от него неотделимы!
Кардинал. Так он скитается и бедствует вместо того, чтобы учиться и работать?
Галло. (кричит с возмущением) А кто виноват в этом, кроме него самого? Благороднейшие сердцами художники Рима хотели научить его, помочь ему раскрыть дарованный Господом дар, давали кров, стол и науку! И что же? Во власти заблуждений он отверг порывы их душ! И страдает ныне по справедливости.
Д`Арпино. Это правда, монсиньор. Речь идет о человеке очень тяжелой сути, которому художником не стать. После ссоры со мной он, я слышал, живет бездомно, пишет где попало и черти что, разменивает на грязь и чепуху умение рук. Ему и правда раскрывали объятия, давая пройти тот же путь, который проходили все и должен осилить каждый. А он вправду отверг.
Джентилески. (на ухо Грамматико) Возможно, что путь Караваджо именно в том, чтобы идти и учиться самому, следуя горизонтам, которые рисует его не по годам зрелый ум – человека и живописца. А работать он умеет и хочет – вы знаете. Здесь они во власти обиды лгут и думают неверно. И надо просто ему помочь.
Грамматико. (в ответ) Огромный дар, что и говорить! И думалось мне не раз, что вправду дурной и скандальный его нрав сложился за жизнь от его сильной и свободной натуры. Лишь так ему удается отстаивать себя. А монсиньор кажется клюнул.
Кардинал. Никто из вас, достойные синьоры, не назвал до сих пор имя этого человека.
Цукарро. Мне оно неизвестно.
Кардинал. Оно и понятно, дорогой Президент. С ваших высот вы оберегает горизонты искусства эпохи, а потому различать и знать подобное не обязаны.
Цукарро. (с поклоном) Я и впрямь в меру доступного и с поддержкой коллег берегу их. И нельзя иначе, поверьте. Если дать свободу лошадям в упряжи герцогской кареты, она непременно сорвется в пропасть. И если позволить колебать вековые вкусы, представление об истине и красоте, ждет не меньшая катастрофа. Или просто – поди знай, что за недозволенное безобразие завладеет умами и душами. Школу должно хранить и она означает не только флорентийский или венецианский мазок или что-то подобное. Прежде всего – взгляды на цель, ответ на вопрос «как» и «во имя чего».
Кардинал. Достойнейшие и глубокие мысли, которые мы непременно обсудим с вами, синьор Президент в иной раз, с интересом и запалом. А сейчас о другом. Итак, синьоры!
Д`Арпино. (нехотя) Зовут этого человека, сколь не изменяет мне память, Микеланджело Меризи.
Галло. (точно так же нехотя присоединяясь) А проще вам будет разыскать его по имени Караваджо – именно так его называют в Риме, уж и не помню, отчего. Где же сделать это, ваше преосвященство, мы и вправду не знаем. Строптивый нрав и глупость обрекли этого человека на незавидную долю.
Кардинал. С полотном Грамматико мы разберемся чуть позже, а сейчас синьоры, прошу – угощайтесь и позвольте мне на мгновение уединиться с секретарем (обращается вполголоса к Мантелотти, который всё это время был рядом) Уж я не знаю как там и что, но давненько я не ощущал такого интереса! Наши без сомнения достойные живописцы, словно коршуны рвут этого человека на части, хоть его здесь даже и нет. И это обещает немало, или же напрасно я прожил на свете четыре десятка лет! Как бы там ни было, поручаю вам немедля разузнать о судьбе этого человека и найти его. И целиком на вас полагаюсь – вы служите мне не первый год.
Джентилески. (на ухо Грамматико) Вы могли предположить такой исход, когда шли сюда сегодня?
Грамматико. Я вообще о чем-то подобном думал?
Картина IV
Ночь, забор сада Медичи возле места, где Караваджо привык пробираться внутрь. Караваджо с одной стороны площадки, а с другой девочка быть может тринадцати лет, которая просит у редких прохожих милостныю или пытается продать им нарванные где-то цветы. При нем лишь котомка и шпага.
Караваджо. (самому себе) Чертова суть! Уже три недели живу в тепле и весь пропах жарящимся в очаге мясом, но хоть продолжаю кашлять, тянет по прежнему на волю, в привычное место… Под ясени и сосны у Медичи… Вдохнуть мир… Ощутить и понять его мудрость, оставшись с ним под покровом ночи лицом к лицу… Что-то уловить в полной бесконечной тайны и мудрости натуре… из содрогающей подчас истины, которую приоткрывает самая обычная, привычная взгляду жизнь… Как чуден и пахуч ночной воздух на исходе римского лета… А сколько боли и тайн, странных и трагических парадоксов пронизывает божий мир… Божий… Надо бы выпить взятого у Анны-Марии в долг вина… Как корят меня за пьянство и буйный нрав, с юности… (открывает бутылку и прислонившись к заросшей плющом и вереском ограде пьет) Еще бы! Мастера холстов привыкли видеть бедным, прежде времени старым, трусливым и вымазанным в красках… живущим размеренно, ибо иначе труда не одолеть. Редко, когда встретится подобный мне, похожий на сутенера или бретера «распутник»… Да таких и нет, я единственный! (смеется с горечью) Великий Микеланджело становился сушеной грушей возле его скульптур и фресок, но дожил до старости. А Тициан и Гаронфалло вообще протянули до возраста библейских старцев, причем второй был пол жизни подслеповат… Все они трудились, написали сотни холстов, не знали ни покоя, ни власти страстей… А я проживу, сдается мне в минуты кашля мало, хочу сгорать в работе, но возможности не имею, зато зовусь «бретер» и «распутник»!.. И не случайно, ибо вправду люблю выпить и обнажить шпагу… Во мраке есть истина, не только в свете… Душа полна света и любви, а мир – лжи и зла… Что-то внутри жаждет свободы и правды, а жизнь словно сковывает душу и ум кандалами… И вот, когда мрак мира и жизни становится всевластным, заползает в душу до глубин, она вопит от отчаяния и боли и требует вина, сколь можно больше вина! (вновь делает хороший глоток) Вот и выходит, что во мраке, который подчас наползает в душе, становится болью и просит вина, таится правда поруганного миром света, сдавленной в тисках лжи и зла любви… Это настолько истина, что даже глупая и развратная курица Анна-Мария различила ее в моих словах… Крупицы растоптанного света в душе, должного литься потоком, кричат болью, а это зовут «распутством»! (смеется) А когда Господь в душе и достоинство заставят вынуть шпагу и даже убить злодея, «распутником» и «злодеем» зовут тебя и приходится бежать, чтобы вновь не очутиться в темнице… (задумывается) И боль поруганного света подчас сильна так же, как мрак топящих ее страстей… (смотрит впереди себя, словно вглядываясь во мрак римской ночи или пустоту) А что делать с тем мраком, который с юности разворачивается в мыслях, заставляет дрожать и говорит, что после последнего мгновения на земле не будет ничего… лишь то быть может, что ты создашь дарованным талантом, трудом и собственными руками, силой любви, оставив после себя, но сам сгинув… Правда ли этот мрак или есть происки Сатаны?.. Узнать об этом дано, лишь свой последний миг встретив… Однако, тот мрак боли и страха, который вместе с ним приходит в душу, можно либо утопить в вине, либо победить силой любви и надежды, которую дарят возможность писать и труд, словно разрывающее грудь желание работать и сделать бесконечно многое… так и не получившее пока от судьбы почвы или же подобно реке – русла… Теплого и надежного дома, в котором было бы вдоволь пространства и света. Времени писать, работать, думать… умом и кистью постигать тайны мира, собственного таланта и тех великих мастеров, которые и вправду заслуживают уважения… А главное – права искать и обрести свой путь, не быть вынужденным ради грошей, более-менее сносного жилища и возможности стоять у холстов, выслушивать чьи-то глупые поучения, губить талант в ремесленной работе, не иметь возможности писать, как хочешь, видишь или пока смутно предчувствуешь правильным, искать и пробовать… Дарили мне пособие, кров, покой и теплую постель, всегда набитый чем-нибудь живот, но взамен требовали отказаться от самого главного, себя словно заживо задушить, убить или сковать кандалами, обречь как живописца погибнуть, а не состояться и найти собственную дорогу и самостоятельный метод, возможность не работать, а кажется просто вымазываться красками. Я мог иметь всё это, но из-за цены уже два года вынужден бежать, уходить в унизительные мытарства и нищенство, тоже гибну, ибо могу работать мало и очень житейской грязью мучаюсь, но всё же – меньше, ибо крупицы правды в творчестве и поисках сохраняю… И остается только мрак в душе, который заполз в нее из мира и может быть побежден пока лишь отличным французским вином, а не светом любви и творчества… Тем, который давно живет внутри и бывает – проливается на холсты… Я художник и человек света, хоть наверное именно поэтому знаю с юности бездну и боль самого адского мрака (поднимает голову, задумчиво глядит несколько мгновений, а девочка в это время пытается продать прохожим цветы или разглядеть в темноте кого-нибудь, для такой цели подходящего) О свет римской луны!.. Я видал Милан, бегая от закона – Венецию и Флоренцию, похожий на адское пекло, вечно бунтующий и тонущий в крови Неаполь. Такой луны нет более нигде – желтой, словно кожа больного здешней лихорадкой… И свет ее подстать! Льешься ты на вещи удивительно, загадочно… словно ниоткуда или сами вещи светятся тобою посреди торжествующего мрака, вопреки ему обретая лицо и ясные контуры!.. Словно бы свет и мгла – вечно борющиеся в человеке, мире и жизни сути, а не просто свойства природы… Или как загадочный свет самой маленькой человеческой жизни, полной боли, в конце которой поди знай, что ждет – рай… вечность… ад забвения и пустоты?.. А бывает, что похож ты на свет мысли, так желающей постигать данное глазам, прорывать мрак мира, в равной мере объятого множеством загадок, ложью и злом… чтобы потом литься на холст… И всё чаще мне хочется принести тебя в полотна, постичь и воплотить тебя, словно спорящего с мраком и побеждающего его… Словно ты божий свет духа и любви в человеке, который тонет во мраке мира, в непроглядной тьме трусости и лжи, но никогда не гибнет до конца… (делает паузу, после долго и жадно пьет из бутылки) О, сколько же истин и тайн, смыслов пронизывают натуру или совершенно обычные глазу картины, лишь умей вникнуть в них умом, который даровал то ли Господь, то ли сам Сатана… Какие страшные и великие истины открывает подчас привычная житейская грязь… А вот хоть бы и эта девчушка… (еще раз вглядывается в нее сквозь полумрак несколько мгновений) Хрупка телом, а в лице даже немного красива… Одно – символ ее уже погубленной миром судьбы, а второе – зла, на которое ее вскоре обречет людская грязь, ибо совсем не Мадонну увидят в ней и простоватой красоте ее лица… Ты только начинаешь жить, душа твоя еще полна надежд, а хрупкое молодое тело – сил… Сердце чего-то ждет от жизни, которая невзирая на тяготы, пока еще кажется далью и манит радостями… Однако бедность и зло мира уже приговорили тебя, обреченную скитаться и с трудом вымаливать на хлеб… А дарованная Господом красота лишь послужит им, став костром страстей в людских душах… И еще пару лет – суждено тебе стать шлюхой, изувеченной страстями и грубостью жизни… Сил перебороть судьбу и выстоять перед ее соблазнами у тебя не хватит… она просто не оставит тебе выхода. Облик твой утратит прелесть молодости и лишь обнажит зло, которое кроется за масками и поэзией страстей… И будешь ты обречена довольствоваться до конца дней грязью, почитая ее за саму жизнь, ибо ничего иного не узнаешь и не останется…
Караваджо делает еще один очень хороший глоток, почти закончив бутылку с вином, а после погружается в мысли.
Девочка. (радостно бросаясь к двум случайным прохожим) Синьоры, купите эти чудесные пинии! Точно такие же растут в этом саду и услаждают взгляд герцогов Медичи! Синьоры, ну прошу вас, купите! Совсем недорого – всего лишь три байокко! Сам Господь послал вас в этот поздний час купить мои пинии! (Почти со слезами) Для таких почтенных синьоров – не деньги, а несчастной Мирелле это позволит сегодня ночевать возле очага и хоть немного поесть!
Первый прохожий. (с усмешкой) Она похоже их в этом саду и стащила! (с нарочитой, но весьма убедительной грозностью, очевидно желая ее напугать) А ну-ка признавайся – ты воровка, которая смела лазить в герцогский сад?
Мирелла. О нет, что вы, синьоры! Я специально ходила за ними на Аппиеву дорогу! Я честно зарабатываю на хлеб! Оттого так редко его и имею.
Второй прохожий. (довольный ее испугом) Сама, однако же, хоть и не похожа на распустившуюся пинию, но тоже в известном роде цветок! (смеется и переглядывается со спутником)
Первый прохожий. А что, неужто бедной девушке и вправду негде спать? Ведь должна же у тебя быть семья, которая позаботится о тебе и конечно защитит, если какой-нибудь негодяй, коих в Риме полно, захочет вдруг тебя обидеть? (переглядывается со Вторым прохожим)
Девочка. (с доверием и искренно) О нет, синьор! Я уже больше года сирота. У меня нет ни семьи, ни вообще кого-нибудь на свете. Отца отродясь не было, а мать, которая торговала рыбой на Кампо-дель Фьоре, умерла от лихорадки прошлой весной. Сама же я с тех пор скитаюсь и зарабатываю тем, что помогаю трактирщикам, если выпадет удача, или стою там и тут вместо пожилых торговцев возле их лотков и в лавках, когда те желают отдохнуть. А если нет – собираю пинии и продаю. Я люблю пинии… Они похожи на саму жизнь, не правда ли?
Первый прохожий. (вместе со вторым обступая девочку) Ах, вот оно как! И вправду тяжелая судьба. (после паузы) А скажи-ка… Хотела бы ты заработать быть может не три байокко, но целый скудо или даже два?
Девочка. (недоверчиво) Да что это вы синьор? Разве бывает так, чтобы даже за целую корзину свежих пиний платили столько? (с неожиданной надеждой) Или вы хотите, чтобы я убирала и чистила солью и углем котлы у вас в трактире? О, это было бы счастьем! Такое счастье не выпадало мне уже целый месяц!
Второй прохожий. Нет, мы не держим ни трактира, ни лавки… Господь дает нам заработать вдоволь иначе… (после паузы) Скажи, а разве тебе никто не разъяснил до сих пор, что у такой молодой и красивой девушки есть совсем иной путь заработать, не голодать и спать под теплой крышей, нежели утомляться чисткой котлов или подобным? Ведь не мне же объяснять тебе, как это тяжело! (подвигаются еще ближе)
Первый прохожий. (подхватывая Второго) Ведь погляди – лицо у тебя по своему прелестно, а в купе с юным возрастом и хрупкими контурами тела, способно вызывать у мужчин любовь! (проводит ей ладонью по щеке, заставив чуть отскочить)
Девочка. Да что это вы, синьоры, о чем вы?!
Караваджо наконец оставляет мысли и обращает внимание на происходящее невдалеке.
Второй прохожий. (всё так же прижимая вместе с Первым девочку к ограде, но стараясь убедить) Разве же не объяснили тебе, глупая, до сих пор, что любовь мужчин не только дарит радость, но еще способна весьма сносно накормить и обогреть, если только умело пользоваться ею и научиться ее пробуждать. А тебе (со смешком) не придется даже особенно стараться для этого! И мы с компаньоном сможем тебе в этом помочь, ибо именно таким благородным трудом зарабатываем на жизнь. (совсем обступают девочку и прижимают ее к стене и плющу)
Первый прохожий. Нужно только один раз решиться, а дальше судьба сама сделает дело и наладится. И мы похоже, сегодня примем это решение за тебя, ибо ты слишком робка, как поглядеть!
Пытаются схватить девочку, чтобы ее увести, та слабо бьется и кричит, после начинает плакать и умолять что бы ее отпустили.
Караваджо. (вскакивая на ноги) Да, мир живет мраком и погружен в него не только ночью… Но зачем же убеждать меня в этом прямо перед моими глазами! И посмотри-ка – словно наважденье из былого! (кричит прохожим, с гневом и властно) Эй, вы там! Оставьте девчушку в покое! Она пока слишком молода, чтобы стать вашей добычей. Дайте ей еще чуть-чуть времени сохранить веру в Господа и жизнь (с горечью). Остальное судьба рано или поздно сделает сама.
Первый прохожий. (чуть оторопев и отстранившись от девочки вместе со вторым, но приходя в себя) Гляди-ка – бездомный нищий будет учить нас здесь святой католической вере! Иди своей дорогой или сиди, где прежде прислонил спину, а нам не мешай обустроить жизнь этой несчастной и облегчить ее муки – у нее другого пути всё равно нет!
Второй прохожий. (пока Первый вновь поворачивается к девочке и начинает с силой убеждать ее в чем-то) Давай-давай, проваливай отсюда! Тебе желают добра, хоть может ты этого и не заслуживаешь!
Караваджо. (быстрым движением вынимая шпагу) Так я вижу, ты не понимаешь языка, на котором Папа Климент VII обращается к Пастве в Святое Воскресение Христово! Он у вас в Риме звучит чуть иначе, но тем не менее!
Второй прохожий. О черт!
Второй порохожий отскакивает и вынимает шпагу в ответ, они с Караваджо начинают обмениваться яростными ударами. Первый прохожий в это время бросает девочку, тоже вынимает шпагу и пытается присоединиться, но удары обоих так быстры и яростны, что у него не выходит. Девочка кричит и молит о помощи, и с разных сторон раздаются крики и голоса.
Первый прохожий. (Второму) Оставь его и ее, бежим же, черт! Сегодня не вышло! Но это не так плохо, как попасть в Сан-Анджело!
Второй прохожий. (продолжая обмениваться с Караваджо ударами) Так ведь этот «нокьолино» не отстает, хочет убить меня!
Первый прохожий. (Караваджо) Эй, «паццо», в другой раз ты бы так просто не отделался, но давай закончим миром и скроемся, ибо ты сам и мы из-за тебя можем попасть в большую беду!