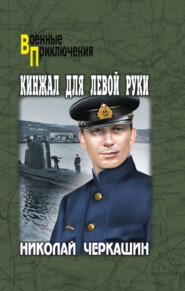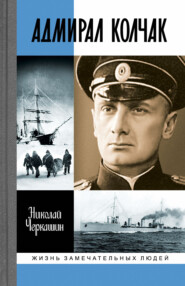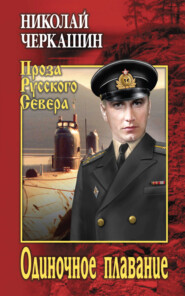По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пластун
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Песня, подкрепленная серебряным блеском казачьих погон, звоном крестов и медалей, притоптыванием сапог, лихим посвистом и, наконец, ладонями, рубившими воздух в такт наигрыша, не просто пелась, а игралась.
Пели шуточные – «Служил Яшка у попа» – и пародийную казачью «лезгинку»: «На горе стоял Шамиль»…
У деда Афанасия и бабки Анфисы я бывал много реже, чем у маминых родителей. Большую часть лета проводил в станице Павловской, на бузулукском берегу. Там тоже были и раки, и рыбалка, и конное купание… И просторный живой дом, где половицы скрипят, ходики тикают, дрова в печи потрескивают, петухи кричат и кот мурлычит. И повсюду пестрели петушиные перья, застрявшие в бурьяне или колючих шарах перекати-поля.
Если дед Афанасий учил меня рубке, то его сват, мамин папа, Макар Степаныч, учил верховой езде. Сам он, поджарый, без лишнего веса, легко держался в седле и в молодости совершал конные переходы из Тифлиса в Тебриз, то есть из Грузии в Персию. По чину он был отставным хорунжим, держал небольшую конюшню, где готовил болдырей и новобранцев к строевой казачьей службе. Бабушка Серафима Петровна учительствовала в местной трехклассной школе и считалась самой образованной во всем юрте казачкой. Это не мешало ей держать курень в идеальном порядке и помогать мужу на конюшне. Она и сама великолепно держалась в седле. Однажды мы все втроем отправились верхом в неблизкий Урюпинск. Мне поседлали спокойного маштачка, и мы двинулись в свой поход с третьими кочетами. Шли то рысью, то шагом, любуясь красотами родного прихопёрья. Я оглянулся: станица наша, малорослая в отличие от Зотовской, казалось придавленной высоченным небом. Она как бы съежилась от простора степи. Белесые дымки тянулись из труб в небо чуть искоса, как ковыль под ветром. Хозяйки топили печи и баньки к субботе. А мы любовались разноцветными далями, пестро-полосатыми от полей и перелесков, дубрав и левад, видные с высоты холмов и седел до самых тонких горизонтов. Поднебесные дали хоперской лесостепи простирались далеко. Шли через дубравы с могучими кряжистыми стволами, с богатырским размахом толстенных ветвей. Казалось, будто явились они из стародавних былин и повиты были колдовскими чарами. За ними – за ериком – открывались дремучие буреломы в густых мшаниках, осинники, облюбованные лосями и бобрами – обглоданные сверху и точеные снизу. Дерн тут был взрыт под дубовой сенью кабанами, то тут, то там чернели зевы лисьих, а то и енотовых нор… Кони прядут ушами и пофыркивают, чуя дикого зверя. Мне нравится, что бабушка Серафима бабушка только по семейному чину, а так – удалая казачка, которая в свои сорок пять выглядит так, что хоть завтра замуж, да и с конем управляется не хуже иного джигита.
В Урюпинске, столице нашего округа, первым делом идем в храм на поклон урюпинской Божией Матери. Эту удивительную икону долгое время не признавали за святую, слишком уж выбивался образ Богородицы из канона. Она похожа на картину эпохи Возрождения кисти Рафаэля – простоволосая юная дева с младенчиком на руках. Но после ряда чудотворных исцелений церковные иерархи признали новоявленный образ и внесли урюпинскую Божию Матерь в общий канон.
Отдав Богу богово, мы отправляемся в гости к старшему брату бабушки, который живет на окраине городка в двухповерхнем курене. Дядя Родя, Родион Никитич Секанов, после службы ушел в городовые казаки и владел в Урюпинске небольшой маслобойней. Он, наверное, самый богатый из нашей хоперской родни, у него есть даже свой автомобиль – старенький «даймлер», который дядя Родя перебрал собственными руками и вернул ему возможность катить собственным ходом. Пока наши кони жуют овес на коновязи, дядя Родя катает нас с бабушкой по дороге вокруг Урюпинска. Машина идет со скоростью коня в намете, а то и больше. Дух захватывает от такой быстроты! А какой шлейф пыли стелется за ней! Придорожные быки изумленно провожают взглядами механическое чудо, поводя рогами. Ан, не достать нас, голубчики, не догнать! И стадо гусей разлетается в заполошном ужасе и гвалте. И казаки, одетые по субботе нарядно, разглядывают наш самобеглый тарантас с большим любопытством. Мне нравится запах бензина, запах подушечных кож, даже запах пыли нравится, взметенной нашими колесами. Дед Макар в автопрогулке участия не принимает – то ли считает зазорным для себя трястись на «антомобиле», то ли опасается, что запах бензина не понравится коням и те начнут озоровать. К нашему приезду он раскочегарил с хозяйкой дома трехведерный самовар, и мы садимся к столу, пьем чай со свежеиспеченными калабышками и липовым медом.
Этот наш замечательный поход, совершенный на мое четырнадцатилетие, остался в памяти как самое яркое воспоминание из отрочества.
Здешняя земля называлась лесостепью, но на степь – ровную бескрайнюю ковыльную – походила мало. Была она весьма неровной и весьма красивой в своей неровности – в застывших земляных волнах, увалах, оврагах, холмах-кочегурах, яриках, в своих дубравах и сосняках, полях и перелесках. По-настоящему степной простор открывался лишь с вершин курганов или с крутизны хоперского берега, когда взгляд тонул в синеве лесистого окаема, набегавшись перед тем по чересполосице зотовских полей, зелени левад, садов, бахчей, выпасов… И венцом всей это красоты кружил в ясно-голубом небе острокрылый сокол-сапсан, зорко следя за порядком в своих угодьях. По ночам над станицей, над Хопром, над головой творилось таинственное и торжественное надмирное кружение звезд.
Днем же солнце палило нещадно, так что от зноя воздух жужжал и свиристел, от жары у быков рога лопались. А мы купали коней в Хопре. Казачата в трусах и старых дедовских фуражках мчались охлюпкой к конскому броду. А по пути сбивали фуражками жирных слепней с конских шей и боков.
Напуганные нашей скачкой удоды-дудаки вспархивали из-под копыт и разлетались по зарослям терна.
Быстрая зеленоватая вода с журчаньем обтекала ноги коней, а потом, когда те входили в реку по брюхо и более, сносила хвосты и гривы на одну сторону. Кони фыркали, но охотно входили в воду, пробовали ее сначала на нюх, потом на вкус, а уж потом, понукаемые нетерпеливыми всадниками, шли на глубину и плыли, выставив морды над водой, к другому берегу, к его белым зыбучим пескам.
Я тоже плыл рядом с Серко. Течение наваливало меня на коня, прижимало к горячей шее, и мы плыли почти вплотную – ухо в ухо. И глаза наши были рядом, и мы понимали друг друга без слов – у обоих захватывало дух от бездны под ногами. Одной рукой я держался за гриву, другой греб, стараясь не думать о сомах-живоглотах, притаившихся на дне омута. Но рядом перебирало ногами большое могучее существо – конь, и это внушало уверенность, что коварная река с нами не справится, что мы одолеем ее вместе. Именно конь первым чуял дно, взбивая копытами илистую муть. Тут же шея его выступала из воды, и по мерной игре мускул я понимал, что Серко уже не плывет, а ступает по земной тверди, и самое время забираться ему на спину.
Эх, сколько же воды унес Хопер, пока я учился в Питере…
Глава вторая. Кларнет или шашка?
Гродно. Август 1914
В Гродно я привез из Питера свой романс, который написал на слова Павла. Посвящение на партитуре обозначали две буквы – «К.У.» – Кристине Ухналевой. Вместе с ней – в четыре руки – мы сыграли романс на великолепном фортепиано из красного дерева, которое стояло в гостиной. Кристина благосклонно приняла мой дар. Перед тем мы долго репетировали вещицу вместе, сидя рядом, сидя тесно, соприкасаясь то плечами, то кистями рук и даже коленями… Кристина чувствовала себя виноватой и старалась хоть как-то смягчить мою душевную рану. Вечером публика рукоплескала нам и моему первому творению. Право, это был удачный дебют, и окрыленный успехом, я сразу же стал сочинять новый романс, но уже с другим посвящением – «Т.У.»… Несколько раз я ловил на себе испытывающий взгляд Тани. После ночного поцелуя между нами возникло нечто большее, чем доброе знакомство… И на мазурку, и на полонез, и на вальс я приглашал только ее, ни разу не предложив свою руку Кристине. Впрочем, ей было с кем кружить на балу. И я старался не глядеть в их сторону.
А у Павла оказался замечательный баритон, и он покорил всех исполнением арии «Варяжского гостя». Какими восторженными глазами смотрела на него в этот момент Верочка, Танина кузина и гимназическая подруга! Я был рад за своего друга и гордился им перед всеми знакомыми. Отец подарил ему свою боевую донскую нагайку с волкобоем. Перед тем по обычаю шутейно, но весьма ощутимо, трижды хлестанул его по спине: за Родину, за казачество, за веру православную.
* * *
Едва ли не каждый вечер мы уходили с Таней бродить по Коложскому парку близ древней Борисоглебской церкви. Выйдя на обрыв наднеманского берега, затаившись в кущах сиреневых зарослей, мы целовались там до сладостного головокружения…
– Я так боялась, что ты бросишься в Неман, что побежала вслед за тобой! – признавалась Таня в перерывах между лобзаниями. – Ты ведь больше не страдаешь так по Кристине?
И я уверял ее, что не страдаю, что все забыто и что теперь у меня начинается новая жизнь…
О, как неистово цвели в это лето, как благоухали гродненские липы в старом парке Жильбера, над бережках овражистой речушки Юрисдики! Как будто они уже чуяли близкий запах пороховой гари и стремились заранее заглушить его.
Все новости, вся политика в эти дни проносились мимо меня, если что-то и доходило, то как сквозь вату. Теперь Татьяна занимала все мысли, все ощущения и чувства. Я понимал, что никто не позволит – ни ее родители, ни мои – повести ее сейчас к венцу. Эх, хотя бы еще один курс миновать! Но и тогда вряд ли получилось бы то, о чем я грезил. Я очень боялся потерять Таню, ведь ей ничего не стоило по примеру старшей сестры выскочить замуж за какого-нибудь гусара-усача или состоятельного коммерсанта. Кто бы отказался иметь такую очаровательную жену? А мне еще надо было трубить и трубить в свой кларнет, прежде чем кем-то стать в этой жизни, прежде чем составить для Тани престижную партию. Вот о чем я думал днем и ночью, и эта навязчивая мысль – «не успеешь, не успеешь, не успеешь…» – отравляла мне все каникулы.
* * *
В последний день июля мы с Павлом отправились на байдарке по Неману. В два весла по быстрой воде унесло нас довольно далеко, так что пришлось заночевать на береговой опушке у костерка. Ах, какая заповедная глухомань открывалась среди августовской пущи! То лось с треском сучьев выйдет на ночной водопой, то кабаны прошуршат средь высокой травы. Ах, какие звездные ожерелья были разбросаны по ночному небу! Словно неведомые письмена, скрывали созвездья нашу судьбу.
Домой мы вернулись к обеду. Но никакого обеда не было. Его никто не готовил. Я застал маму с заплаканными глазами. Оказывается, ночью была тревога, и полк отца ушел на войну. Да, на войну! Пока мы сплавлялись по Неману, началась война, о возможности которой столько писали газеты в последнее время. Все связалось в одну цепь: выстрел в эрцгерцога в Сараево, австрийский ультиматум Сербии, мобилизация русской армии, ночная тревога, полк отца… Только тут на меня нашло некоторое отрезвление и мысли приняли реальный оборот.
Мне вдруг стало очень страшно за отца. А вдруг его уже убили? Ведь прусская граница совсем недалеко, а его полк наверняка бросили именно туда…
– А что делать нам? – спросил я Павла. – Возвращаться в Питер? В консерваторию?
– А что нам там делать, когда началась война? – удивился тот. – Наше место в строю, а не в бурсе. Надо записаться в полк.
Я и сам весьма склонялся к этой мысли. Ничего не говоря маме, я отправился в соседнюю казарму, где стояла конная батарея, которой командовал старый отцовский приятель есаул Весёлкин. Батарея еще была в Гродно, но судя по всему, уже собиралась в поход. Нестор Григорьевич встретил нас невесело. Он внимательно выслушал нас с Павлом и погрустнел. Меня он знал с раннего детства и относился ко мне не хуже родного дядьки. Мы просились к нему в батарею вольноопределяющимися. Но Весёлкин, видимо, не мог принять такое решение без согласования с отцом. Поэтому, как я потом понял, пошел на некое лукавство.
– «Вольноперы» хороши для мирного времени. А с началом боевых действий в «вольноперы» брать перестали. Мой вам совет: поступить на ускоренные курсы прапорщиков, а потом мы отзовем вас в наш полк, да хоть и в мою батарею. У меня старший брат служит в Тифлисском юнкерском училище. Я напишу ему письмо, и он примет вас, как надо. Запомните его имя – Андрей Григорьевич Весёлкин.
Мы переглянулись. Уезжать в глубокий тыл, в Тифлис, когда неподалеку вовсю уже идет война и наши армии успешно продвигаются вглубь Пруссии, совсем не хотелось. Пока будем учиться, и война закончится. И, разумеется, нашей победой. В этом никто из нас не сомневался. Мы призадумались. В конце концов можно проучиться пару месяцев, а потом уйти на фронт юнкерами-добровольцами. Главное, не возвращаться сейчас в Питер и продолжать занятия в консерватории, как будет настаивать, требовать сейчас мама. Это была блестящая военная хитрость: мы возвращаемся в Питер, а там пересаживаемся на поезд Петербург – Москва – Тифлис, и через трое суток прибываем в училище. Решено и скреплено казачьей клятвой на шашке дяди Нестора. Он, улыбаясь в усы, написал нам рекомендательное письмо брату, и Павел бережно упрятал его на груди.
Чтобы не волновать понапрасну маму, я сказал ей, что мы срочно возвращаемся в консерваторию, и она благословила нас с Павлом прабабушкинской особо почитаемой у нас в семье иконкой Донской Божией Матери. Знала бы она, на какой путь благословляет нас!
И только Тане, прощаясь с ней в ее палисаднике, я раскрыл нашу с Павлом военную тайну: едем в юнкерское училище, чтобы попасть на войну. Таня все поняла и тоже благословила меня, но не иконкой, а настоящим поцелуем в губы. Это была сладкая нежная малина, нагретая солнцем… То, о чем я мечтал весь год, свершилось! Но, увы, под занавес наших коротких каникул. Все тончайшие нюансы этого поцелуя я вспоминал под стук вагонных колес, лежа на верхней полке. Всего один ее поцелуй сделал меня самым счастливым человеком в мире! Право, какой непостижимой властью над нами обладают женщины!
* * *
В Питере мы зашли на Никольскую, на свою съемную квартиру, собрали вещи. В консерватории я обучался игре на кларнете и флейте. Кларнет у меня был свой собственный, и я упаковал его на дно своего баула. Пригодится и в училище, и на войне.
– Зря, – скептически заметил Павел. – Как увидят тебя с кларнетом, так и определят в трубачи. А мы все же казаки.
И он показал мне дедовский булатный кинжал, который передал ему, как старшему сыну, отец.
– Дед его у турков под Шипкой добыл, – с гордостью сказал он и бесшумно вложил в ножны, обшитые шкурой горного барса.
Перед отходом поезда мы успели забежать в консерваторию и оставить там прошение на временное прекращение учебы в связи с началом войны и поступлением в юнкерское училище. Все! Теперь мы были совершенно свободны от груза прежней жизни. Оставалось только помолиться на путь-дорогу в Знаменском храме на площади Николаевского вокзала, что мы и сделали с большим чувством.
И еще я нашел минутку, чтобы написать Тане большое и восторженное письмо, с объяснением в вечной любви и преданности до последней минуты военной жизни.
В письме же я послал ей и стихи нового романса:
Не надевай колец в дорогу,
Не надевай, не надевай…
Давай, ямщик, помалу трогай!
Не забывай, не забывай…
В Москве до отхода поезда в Тифлис мы успели побывать в мастерской моего кузена Никиты Проваторова, который уже успел снискать среди художников Белокаменной некое имя. Его студия находилась на верхнем этаже высокого здания в Звонарном переулке. Никита тоже собирался в армию и восторженно одобрил наше решение стать офицерами. Мы стали звать его с собой, в Тифлис. Но он хотел непременно на фронт, в Восточную Пруссию, и уговаривал нас отправиться туда втроем, записаться в какой-нибудь полк вольноопределяющимися.
В «какой-нибудь полк» нам не хотелось. Служить так служить, и не в пехоте, а в родных казачьих полках.
Глава третья. Солдат врага ждет, пластун врага ищет
Тифлис встретил нас лютой жарой, чудовищным пеклом, от которого мне сразу же захотелось обратно, в прохладу принеманских дубрав и сосняков. В душе сама собой зазвучала грустная прощальная мелодия полонеза Огинского, и я даже попытался сочинить к нему слова, чтобы потом, тешил я себя надеждой, сыграть его в четыре руки и спеть на два голоса, когда я вернусь к Тане:
Край, сосновый светлый край,
Среди холмов, среди лесов
Здесь юность давняя моя
Пели шуточные – «Служил Яшка у попа» – и пародийную казачью «лезгинку»: «На горе стоял Шамиль»…
У деда Афанасия и бабки Анфисы я бывал много реже, чем у маминых родителей. Большую часть лета проводил в станице Павловской, на бузулукском берегу. Там тоже были и раки, и рыбалка, и конное купание… И просторный живой дом, где половицы скрипят, ходики тикают, дрова в печи потрескивают, петухи кричат и кот мурлычит. И повсюду пестрели петушиные перья, застрявшие в бурьяне или колючих шарах перекати-поля.
Если дед Афанасий учил меня рубке, то его сват, мамин папа, Макар Степаныч, учил верховой езде. Сам он, поджарый, без лишнего веса, легко держался в седле и в молодости совершал конные переходы из Тифлиса в Тебриз, то есть из Грузии в Персию. По чину он был отставным хорунжим, держал небольшую конюшню, где готовил болдырей и новобранцев к строевой казачьей службе. Бабушка Серафима Петровна учительствовала в местной трехклассной школе и считалась самой образованной во всем юрте казачкой. Это не мешало ей держать курень в идеальном порядке и помогать мужу на конюшне. Она и сама великолепно держалась в седле. Однажды мы все втроем отправились верхом в неблизкий Урюпинск. Мне поседлали спокойного маштачка, и мы двинулись в свой поход с третьими кочетами. Шли то рысью, то шагом, любуясь красотами родного прихопёрья. Я оглянулся: станица наша, малорослая в отличие от Зотовской, казалось придавленной высоченным небом. Она как бы съежилась от простора степи. Белесые дымки тянулись из труб в небо чуть искоса, как ковыль под ветром. Хозяйки топили печи и баньки к субботе. А мы любовались разноцветными далями, пестро-полосатыми от полей и перелесков, дубрав и левад, видные с высоты холмов и седел до самых тонких горизонтов. Поднебесные дали хоперской лесостепи простирались далеко. Шли через дубравы с могучими кряжистыми стволами, с богатырским размахом толстенных ветвей. Казалось, будто явились они из стародавних былин и повиты были колдовскими чарами. За ними – за ериком – открывались дремучие буреломы в густых мшаниках, осинники, облюбованные лосями и бобрами – обглоданные сверху и точеные снизу. Дерн тут был взрыт под дубовой сенью кабанами, то тут, то там чернели зевы лисьих, а то и енотовых нор… Кони прядут ушами и пофыркивают, чуя дикого зверя. Мне нравится, что бабушка Серафима бабушка только по семейному чину, а так – удалая казачка, которая в свои сорок пять выглядит так, что хоть завтра замуж, да и с конем управляется не хуже иного джигита.
В Урюпинске, столице нашего округа, первым делом идем в храм на поклон урюпинской Божией Матери. Эту удивительную икону долгое время не признавали за святую, слишком уж выбивался образ Богородицы из канона. Она похожа на картину эпохи Возрождения кисти Рафаэля – простоволосая юная дева с младенчиком на руках. Но после ряда чудотворных исцелений церковные иерархи признали новоявленный образ и внесли урюпинскую Божию Матерь в общий канон.
Отдав Богу богово, мы отправляемся в гости к старшему брату бабушки, который живет на окраине городка в двухповерхнем курене. Дядя Родя, Родион Никитич Секанов, после службы ушел в городовые казаки и владел в Урюпинске небольшой маслобойней. Он, наверное, самый богатый из нашей хоперской родни, у него есть даже свой автомобиль – старенький «даймлер», который дядя Родя перебрал собственными руками и вернул ему возможность катить собственным ходом. Пока наши кони жуют овес на коновязи, дядя Родя катает нас с бабушкой по дороге вокруг Урюпинска. Машина идет со скоростью коня в намете, а то и больше. Дух захватывает от такой быстроты! А какой шлейф пыли стелется за ней! Придорожные быки изумленно провожают взглядами механическое чудо, поводя рогами. Ан, не достать нас, голубчики, не догнать! И стадо гусей разлетается в заполошном ужасе и гвалте. И казаки, одетые по субботе нарядно, разглядывают наш самобеглый тарантас с большим любопытством. Мне нравится запах бензина, запах подушечных кож, даже запах пыли нравится, взметенной нашими колесами. Дед Макар в автопрогулке участия не принимает – то ли считает зазорным для себя трястись на «антомобиле», то ли опасается, что запах бензина не понравится коням и те начнут озоровать. К нашему приезду он раскочегарил с хозяйкой дома трехведерный самовар, и мы садимся к столу, пьем чай со свежеиспеченными калабышками и липовым медом.
Этот наш замечательный поход, совершенный на мое четырнадцатилетие, остался в памяти как самое яркое воспоминание из отрочества.
Здешняя земля называлась лесостепью, но на степь – ровную бескрайнюю ковыльную – походила мало. Была она весьма неровной и весьма красивой в своей неровности – в застывших земляных волнах, увалах, оврагах, холмах-кочегурах, яриках, в своих дубравах и сосняках, полях и перелесках. По-настоящему степной простор открывался лишь с вершин курганов или с крутизны хоперского берега, когда взгляд тонул в синеве лесистого окаема, набегавшись перед тем по чересполосице зотовских полей, зелени левад, садов, бахчей, выпасов… И венцом всей это красоты кружил в ясно-голубом небе острокрылый сокол-сапсан, зорко следя за порядком в своих угодьях. По ночам над станицей, над Хопром, над головой творилось таинственное и торжественное надмирное кружение звезд.
Днем же солнце палило нещадно, так что от зноя воздух жужжал и свиристел, от жары у быков рога лопались. А мы купали коней в Хопре. Казачата в трусах и старых дедовских фуражках мчались охлюпкой к конскому броду. А по пути сбивали фуражками жирных слепней с конских шей и боков.
Напуганные нашей скачкой удоды-дудаки вспархивали из-под копыт и разлетались по зарослям терна.
Быстрая зеленоватая вода с журчаньем обтекала ноги коней, а потом, когда те входили в реку по брюхо и более, сносила хвосты и гривы на одну сторону. Кони фыркали, но охотно входили в воду, пробовали ее сначала на нюх, потом на вкус, а уж потом, понукаемые нетерпеливыми всадниками, шли на глубину и плыли, выставив морды над водой, к другому берегу, к его белым зыбучим пескам.
Я тоже плыл рядом с Серко. Течение наваливало меня на коня, прижимало к горячей шее, и мы плыли почти вплотную – ухо в ухо. И глаза наши были рядом, и мы понимали друг друга без слов – у обоих захватывало дух от бездны под ногами. Одной рукой я держался за гриву, другой греб, стараясь не думать о сомах-живоглотах, притаившихся на дне омута. Но рядом перебирало ногами большое могучее существо – конь, и это внушало уверенность, что коварная река с нами не справится, что мы одолеем ее вместе. Именно конь первым чуял дно, взбивая копытами илистую муть. Тут же шея его выступала из воды, и по мерной игре мускул я понимал, что Серко уже не плывет, а ступает по земной тверди, и самое время забираться ему на спину.
Эх, сколько же воды унес Хопер, пока я учился в Питере…
Глава вторая. Кларнет или шашка?
Гродно. Август 1914
В Гродно я привез из Питера свой романс, который написал на слова Павла. Посвящение на партитуре обозначали две буквы – «К.У.» – Кристине Ухналевой. Вместе с ней – в четыре руки – мы сыграли романс на великолепном фортепиано из красного дерева, которое стояло в гостиной. Кристина благосклонно приняла мой дар. Перед тем мы долго репетировали вещицу вместе, сидя рядом, сидя тесно, соприкасаясь то плечами, то кистями рук и даже коленями… Кристина чувствовала себя виноватой и старалась хоть как-то смягчить мою душевную рану. Вечером публика рукоплескала нам и моему первому творению. Право, это был удачный дебют, и окрыленный успехом, я сразу же стал сочинять новый романс, но уже с другим посвящением – «Т.У.»… Несколько раз я ловил на себе испытывающий взгляд Тани. После ночного поцелуя между нами возникло нечто большее, чем доброе знакомство… И на мазурку, и на полонез, и на вальс я приглашал только ее, ни разу не предложив свою руку Кристине. Впрочем, ей было с кем кружить на балу. И я старался не глядеть в их сторону.
А у Павла оказался замечательный баритон, и он покорил всех исполнением арии «Варяжского гостя». Какими восторженными глазами смотрела на него в этот момент Верочка, Танина кузина и гимназическая подруга! Я был рад за своего друга и гордился им перед всеми знакомыми. Отец подарил ему свою боевую донскую нагайку с волкобоем. Перед тем по обычаю шутейно, но весьма ощутимо, трижды хлестанул его по спине: за Родину, за казачество, за веру православную.
* * *
Едва ли не каждый вечер мы уходили с Таней бродить по Коложскому парку близ древней Борисоглебской церкви. Выйдя на обрыв наднеманского берега, затаившись в кущах сиреневых зарослей, мы целовались там до сладостного головокружения…
– Я так боялась, что ты бросишься в Неман, что побежала вслед за тобой! – признавалась Таня в перерывах между лобзаниями. – Ты ведь больше не страдаешь так по Кристине?
И я уверял ее, что не страдаю, что все забыто и что теперь у меня начинается новая жизнь…
О, как неистово цвели в это лето, как благоухали гродненские липы в старом парке Жильбера, над бережках овражистой речушки Юрисдики! Как будто они уже чуяли близкий запах пороховой гари и стремились заранее заглушить его.
Все новости, вся политика в эти дни проносились мимо меня, если что-то и доходило, то как сквозь вату. Теперь Татьяна занимала все мысли, все ощущения и чувства. Я понимал, что никто не позволит – ни ее родители, ни мои – повести ее сейчас к венцу. Эх, хотя бы еще один курс миновать! Но и тогда вряд ли получилось бы то, о чем я грезил. Я очень боялся потерять Таню, ведь ей ничего не стоило по примеру старшей сестры выскочить замуж за какого-нибудь гусара-усача или состоятельного коммерсанта. Кто бы отказался иметь такую очаровательную жену? А мне еще надо было трубить и трубить в свой кларнет, прежде чем кем-то стать в этой жизни, прежде чем составить для Тани престижную партию. Вот о чем я думал днем и ночью, и эта навязчивая мысль – «не успеешь, не успеешь, не успеешь…» – отравляла мне все каникулы.
* * *
В последний день июля мы с Павлом отправились на байдарке по Неману. В два весла по быстрой воде унесло нас довольно далеко, так что пришлось заночевать на береговой опушке у костерка. Ах, какая заповедная глухомань открывалась среди августовской пущи! То лось с треском сучьев выйдет на ночной водопой, то кабаны прошуршат средь высокой травы. Ах, какие звездные ожерелья были разбросаны по ночному небу! Словно неведомые письмена, скрывали созвездья нашу судьбу.
Домой мы вернулись к обеду. Но никакого обеда не было. Его никто не готовил. Я застал маму с заплаканными глазами. Оказывается, ночью была тревога, и полк отца ушел на войну. Да, на войну! Пока мы сплавлялись по Неману, началась война, о возможности которой столько писали газеты в последнее время. Все связалось в одну цепь: выстрел в эрцгерцога в Сараево, австрийский ультиматум Сербии, мобилизация русской армии, ночная тревога, полк отца… Только тут на меня нашло некоторое отрезвление и мысли приняли реальный оборот.
Мне вдруг стало очень страшно за отца. А вдруг его уже убили? Ведь прусская граница совсем недалеко, а его полк наверняка бросили именно туда…
– А что делать нам? – спросил я Павла. – Возвращаться в Питер? В консерваторию?
– А что нам там делать, когда началась война? – удивился тот. – Наше место в строю, а не в бурсе. Надо записаться в полк.
Я и сам весьма склонялся к этой мысли. Ничего не говоря маме, я отправился в соседнюю казарму, где стояла конная батарея, которой командовал старый отцовский приятель есаул Весёлкин. Батарея еще была в Гродно, но судя по всему, уже собиралась в поход. Нестор Григорьевич встретил нас невесело. Он внимательно выслушал нас с Павлом и погрустнел. Меня он знал с раннего детства и относился ко мне не хуже родного дядьки. Мы просились к нему в батарею вольноопределяющимися. Но Весёлкин, видимо, не мог принять такое решение без согласования с отцом. Поэтому, как я потом понял, пошел на некое лукавство.
– «Вольноперы» хороши для мирного времени. А с началом боевых действий в «вольноперы» брать перестали. Мой вам совет: поступить на ускоренные курсы прапорщиков, а потом мы отзовем вас в наш полк, да хоть и в мою батарею. У меня старший брат служит в Тифлисском юнкерском училище. Я напишу ему письмо, и он примет вас, как надо. Запомните его имя – Андрей Григорьевич Весёлкин.
Мы переглянулись. Уезжать в глубокий тыл, в Тифлис, когда неподалеку вовсю уже идет война и наши армии успешно продвигаются вглубь Пруссии, совсем не хотелось. Пока будем учиться, и война закончится. И, разумеется, нашей победой. В этом никто из нас не сомневался. Мы призадумались. В конце концов можно проучиться пару месяцев, а потом уйти на фронт юнкерами-добровольцами. Главное, не возвращаться сейчас в Питер и продолжать занятия в консерватории, как будет настаивать, требовать сейчас мама. Это была блестящая военная хитрость: мы возвращаемся в Питер, а там пересаживаемся на поезд Петербург – Москва – Тифлис, и через трое суток прибываем в училище. Решено и скреплено казачьей клятвой на шашке дяди Нестора. Он, улыбаясь в усы, написал нам рекомендательное письмо брату, и Павел бережно упрятал его на груди.
Чтобы не волновать понапрасну маму, я сказал ей, что мы срочно возвращаемся в консерваторию, и она благословила нас с Павлом прабабушкинской особо почитаемой у нас в семье иконкой Донской Божией Матери. Знала бы она, на какой путь благословляет нас!
И только Тане, прощаясь с ней в ее палисаднике, я раскрыл нашу с Павлом военную тайну: едем в юнкерское училище, чтобы попасть на войну. Таня все поняла и тоже благословила меня, но не иконкой, а настоящим поцелуем в губы. Это была сладкая нежная малина, нагретая солнцем… То, о чем я мечтал весь год, свершилось! Но, увы, под занавес наших коротких каникул. Все тончайшие нюансы этого поцелуя я вспоминал под стук вагонных колес, лежа на верхней полке. Всего один ее поцелуй сделал меня самым счастливым человеком в мире! Право, какой непостижимой властью над нами обладают женщины!
* * *
В Питере мы зашли на Никольскую, на свою съемную квартиру, собрали вещи. В консерватории я обучался игре на кларнете и флейте. Кларнет у меня был свой собственный, и я упаковал его на дно своего баула. Пригодится и в училище, и на войне.
– Зря, – скептически заметил Павел. – Как увидят тебя с кларнетом, так и определят в трубачи. А мы все же казаки.
И он показал мне дедовский булатный кинжал, который передал ему, как старшему сыну, отец.
– Дед его у турков под Шипкой добыл, – с гордостью сказал он и бесшумно вложил в ножны, обшитые шкурой горного барса.
Перед отходом поезда мы успели забежать в консерваторию и оставить там прошение на временное прекращение учебы в связи с началом войны и поступлением в юнкерское училище. Все! Теперь мы были совершенно свободны от груза прежней жизни. Оставалось только помолиться на путь-дорогу в Знаменском храме на площади Николаевского вокзала, что мы и сделали с большим чувством.
И еще я нашел минутку, чтобы написать Тане большое и восторженное письмо, с объяснением в вечной любви и преданности до последней минуты военной жизни.
В письме же я послал ей и стихи нового романса:
Не надевай колец в дорогу,
Не надевай, не надевай…
Давай, ямщик, помалу трогай!
Не забывай, не забывай…
В Москве до отхода поезда в Тифлис мы успели побывать в мастерской моего кузена Никиты Проваторова, который уже успел снискать среди художников Белокаменной некое имя. Его студия находилась на верхнем этаже высокого здания в Звонарном переулке. Никита тоже собирался в армию и восторженно одобрил наше решение стать офицерами. Мы стали звать его с собой, в Тифлис. Но он хотел непременно на фронт, в Восточную Пруссию, и уговаривал нас отправиться туда втроем, записаться в какой-нибудь полк вольноопределяющимися.
В «какой-нибудь полк» нам не хотелось. Служить так служить, и не в пехоте, а в родных казачьих полках.
Глава третья. Солдат врага ждет, пластун врага ищет
Тифлис встретил нас лютой жарой, чудовищным пеклом, от которого мне сразу же захотелось обратно, в прохладу принеманских дубрав и сосняков. В душе сама собой зазвучала грустная прощальная мелодия полонеза Огинского, и я даже попытался сочинить к нему слова, чтобы потом, тешил я себя надеждой, сыграть его в четыре руки и спеть на два голоса, когда я вернусь к Тане:
Край, сосновый светлый край,
Среди холмов, среди лесов
Здесь юность давняя моя