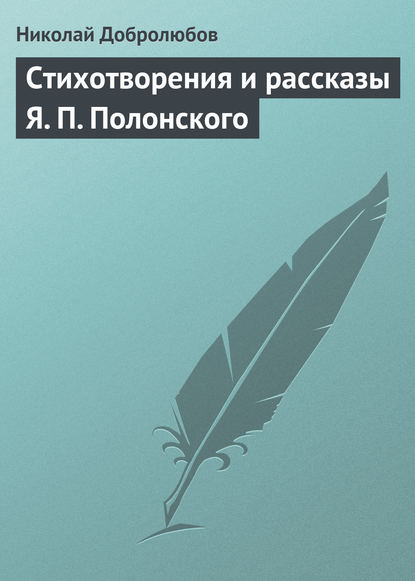По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Стихотворения и рассказы Я. П. Полонского
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В люди как будто невольно идешь:
Все будто ищешь чего-то,
Вот-вот не нынче, так завтра найдешь…
Одолевает зевота,
Скука томит… А проклятый червяк
В сердце уняться не хочет никак:
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!
Много есть чудных, прекрасных людей,
Светлых умом и вполне благородных,
Но и они, вроде бледных теней,
Меркнут душою в гостиных холодных.
Есть у нас так называемый свет,
Есть даже люди, а общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела,
Да и гуляет без дела.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!
Вот, вижу, дворник сидит у ворот,
В шубе да в шапке лохматой:
Точно медведь; на усах его лед,
Снег в бороде, в рукавице лопата…
Спит ли он, так ли прижавшись сидит,
Думает думу, морозы бранит,
Или, как я же, бесплодно мечтает,
Или меня поджидает?
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!
И все-то в нашей общественной жизни возбуждает тяжелое чувство в поэте. И тем тяжелее для него это чувство, что он видит необходимость покориться факту; он не имеет сил бороться с злом, его смущает холодная правда даже чужого беспощадного стиха, как он говорит в послании к И. С. Аксакову:
Когда мне в сердце бьет, звеня как меч тяжелый,
Твой жесткий, беспощадный стих,
С невольным трепетом внимаю невеселой,
Холодной правде слов твоих.
В негодование души твоей вникая,
Собрат, пойму ли я тебя?
На смелый голос твой откликнуться желая,
Каким стихом откликнусь я?
Не внемля шепоту соблазна, строгий гений
Ведет тебя иным путем,
Туда, где нет уже ни жарких увлечений,
Ни примирения со злом.
И если ты блуждал, с тобой мы врознь блуждали,
Я силы сердца не щадил,
Ты не щадил труда, и оба мы страдали.
Ты больше мыслил, я – любил…[16 - «И. С. Аксакову» (1856).]
И эта любовь, эта поэтическая кротость производят то, что поэт находит в себе силы только грустить о господстве зла, но не решается выходить на борьбу с ним. Самые дикие, бесчеловечные отношения житейские вызывают на его губы только грустную улыбку, а не проклятие, исторгают из глаз его слезу, но не зажигают их огнем негодования и мщенья. Для объяснения наших слов приведем в пример одно стихотворение, которое мы считаем одним из замечательных стихотворений г. Полонского. Тема этого стихотворения – нелепый общественный обычай, по которому женщина любящая и любимая – гибнет в общем мнении, как скоро она отдается своему чувству вопреки некоторым официальностям; тогда как мужчина, бывший виною ее падения, преспокойно может обмануть ее и удалиться, извиняясь тем, что страсть его потухла. Вопль негодования мог бы вырваться у другого поэта, взявшего подобную тему; мрачная, возмутительная картина могла бы нарисоваться из таких отношений человеческого сердца к нелепым требованиям общества. Но вот какие стихи вышли у г. Полонского:
На устах ее – улыбка;
В сердце – слезы и гроза.
С упоением и грустью
Он глядит в ее глаза.
Говорит она: обман твой
Я предвижу – и не лгу,
Что тебя возненавидеть
И хочу, и не могу.
Он глядит все так же грустно;
Но лицо его горит…
Он, к плечу ее устами
Припадая, говорит:
Берегись меня! – я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно,
Горячо тебя люблю!..[17 - «На устах ее – улыбка» – сокращенная редакция стихотворения «Подойди ко мне, старушка» (1856).]
Вообще – незлобием и добродушием веет от всех слов поэта, к кому бы ни обращались они – к благоухающей ли природе, к печальному ли кладбищу, к коварной ли женщине. Даже в своих отношениях к общественной неправде и угнетению он остается так же грустно незлобив, как и в своем сожалении о прошедшей молодости или досаде на дурную погоду. Вот отчего грустные стихи г. Полонского и проходят так часто незамеченными для современных читателей. Нам теперь нужна энергия и страсть; мы и без того слишком кротки и незлобивы; мы не можем довольствоваться теми поэтами, которые, восхищаясь истиной, раскрытой для них, не делают усилия для того, чтобы поставить ее на высоком пьедестале, на вид всем своим собратьям. В стихотворениях г. Полонского мы находим несколько пьес, которые доказывают, что сам поэт сознает это, но, следуя своей природе, не решается выйти из своей сферы и изменить строй своей лиры. Без всякого сомнения, он поступает очень благоразумно, потому что натянутые возгласы о добродетели и то уже сбили у нас с толку нескольких талантливых людей. Не мудрено, что на их дорогу попал бы и г. Полонский; приведенное выше стихотворение «На корабле», так отзывающееся аллегорией, доказывает справедливость этого предположения. Но, к счастию, сам поэт лучше других понял свои силы и, недовольный окружающей действительностью, выразил свой протест против нее совершенно особенным образом. Он нашел свою, особенную действительность, населил ее своими, особыми существами, придал им мысль и страсти, заставил их волноваться, радоваться и страдать по-человечески… И в этом фантастическом мире находит он успокоение и отраду от житейской пошлости, угнетения и обмана. Лучшим примером того, как г. Полонский одушевляет всю природу, может служить шуточная поэма о кузнечике-музыканте (которого, в пику всем грамматикам, он называет кузнечек). Содержание этой поэмы состоит в том, что кузнечик влюбился в бабочку, которая сначала была к нему неравнодушна, но потом влюбилась в соловья и улетела за ним в лес. Соловей сначала поласкал ее, а потом клюнул, – она и упала мертвая. Кузнечик-артист, вместе с одним из своих приятелей, гулякою-кузнечиком, отправился ночью ее отыскивать, разузнал все дело от осы, наконец отыскал и похоронил молодую сильфиду, которую так любил… Как видите, здесь соловей играет роль злодея-обольстителя, и в этом, если хотите, выразилась опять оригинальная натура поэта, полная любви и мирного расположения ко всему живущему. Если угодно, по факту, соловей – губитель и негодяй, угнетатель невинности; но ведь нельзя же ненавидеть соловья за его поступок с бабочкой; нельзя винить и бабочку за ветреность, а можно только жалеть ее. Если хотите прилагать это к человеческому сердцу (а это приложение многие читатели и читательницы непременно сделают), то и в этом шуточном фантастическом рассказе вы можете подметить сердечную боль поэта и грустное недовольство миром, в котором нигде нет счастья… Впрочем, мы совестимся делать из этой поэмки моральные выводы и решаемся обратить на нее внимание читателей только как на образчик того, каким образом и с какою простотой и любовью г. Полонский одушевляет и очеловечивает всю природу. В заключение же нашей рецензии представим читателям окончание этой поэмки, в котором заключается описание того, как кузнечики хоронили мертвую сильфиду-бабочку:
Сделали носилки, положили тело.
Подняли и долго поступью несмелой
Шли они по травкам, шли они по кочкам.
Впереди, мелькая ярким огонечком,
Шел светляк, – и сотни разных насекомых,
Нашему артисту вовсе незнакомых,
Шумно просыпались в перелеске темном.
«А! ба! кто там? что там?» – слышалося в сонном
Царстве. Вдруг во мраке жалкий писк раздался:
Муравей какой-то под ноги попался
Нашему гуляке – он его и тиснул.
Вслед за этим визгом – в роще кто-то свистнул.
Комары, проснувшись и поднявшись роем,
Затрубили в трубы, точно перед боем;
Но, слетевшись кучей и увидев тело,
Взяли тоном ниже (поняли, в чем дело)…
И, трубя плачевно в расстояньи дальном,
Огласили воздух маршем погребальным.
К светляку другие светляки пристали:
Свечи их то гасли, то опять мелькали.