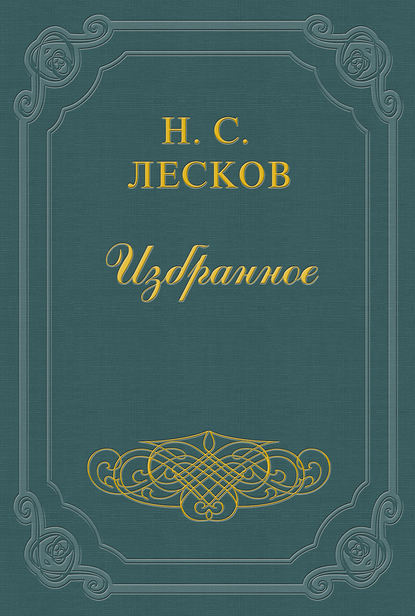По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма Н. Лескова (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уважаемый Петр Карлович!
Вчера кн. Оболенский сказал мне, что в госуд<арственном> совете утвержден проект назначения школьных инспекторов для Кавказского края. Каждая из этих должностей дает вдвое более, чем Комитет, и при этом жаловании уже нельзя сдохнуть с голода. Если Вы согреетесь сочувствием к моему ужасному и незаслуженно постыдному положению и напишете Георгиевскому, то, пожалуйста, укажите на эти места. Конечно, было бы благодеянием дать мне такое место здесь, в Петербурге, чтобы я мог не терять и Комитета, но если этого нельзя, то я пойду всюду. Что делать? Не спросите ли: почему я об этом не говорю? Почему? – потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ни чего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся.
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
24 января 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Я получил от Веры Петровны письмецо, на которое отвечаю Вам. Не знаю хорошо ли писать Марье Ал<ександров>не; а не ее мужу? – по-моему, все нехорошо; но все надо пробовать. Поступите как сочтете за лучшее; но не ошибитесь и не принизьте меня напрасно. Я не стыжусь искать труда; но напрасных унижений все-таки боюсь и избегаю. О порядках кавказских я положительно ничего не знаю, да и узнать не могу; но это не важно: нет нужды указывать именно на это – есть и многое другое, например синод, где я мог бы быть с пользою употреблен при различных делах. Г<еориевско>му, может быть, стоило бы только заговорить обо мне с гр. Т<олсты>м и, так сказать, «извлечь меня из моря забвения»; а потому я думаю, что точность указаний в письме Вашем отнюдь не необходима; а общность ему даже более бы пошла. За что же я один гибну измором? Марья Ал<ександровна> ко мне тоже (кажется) довольно расположена; но я не знаю: не лучше ли писать прямо ему, или, может быть, совсем никому не писать. На сих днях я еще сделал две отчаянных попытки добыть работу и убедился, что мой «катковизм» мне загородил все двери. Более я уже и пытаться не стану. Будь – что будет!
Комаров (38 лет) женился на дочери Григорья Данилевского (16 лет) – она еще не кончила курса гимназии и будет его оканчивать. Мне нравится эта оригинальность. Рекомендую Вашему вниманию начало статьи Щедрина «Культурные люди».
Ваш Лесков.
П. К. Щебальскому
18 февраля 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
О «Дневнике» Вы, конечно, уже всё знаете: я заключаю это потому, что Менгден давно уехал и, вероятно, все сообщил Вам. О сочинении же Вашем узнал только сегодня, оно будет доложено на 3-й неделе поста в комиссии, состоящей из Савваитова, Замысловского, Авсеенки и Бестужева (последний председательствует и от него, как я Вам не раз уже писал, будет многое зависеть). Он и Савваитов, по всем видимостям, на Вашей стороне; о Замысловском не знаю; а об Авс<еенко> имею обычаем никогда ничего не узнавать. Этот человек добра не любит и просить его напрасно, – он гадит с сладострастием, так что вместо пользы можно наделать сугубый вред. Употребляйте возможное давление на Бестужева, – это, по моему мнению, – самое верное и надежное. В моих делах, разумеется, все по-старому: ни «тпру» не едет, ни «но» не везет. На днях Тертий Ив<анович> нападал на Георгиевского за полное обо мне забвение; но, кажется, все это втуне. Отговорок, разумеется, всегда может быть столько, сколько захочется найти их. В России все возможно, если хотят, и ничто невозможно, если не хотят; это мне еще двадцать лет тому назад один старый жид в Киеве открыл, и я это до сих пор постоянно наблюдаю. Хотят же теперь только то, в чем видят выгоду, или необходимость; а в моих делах ни для кого нет ни того, ни другого.
Бедный Виссарион Комаров женился по рассеянности на дочери Данилевского, вместо дочери Каткова, и получил вместо 25 тысяч рублей нейзильберные ложечки работы Александра Кача. Сконфужен ужасно и имеет ныне один ус книзу, а один кверху, а очи червонные, яко у рыбы, глаголемой «окунь».
Поклон мой Вам, Мирре Александровне и барышням. Простите, если чем согрешил, а наипаче надокучил своею пискотнёю: буду говеть и потому каюсь. А не пищать нельзя: во-первых, будто легче, как попищишь; а во-вторых, как пророк Ваалов, хоть и знаешь деревянное сердце своего бога, а все думаешь: авось на диво, возьмет да и услышит! Пусть хоть Мирра Александровна за меня покучится отвращающемуся от просьб моих богу отцов наших; а я за нее покланяюсь, и тако исполним завет Христов.
Новостей хороших только, что на днях двое удавились на одной веревке друг против друга. Если Вы лавливали рыбу, то должны знать, что это выражает так называемую «бешенку». Скука делается просто одуряющею.
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
24 марта 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Я получил Ваше письмо, в котором Вы радуетесь, что в отечестве Вашем много людей более Вас достойных; но за то и Вы, конечно, получили мою сонную цидулку, из которой могли видеть, сколько и сия Ваша радость несовершенна. Ваша рукопись была всех лучше (из пяти), но Б<есту>жев наловил в ней так много фактических ошибок, что надо было признать необходимость их исправления. Были, правда, ошибки, которые, может быть, надо бы считать просто за описки, – например Дмит<рий> Донской, отправляясь на Куликово поле, у Вас берет благословение у м. Алексея, а не у св. Сергия и т. п. Однако доклад был таков, что Комитет оказал Вам много доброжелательства, не согласясь с представлением рецензента об отвержении рукописи, а постановил, что ее желательно бы видеть исправленною по замечаниям. Иного ничего Комитет не мог и сделать. Теперь о возвращении рукописи: я вчера просил об этом Савваитова, но он отклонил это от себя, – говоря, что не может без Г<еоргиев>ского, которого я всячески избегаю о чем бы то ни было просить; но для Вас пересилил себя и попросил и очень усердно и тем дело совсем прихлопнул: он проголосил, что «как же-с это-с можно-с? Это ведь не порядок… и гр<аф> может-с сам пожелать увидеть-с сочинение-с» и т. п. Результат тот, что «нельзя» и ничего нельзя, – ни возвратить, ни домой взять и заказать писарю списать копию, потому что «граф-с может-с спросить-с». Словом, я отошел с носом и, сказав себе «дурака», решился еще крепче не беспокоить сего сановника ничем, даже и для Вас. Чудовищная и противнейшая подозрительность этого человека растет не по дням, а по часам и говорить с ним, поистине, сущее наказание. Они теперь ожесточенно катковствуют: завели особую домашнюю цензуру над всею прессою; назначили к сему Авсеенку и во всем видят подкопы, а посему все строчат жалобы и добиваются предостережений, направо и налево. Теперь идет дело о «Нов<ом> вр<емени>» Суворина, который напечатал корреспонденцию из Новгорода о неудовлетворительных порядках тамошней гимназии. Повод дать предостережение был так недостаточен, что вся тройка с ног сбилась, бегая по сему делу ко «Вн. Дел.», где не хотели давать этому делу хода, – кажется более потому, что они уже очень надоели. Однако они добились, и предостережение завтра будет. До Вас ли тут и вообще до кого бы то ни было, кроме их самих? Поэтому прошу на меня не сетовать, что я Вам ничего доброго сделать не могу. Повидавшись после заседания с Савваитовым, я мог добиться от него в Вашу пользу только того, что рукопись можно будет выдать мне, как только граф подпишет журнал; но для этого Вы должны прислать мне записку в том, что-де рукопись под девизом таким-то прошу выдать такому-то, и подписать это опять не именем, а девизом же. Пришлите такую записку поскорее, но скорого исполнения сей Вашей просьбы не ждите: может быть, возможность удовлетворить ее явится и скоро; а может быть, и не скоро, например в мае месяце: «стяжите душу вашу в терпении» или ищите иных путей. Впрочем, я думаю, ничто не поможет: у нас с Вами на удачи не ходко, и добрых людей, готовых всучить в крестный снурок свиную щетинку, на всяком месте довольно. Не усилить бы без пользы толков, что «этот Щ<ебальский> любит докучать». По моему, лучше не докучайте: зачем? – ведь они, слава богу, сыты… О, дорогой Петр Карлович, когда бы Вы знали: как тяжело жить в этой задухе, которой и конца не видно! И мы же сами, может быть, все это взгромоздили и подпираем… Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительною пошлостью. Зачем они? – нет им места.
Прощайте, поклонитесь Мирре Александровне и барышням.
Ваш Н. Л.
Барона «сладкопевца» я более не видал: это гораздо спокойнее.
Я. П. Полонскому
18 апреля 1876 г., Петербург.
Уважаемый Яков Петрович!
Посылаю к Вам юношу, имеющего страсть к поэзии и некоторые дарования, впрочем уже подпорченные гражданским направлением. Он ищет совета и указаний, – не откажите ему выслушать его и сказать ему доброе слово трезвой правды.
Душевно Преданный Вам и Вас искренно любящий
Николай Лесков.
Письма 1877 года
Ф. М. Достоевскому
Ночь на 7 марта 1877 г.,
Петербург.
Сказанное по поводу «негодяя Стивы» и «чистого сердцем Левина» так хорошо, – чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, – иначе он не разобрал бы этого так. Это анализ умной души, а не головы.
Всегда Вас почитающий
Н. Лесков.
Ф. И. Буслаеву
1 июня 1877 г., Петербург.
Достоуважаемый Федор Иванович!
Внимание, Вами мне оказываемое, меня не только трогает, но даже и приводит в смущение. При всех моих человеческих недостатках я так счастлив, что не совсем утратил русское чувство скромности: я знаю свое малое значение в литературе, свои малые средства и малое искусство нравиться моим собратам по искусству. Вы человек большой, сведущность Ваша общепризнана,
заслуги Ваши родной литературе выше всяких пререканий. Вам ли у меня спрашивать мнения, и мне ли иметь наглость подавать его Вам? Но я не только уважаю Вас, но и люблю как человека и, в силу этого последнего чувства, решаюсь сказать Вам, чту думаю о затронутом Вами интереснейшем литературном вопросе.
За Вашу брошюру, переданную мне Ал. Дм. Галаховым, я только могу Вас благодарить и поучаться; но боюсь по поводу ее что-нибудь заметить. Вопрос об «утилитарном» значении романа и вообще художественных произведений, мне кажется, до сих пор не выяснен и не выяснен именно потому, что он недавно неудачно поставлен и с тех пор, при каждой новой разработке, всегда роковым образом попадает под тот же угол зрения. Я думаю, что роман (то есть собственно один роман, – одна эта повествовательная форма) должен иметь то значение, какое Вы ему намечаете, и это, может быть, должно составлять характерную черту отличия романа от новеллы, повести, очерка и рассказа. В этом давно надо было бы произвести обстоятельный разбор, так как в наше время – критического бессмыслия в понятиях самих писателей о форме их произведений, воцарился невообразимый хаос. «Хочу, назову романом, хочу, назову повестью – так и будет». И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так, и вот это-то, по-моему, стоило внимания такого знатока, как Вы. Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех последних формах он может быть только рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умения и знаний; а, затевая ткань романа, он должен быть еще и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки, искусства и весьма часто политики. Другими словами, если я не совсем бестолково говорю, у романа, то есть произведения, написанного настоящим образом, по настоящим понятиям о произведении этого рода, не может быть отнято некоторое, – не скажу «поучительное», а толковое, разъясняющее смысл значение. У нас же думают, что для этого нужна та мерзость, которая называется «направлением», или «тенденциею». Этого укора не избежали и Вы, со своею брошюрою, которая иными в Петербурге понята так, что Вы хотите того, чего Вы, разумеется, не можете хотеть, – то есть тенденциозности, писания трактатов в лицах. Я Вас понимаю и, кажется, Алексей Дмитриевич тоже; но, я думаю, что все-таки Вам надо разъяснить свою мысль, а в этом Вам много пригодилось бы разъяснение того, что мы должны разуметь под романом, в отличие от повести, рассказа, очерка и проч.?
Роману нет нужды насильственно придавать служебного значения, но оно должно быть в нем как органическое качество его сущности. Если же нет этого в романе, то значит он не берет всего того, что должен взять роман, и не имеет основания называться романом. Тут, конечно, есть исключения, которые сами собою очевидны (например, романы чисто любовные, каковых, впрочем, теперь немного и скоро будет еще менее). Но и в повести, и даже в рассказе должна быть своя служебная роль – например показать в порочном сердце тот уголок, где еще уцелело что-нибудь святое и чистое. Эта задача сколь приятная, столь же и полезная, и я ее достигал порой, вовсе не имея к этому никакой теории, а тем менее «тенденции». Мне нравилось мнение китайского «царя мудрости» Кунцзы, что «в каждом сердце еще есть добро – стоит только, чтобы люди увидали на пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы он был спасен». Я это понял и исповедую и благодаря этому действительно находил теплые углы в холодных сердцах и освещал их. Вот служебность рассказа, но не тенденция. Мне кажется, надо бы перебрать это и пояснить примерами, потому что тут мы стали на всякие теоретические разговоры и нам надо «млеко», а не брашно. О самом приеме, или манере постройки романа, я с Вами еще более согласен и не далее как в прошлом году говорил об этом с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который хвалил меня за хронику «Захудалый род», но говорил, что я напрасно избрал не общероманический прием, а писал мемуаром, от имени вымышленного лица. Ив<ан> Серг<еевич> указывал мне даже места, где из-за вымышленного лица, от коего веден мемуар, проглядывала моя физиономия; но и он не замечал этого в дневнике Туберозова (в «Соборянах»). Однако, по вине моей излишней впечатлительности, это имело на меня такое действие, что я оставил совсем тогда созревшую у меня мысль написать «Записки человека без направления». Я не совсем убедился доводами Ивана Сергеевича, но как-то «расстроился мыслями» от расширившегося взгляда на мемуарную форму вымышленного художественного произведения. По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живее, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди простые называют: «случается точно, как в романе». Но, мне кажется, не только общего правила, но и преимущества одной манеры перед другою указать невозможно, так как тут многое зависит от субъективности автора. Вопрос этот очень интересен, но я боюсь, не пришлось бы его в конце концов свести к старому решению, что «наилучшая форма для каждого писателя та, с какою он лучше управляется». От Вас, я думаю, будут ожидать более разносторонней критики различных приемов и манер, а не генерального решения в пользу одной из них. И таковые ожидания, надо признаться, будут правильны, а исполнение их плодотворно для слушателей, и Вы принесете им немалую услугу и всей литературе, совсем сбившейся и неведомо куда вьющейся без критики. – Вот мое скромное слово, которое я позволяю себе сказать в ответ на Ваше письмо, делающее мне большую и незаслуженную честь. Если я сказал что не основательное – «не дописал или переписал», – простите.
Уважаемой супруге Вашей прошу позволения засвидетельствовать мое искреннее почтение. Вы, оба, в Париже были мне бесконечно дороги, посреди Рокамболей, из коих одного недавно видел здесь. А впрочем, и они на пожаре ребенка, захваченного огнем, вероятно, пожалеют искренно… Право, пожалеют!
Душевно Преданный Вам слуга и Ваш почитатель
Н. Лесков.
Письма 1878 года
Н. А. Любимову
8 марта 1878 г., Петербург.
Вчера кн. Оболенский сказал мне, что в госуд<арственном> совете утвержден проект назначения школьных инспекторов для Кавказского края. Каждая из этих должностей дает вдвое более, чем Комитет, и при этом жаловании уже нельзя сдохнуть с голода. Если Вы согреетесь сочувствием к моему ужасному и незаслуженно постыдному положению и напишете Георгиевскому, то, пожалуйста, укажите на эти места. Конечно, было бы благодеянием дать мне такое место здесь, в Петербурге, чтобы я мог не терять и Комитета, но если этого нельзя, то я пойду всюду. Что делать? Не спросите ли: почему я об этом не говорю? Почему? – потому, что мне уже срама не имут отказывать, и я не могу ничего сказать без проклятого предубеждения, что из этого ни чего не выйдет. Я как столб, на который уже и люди и собаки мочатся.
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
24 января 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Я получил от Веры Петровны письмецо, на которое отвечаю Вам. Не знаю хорошо ли писать Марье Ал<ександров>не; а не ее мужу? – по-моему, все нехорошо; но все надо пробовать. Поступите как сочтете за лучшее; но не ошибитесь и не принизьте меня напрасно. Я не стыжусь искать труда; но напрасных унижений все-таки боюсь и избегаю. О порядках кавказских я положительно ничего не знаю, да и узнать не могу; но это не важно: нет нужды указывать именно на это – есть и многое другое, например синод, где я мог бы быть с пользою употреблен при различных делах. Г<еориевско>му, может быть, стоило бы только заговорить обо мне с гр. Т<олсты>м и, так сказать, «извлечь меня из моря забвения»; а потому я думаю, что точность указаний в письме Вашем отнюдь не необходима; а общность ему даже более бы пошла. За что же я один гибну измором? Марья Ал<ександровна> ко мне тоже (кажется) довольно расположена; но я не знаю: не лучше ли писать прямо ему, или, может быть, совсем никому не писать. На сих днях я еще сделал две отчаянных попытки добыть работу и убедился, что мой «катковизм» мне загородил все двери. Более я уже и пытаться не стану. Будь – что будет!
Комаров (38 лет) женился на дочери Григорья Данилевского (16 лет) – она еще не кончила курса гимназии и будет его оканчивать. Мне нравится эта оригинальность. Рекомендую Вашему вниманию начало статьи Щедрина «Культурные люди».
Ваш Лесков.
П. К. Щебальскому
18 февраля 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
О «Дневнике» Вы, конечно, уже всё знаете: я заключаю это потому, что Менгден давно уехал и, вероятно, все сообщил Вам. О сочинении же Вашем узнал только сегодня, оно будет доложено на 3-й неделе поста в комиссии, состоящей из Савваитова, Замысловского, Авсеенки и Бестужева (последний председательствует и от него, как я Вам не раз уже писал, будет многое зависеть). Он и Савваитов, по всем видимостям, на Вашей стороне; о Замысловском не знаю; а об Авс<еенко> имею обычаем никогда ничего не узнавать. Этот человек добра не любит и просить его напрасно, – он гадит с сладострастием, так что вместо пользы можно наделать сугубый вред. Употребляйте возможное давление на Бестужева, – это, по моему мнению, – самое верное и надежное. В моих делах, разумеется, все по-старому: ни «тпру» не едет, ни «но» не везет. На днях Тертий Ив<анович> нападал на Георгиевского за полное обо мне забвение; но, кажется, все это втуне. Отговорок, разумеется, всегда может быть столько, сколько захочется найти их. В России все возможно, если хотят, и ничто невозможно, если не хотят; это мне еще двадцать лет тому назад один старый жид в Киеве открыл, и я это до сих пор постоянно наблюдаю. Хотят же теперь только то, в чем видят выгоду, или необходимость; а в моих делах ни для кого нет ни того, ни другого.
Бедный Виссарион Комаров женился по рассеянности на дочери Данилевского, вместо дочери Каткова, и получил вместо 25 тысяч рублей нейзильберные ложечки работы Александра Кача. Сконфужен ужасно и имеет ныне один ус книзу, а один кверху, а очи червонные, яко у рыбы, глаголемой «окунь».
Поклон мой Вам, Мирре Александровне и барышням. Простите, если чем согрешил, а наипаче надокучил своею пискотнёю: буду говеть и потому каюсь. А не пищать нельзя: во-первых, будто легче, как попищишь; а во-вторых, как пророк Ваалов, хоть и знаешь деревянное сердце своего бога, а все думаешь: авось на диво, возьмет да и услышит! Пусть хоть Мирра Александровна за меня покучится отвращающемуся от просьб моих богу отцов наших; а я за нее покланяюсь, и тако исполним завет Христов.
Новостей хороших только, что на днях двое удавились на одной веревке друг против друга. Если Вы лавливали рыбу, то должны знать, что это выражает так называемую «бешенку». Скука делается просто одуряющею.
Н. Лесков.
П. К. Щебальскому
24 марта 1876 г., Петербург.
Уважаемый Петр Карлович!
Я получил Ваше письмо, в котором Вы радуетесь, что в отечестве Вашем много людей более Вас достойных; но за то и Вы, конечно, получили мою сонную цидулку, из которой могли видеть, сколько и сия Ваша радость несовершенна. Ваша рукопись была всех лучше (из пяти), но Б<есту>жев наловил в ней так много фактических ошибок, что надо было признать необходимость их исправления. Были, правда, ошибки, которые, может быть, надо бы считать просто за описки, – например Дмит<рий> Донской, отправляясь на Куликово поле, у Вас берет благословение у м. Алексея, а не у св. Сергия и т. п. Однако доклад был таков, что Комитет оказал Вам много доброжелательства, не согласясь с представлением рецензента об отвержении рукописи, а постановил, что ее желательно бы видеть исправленною по замечаниям. Иного ничего Комитет не мог и сделать. Теперь о возвращении рукописи: я вчера просил об этом Савваитова, но он отклонил это от себя, – говоря, что не может без Г<еоргиев>ского, которого я всячески избегаю о чем бы то ни было просить; но для Вас пересилил себя и попросил и очень усердно и тем дело совсем прихлопнул: он проголосил, что «как же-с это-с можно-с? Это ведь не порядок… и гр<аф> может-с сам пожелать увидеть-с сочинение-с» и т. п. Результат тот, что «нельзя» и ничего нельзя, – ни возвратить, ни домой взять и заказать писарю списать копию, потому что «граф-с может-с спросить-с». Словом, я отошел с носом и, сказав себе «дурака», решился еще крепче не беспокоить сего сановника ничем, даже и для Вас. Чудовищная и противнейшая подозрительность этого человека растет не по дням, а по часам и говорить с ним, поистине, сущее наказание. Они теперь ожесточенно катковствуют: завели особую домашнюю цензуру над всею прессою; назначили к сему Авсеенку и во всем видят подкопы, а посему все строчат жалобы и добиваются предостережений, направо и налево. Теперь идет дело о «Нов<ом> вр<емени>» Суворина, который напечатал корреспонденцию из Новгорода о неудовлетворительных порядках тамошней гимназии. Повод дать предостережение был так недостаточен, что вся тройка с ног сбилась, бегая по сему делу ко «Вн. Дел.», где не хотели давать этому делу хода, – кажется более потому, что они уже очень надоели. Однако они добились, и предостережение завтра будет. До Вас ли тут и вообще до кого бы то ни было, кроме их самих? Поэтому прошу на меня не сетовать, что я Вам ничего доброго сделать не могу. Повидавшись после заседания с Савваитовым, я мог добиться от него в Вашу пользу только того, что рукопись можно будет выдать мне, как только граф подпишет журнал; но для этого Вы должны прислать мне записку в том, что-де рукопись под девизом таким-то прошу выдать такому-то, и подписать это опять не именем, а девизом же. Пришлите такую записку поскорее, но скорого исполнения сей Вашей просьбы не ждите: может быть, возможность удовлетворить ее явится и скоро; а может быть, и не скоро, например в мае месяце: «стяжите душу вашу в терпении» или ищите иных путей. Впрочем, я думаю, ничто не поможет: у нас с Вами на удачи не ходко, и добрых людей, готовых всучить в крестный снурок свиную щетинку, на всяком месте довольно. Не усилить бы без пользы толков, что «этот Щ<ебальский> любит докучать». По моему, лучше не докучайте: зачем? – ведь они, слава богу, сыты… О, дорогой Петр Карлович, когда бы Вы знали: как тяжело жить в этой задухе, которой и конца не видно! И мы же сами, может быть, все это взгромоздили и подпираем… Эта мука с платком во рту убила во мне всю силу, и всякие надежды представляются мне уже какой-то непозволительною пошлостью. Зачем они? – нет им места.
Прощайте, поклонитесь Мирре Александровне и барышням.
Ваш Н. Л.
Барона «сладкопевца» я более не видал: это гораздо спокойнее.
Я. П. Полонскому
18 апреля 1876 г., Петербург.
Уважаемый Яков Петрович!
Посылаю к Вам юношу, имеющего страсть к поэзии и некоторые дарования, впрочем уже подпорченные гражданским направлением. Он ищет совета и указаний, – не откажите ему выслушать его и сказать ему доброе слово трезвой правды.
Душевно Преданный Вам и Вас искренно любящий
Николай Лесков.
Письма 1877 года
Ф. М. Достоевскому
Ночь на 7 марта 1877 г.,
Петербург.
Сказанное по поводу «негодяя Стивы» и «чистого сердцем Левина» так хорошо, – чисто, благородно, умно и прозорливо, что я не могу удержаться от потребности сказать Вам горячее спасибо и душевный привет. Дух Ваш прекрасен, – иначе он не разобрал бы этого так. Это анализ умной души, а не головы.
Всегда Вас почитающий
Н. Лесков.
Ф. И. Буслаеву
1 июня 1877 г., Петербург.
Достоуважаемый Федор Иванович!
Внимание, Вами мне оказываемое, меня не только трогает, но даже и приводит в смущение. При всех моих человеческих недостатках я так счастлив, что не совсем утратил русское чувство скромности: я знаю свое малое значение в литературе, свои малые средства и малое искусство нравиться моим собратам по искусству. Вы человек большой, сведущность Ваша общепризнана,
заслуги Ваши родной литературе выше всяких пререканий. Вам ли у меня спрашивать мнения, и мне ли иметь наглость подавать его Вам? Но я не только уважаю Вас, но и люблю как человека и, в силу этого последнего чувства, решаюсь сказать Вам, чту думаю о затронутом Вами интереснейшем литературном вопросе.
За Вашу брошюру, переданную мне Ал. Дм. Галаховым, я только могу Вас благодарить и поучаться; но боюсь по поводу ее что-нибудь заметить. Вопрос об «утилитарном» значении романа и вообще художественных произведений, мне кажется, до сих пор не выяснен и не выяснен именно потому, что он недавно неудачно поставлен и с тех пор, при каждой новой разработке, всегда роковым образом попадает под тот же угол зрения. Я думаю, что роман (то есть собственно один роман, – одна эта повествовательная форма) должен иметь то значение, какое Вы ему намечаете, и это, может быть, должно составлять характерную черту отличия романа от новеллы, повести, очерка и рассказа. В этом давно надо было бы произвести обстоятельный разбор, так как в наше время – критического бессмыслия в понятиях самих писателей о форме их произведений, воцарился невообразимый хаос. «Хочу, назову романом, хочу, назову повестью – так и будет». И они думают, что это так и есть, как они назвали. Между тем, конечно, это не так, и вот это-то, по-моему, стоило внимания такого знатока, как Вы. Писатель, который понял бы настоящим образом разницу романа от повести, очерка или рассказа, понял бы также, что в сих трех последних формах он может быть только рисовальщиком, с известным запасом вкуса, умения и знаний; а, затевая ткань романа, он должен быть еще и мыслитель, должен показать живые создания своей фантазии в отношении их к данному времени, среде и состоянию науки, искусства и весьма часто политики. Другими словами, если я не совсем бестолково говорю, у романа, то есть произведения, написанного настоящим образом, по настоящим понятиям о произведении этого рода, не может быть отнято некоторое, – не скажу «поучительное», а толковое, разъясняющее смысл значение. У нас же думают, что для этого нужна та мерзость, которая называется «направлением», или «тенденциею». Этого укора не избежали и Вы, со своею брошюрою, которая иными в Петербурге понята так, что Вы хотите того, чего Вы, разумеется, не можете хотеть, – то есть тенденциозности, писания трактатов в лицах. Я Вас понимаю и, кажется, Алексей Дмитриевич тоже; но, я думаю, что все-таки Вам надо разъяснить свою мысль, а в этом Вам много пригодилось бы разъяснение того, что мы должны разуметь под романом, в отличие от повести, рассказа, очерка и проч.?
Роману нет нужды насильственно придавать служебного значения, но оно должно быть в нем как органическое качество его сущности. Если же нет этого в романе, то значит он не берет всего того, что должен взять роман, и не имеет основания называться романом. Тут, конечно, есть исключения, которые сами собою очевидны (например, романы чисто любовные, каковых, впрочем, теперь немного и скоро будет еще менее). Но и в повести, и даже в рассказе должна быть своя служебная роль – например показать в порочном сердце тот уголок, где еще уцелело что-нибудь святое и чистое. Эта задача сколь приятная, столь же и полезная, и я ее достигал порой, вовсе не имея к этому никакой теории, а тем менее «тенденции». Мне нравилось мнение китайского «царя мудрости» Кунцзы, что «в каждом сердце еще есть добро – стоит только, чтобы люди увидали на пожаре ребенка в пламени, и все пожелают, чтобы он был спасен». Я это понял и исповедую и благодаря этому действительно находил теплые углы в холодных сердцах и освещал их. Вот служебность рассказа, но не тенденция. Мне кажется, надо бы перебрать это и пояснить примерами, потому что тут мы стали на всякие теоретические разговоры и нам надо «млеко», а не брашно. О самом приеме, или манере постройки романа, я с Вами еще более согласен и не далее как в прошлом году говорил об этом с Иваном Сергеевичем Аксаковым, который хвалил меня за хронику «Захудалый род», но говорил, что я напрасно избрал не общероманический прием, а писал мемуаром, от имени вымышленного лица. Ив<ан> Серг<еевич> указывал мне даже места, где из-за вымышленного лица, от коего веден мемуар, проглядывала моя физиономия; но и он не замечал этого в дневнике Туберозова (в «Соборянах»). Однако, по вине моей излишней впечатлительности, это имело на меня такое действие, что я оставил совсем тогда созревшую у меня мысль написать «Записки человека без направления». Я не совсем убедился доводами Ивана Сергеевича, но как-то «расстроился мыслями» от расширившегося взгляда на мемуарную форму вымышленного художественного произведения. По правде же говоря, форма эта мне кажется очень удобною: она живее, или, лучше сказать, истовее рисовки сценами, в группировке которых и у таких больших мастеров, как Вальтер Скотт, бывает видна натяжка, или то, что люди простые называют: «случается точно, как в романе». Но, мне кажется, не только общего правила, но и преимущества одной манеры перед другою указать невозможно, так как тут многое зависит от субъективности автора. Вопрос этот очень интересен, но я боюсь, не пришлось бы его в конце концов свести к старому решению, что «наилучшая форма для каждого писателя та, с какою он лучше управляется». От Вас, я думаю, будут ожидать более разносторонней критики различных приемов и манер, а не генерального решения в пользу одной из них. И таковые ожидания, надо признаться, будут правильны, а исполнение их плодотворно для слушателей, и Вы принесете им немалую услугу и всей литературе, совсем сбившейся и неведомо куда вьющейся без критики. – Вот мое скромное слово, которое я позволяю себе сказать в ответ на Ваше письмо, делающее мне большую и незаслуженную честь. Если я сказал что не основательное – «не дописал или переписал», – простите.
Уважаемой супруге Вашей прошу позволения засвидетельствовать мое искреннее почтение. Вы, оба, в Париже были мне бесконечно дороги, посреди Рокамболей, из коих одного недавно видел здесь. А впрочем, и они на пожаре ребенка, захваченного огнем, вероятно, пожалеют искренно… Право, пожалеют!
Душевно Преданный Вам слуга и Ваш почитатель
Н. Лесков.
Письма 1878 года
Н. А. Любимову
8 марта 1878 г., Петербург.