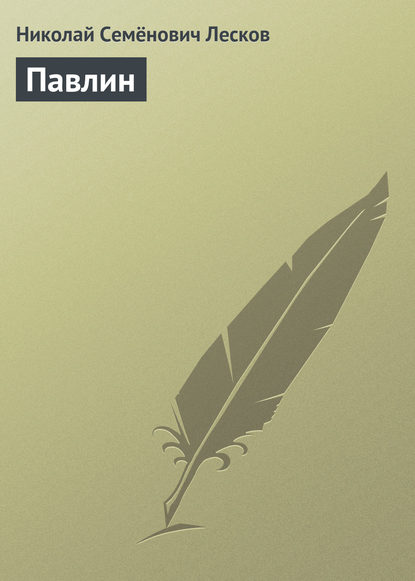По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Павлин
Автор
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы на этом расстались и после долго не виделись, но вдруг совсем неожиданно в один осенний вечер ко мне приходит Павлин и с тревожным выражением сообщает, что Люба заболела.
– Пришла, – говорит, – в прошлую субботу ко мне вечерком на одну минуту и вдруг разнемоглась и всех перепугала. Анна Львовна своего доктора присылали; и даже сами приходили и молодой барин… но теперь ей лучше: спала немножко и, проснувшись, говорит: «Как бы мне хотелось что-нибудь о моей мамаше слышать». Сделайте милость, пожалуйте к ней посидеть. Она про вас вспомнила – и я замечаю, что ей хотелось бы про детство свое поговорить, так как вы ее мать видели. Вы этим ей, больной, большое удовольствие можете принести.
Я встал и пошел.
– Только, знаете, если она будет много спрашивать вы ей не всё говорите, – шепнул Павлин, вводя меня в заповедную дверь своей швейцарской комнатки.
Эта комната, которую я теперь видел в первый раз, была очень маленькая, но преопрятная и приютная; она мне с первого же взгляда напомнила хорошенькую коробочку, в которой лежит хорошенькая саксонская куколка: куколка эта и была пятнадцатилетняя Люба.
VIII
Павлин оставил нас здесь с Любою вдвоем, а сам пошел хлопотать о чае. Люба сидела в кресле, с ногами, положенными на скамеечку и укутанными стареньким, но очень чистым пледом. Я приветствовал ее выражением удовольствия, что она поправляется, и сел напротив ее через столик.
Она мне ничего не ответила, но вздохнула и сделала гримаску, которую я принял за выражение какого-нибудь болезненного ощущения, но это была ошибка: Люба хотела показать своею гримасою, что она недовольна и безутешна.
– Я вовсе не рада, что я выздоравливаю, – проговорила она мне наконец, надув свою губку.
– Не рады! Что же, вам нравится болеть? – отвечал я, стараясь настроить разговор на шутливый тон; но Люба еще больше насупилась и молвила:
– Нет, не болеть, а у…
– «У…»? – отвечал я с попыткою обратить дело в шутку. – Вам еще рано «у…»
– Я очень несчастна, – прошептала больная, и слезы ручьями полились по обеим ее щекам.
Я старался ее успокоить общими утешениями вроде того, что вся ее жизнь еще впереди и пройдет тяжелая полоса, наступит и лучшая, но она махнула мне ручкою и нетерпеливо сказала:
– Никогда мне ничего лучшего не будет.
– Почему?
– Так… мне это на роду написано.
Я посмотрел на нее и не нашелся, что ей отвечать: в ее словах звучало не минутное болезненное настроение, а в самом деле что-то роковое, и во всем существе ее лежало что-то неотразимое, феральное. Молодое ее личико напоминало мне лица ее бабушки и матери. Разговор наш прервался и не шел далее. Люба не выспрашивала меня о своем прошлом, как ожидал Павлин, а молчала и сердилась. На что? Очевидно, на свое положение. Кого же она в нем винила? Устроившее так провидение?.. Нет; у нее, кажется, был на уме другой виноватый – и этот виноватый, как мне показалось, был едва ли не Павлин. Подозрительность подсказывала мне, что, вероятно, между ними незадолго перед этим произошла какая-нибудь сценка, от которой Павлин растерялся и, не желая беспокоить Любу своим присутствием, а в то же время жалея оставить ее одну, позвал меня к ней сам, без всякого ее желания. Та же, может быть, не совсем основательная подозрительность подсказывала мне, что Павлин нажил себе в Любе напасть. Люба казалась мне девочкою не в меру чувствительною, претензионною и суетною, а я уже и тогда знал, что с такими существами серьезному человеку нелегко ладить. Мне сдавалось, что всё страдание Любы, главным образом, происходит от того, что она живет в швейцарской, а не в бельэтаже, и что она обязана благодарностью лакею, а не его госпоже… И вот, придя с тем, чтобы сожалеть Любу, я невольно начал жалеть Павлина. Он, казалось, уже пасовал перед нею и теперь чувствовал, что он прирожденный лакей, а она, всем ему обязанная, все-таки прирожденная барышня, в которой сила привычки заставляет его признавать существо, чем-то его превышающее. Люба тоже, несомненно, замечала это преобладание над своим воспитателем, но у нее не было великодушия, чтобы быть скромною и благодарною. Разговорившись со мною, она всего охотнее рассказывала лишь о том, что у нее сегодня и вчера была сама Анна Львовна и ее старший сын Вольдемар, тогда только что произведенный в корнеты одного из щегольских гвардейских кавалерийских полков. Надутая и молчаливая, Люба чрезвычайно охотно распространялась об их посещении и о том, что они «говорили с нею по-французски, потому что не хотели, чтобы Павлин понимал их разговора», и при этом Люба со вниманием рассматривала и нюхала оставленный ей старою генеральшею флакон с ароматическим уксусом. После этого разговора я был окончательно убежден, что, чтобы вылечить Любу, надо бы ее только, как кошечку, перекинуть с места на место, то есть перенести из швейцарской в бельэтаж – и последствия не вдалеке же показали мне, что я не ошибся.
Выздоровев и побывав в бельэтаже у генеральши, молоденькая Люба нашла отраду в том, чтобы хотя несколько часов в день не удаляться оттуда. В мастерскую, куда она была отдана Павлином, теперь ей было так тяжело идти, что при одной мысли об этом она снова разнемогалась. Павлин не знал, что ему с нею делать: он все только жаловался, говоря:
– Вот, вот люди!.. Гм… подруги… наговорили ей, знаете, про то, что она… благородная! Теперь не хочет! А что такое это благородство? – Пустяки.
Принудить же Любу, заставить, поневолить ее идти в мастерскую… на это непреклонная воля Павлина была бессильна. Взять же ее к себе и держать в своей каморочке он тоже находил неудобным и непристойным, так как каморка была тесна, а Люба была уже почти совсем взрослая девушка. Одним словом, дело гнуло совсем не туда, куда направлял его Павлин, – и что же вы думаете: как он нашелся уладить всю эту неладицу? Ручаюсь, что вы не отгадаете!.. Павлин через год женился на этой шестнадцатилетней Любе, на этой пустой и напыщенной девочке, которая его презирала со всею жестокостию безнатурности, – и вы были бы несправедливы, если бы хоть на одну минуту подумали, что Павлии Любу к этому прямо или косвенно чем-нибудь приневоливал. Нимало нет; молодая девушка сама этого захотела. А как ей это пришло в голову – про это я вам сейчас расскажу.
IX
Как иногда люди женятся и выходят замуж? Хорошие наблюдатели утверждают, что едва ли в чем-нибудь другом человеческое легкомыслие чаще проглядывает в такой ужасающей мере, как в устройстве супружеских союзов. Говорят, что самые умные люди покупают себе сапоги с гораздо б?льшим вниманием, чем выбирают подругу жизни. И вправду: не в редкость, что этим выбором как будто не руководствует ничто, кроме слепого и насмешливого случая. Так было и у Павлина с Любою.
Люба хотела только не идти в магазин, где какая-то девочка сказала ей грубость, и в этих целях «пижонилась» и, ластясь под крылышко Анны Львовны, жаловалась и горевала, что ей опять надо идти туда, где люди так необразованны и грубы, что не умеют ценить преимуществ ее происхождения, а, напротив, как бы мстят ей за него.
– Да и наверное они мстят тебе, – отвечала, глядя на Любу, Анна Львовна.
Они обе в это время сидели и работали у матового карселя в уютном кабинете.
– И чему этот Павлин хочет тебя еще учить? Не понимаю я этого! – продолжала Анна Львовна, взглянув на Любину работу, – по-моему, ты и теперь уже превосходная мастерица.
– Он хочет мне открыть магазин…
– Он… Позволь мне тебе сказать, что этот твой он – ужасный, пестрый, гороховый шут. Зачем он будет тебе открывать магазин?
– А что же ему со мной делать?
– Что делать?.. Очень просто; я не понимаю: зачем он на тебе не женится?
Девушка потупилась и промолчала. Она тогда еще едва ли думала о замужестве, но во всяком случае оно представлялось ей желанным вовсе не с Павлином. Генеральша видела, что высказанная ею мысль не приходила в голову Любы, но видела и то, что она ее, однако, не пугает и, по-видимому, довольно хорошо укладывается в ее голове.
– Конечно, так, – продолжала генеральша. – Ты думаешь, это легко быть модисткой, лгать всякой роже: «Это хорошо! Это вам идет!» да потрафлять на всякий каприз и становится перед каждою на колени да мерку снимать?.. А между тем, выйди ты замуж… это гораздо лучше. Особенно если за него, за Павлина; тогда бы мы с тобой никогда не расставались: ты бы у нас при гостях разливала чай и кофе, я бы тебе что-нибудь платила, на гардероб; а по вечерам мы бы с тобою сидели и вместе работали, ожидали бы, пока Володя приедет и расскажет нам, где что делается. Володя очень любит с тобою говорить, я ты всегда будешь как своя в нашем доме.
Люба, краснея, молчала, и на ресницах у нее стали поблескивать слезки, а генеральша продолжала:
– А то ты подумай, что же, если ты, открывши магазин, когда-нибудь и выйдешь хоть и за молодого человека, да за необразованного какого-нибудь, положим, хоть ремесленника или даже чиновника – ничего ведь из этого лучше не будет. Так в том кружке и погрязнешь. А за кого-нибудь другого, повыше, тебе выйти мудрено, потому что ты не так поставлена.
– Я это знаю, – произнесла, глотая слезы, Люба.
– Вот и прекрасно, что ты такая умница! А Павлин, как ты хочешь, он хоть и немолод, но человек редких правил, он тебя ни в чем не стеснит: я его более двадцати лет знаю, и всегда он честен, всегда умен, всегда в порядке и при том всем, хотя я не верю, что люди болтают, будто бы он нажил себе у меня порядочные деньги, но он человек очень бережливый, и какие-нибудь деньжонки у него непременно есть в запасе. Вот пусть он на тебя этот запасец-то и порастрясет. Да, мой друг, да! И ты этого стоишь. И оно, конечно, так все и будет, потому что же ему может быть приятнее, как не наряжать молоденькую и такую хорошенькую жену? Поверь-ка мне, что люди его лет гораздо надежнее, чем всякие вертопрахи вроде этого художника, который ходит снимать с меня портрет и все на тебя заглядывается.
Люба спламенела: она еще в первый раз слышала, что на нее заглядываются мужчины – и притом слышала это от такой солидной женщины, как генеральша, к которой молодая девочка стремилась, как травка к солнцу. Ей было приятно, что Анна Львовна ее так бережет, и Люба разнервничалась и, сбросив с колен работу, кинулась к ней на грудь и заплакала, лепеча:
– Заступитесь за меня, я вас во всем буду слушаться.
Анна Львовна отвечала ласками на ее ласки и продолжала ее наставлять и уговаривать и, наконец, заключила:
– Я только одного боюсь: может быть, Павлин в самом деле тебе кажется немножко стар?
Люба молчала.
– Может быть, тебе непременно хочется молоденького мужа?
– Ах, я ничего об этом не говорю, – перебила Люба.
– Ну и прекрасно, если ты этого не говоришь, так и дай бог добрый час.
Девочка испугалась, что все было так скоро кончено, и, краснея, поспешила сказать, что она ни за кого не пойдет замуж; но Анна Львовна пропела ей стишок из «Красного сарафана», что «не век-де пташечкой в поле распевать и златокрылой бабочкой порхать», и, рассмеявшись, приподняла рукою ее личико и спросила:
– Не хочешь ли ты в монастырь?
– Мне все равно, – отвечала шепотом Люба.
– О-о-о, лжешь; не те у тебя глазенки, чтобы идти в монастырь. Нет, ты там всех будешь смущать: мужчины, вместо того чтобы богу молиться, будут на тебя смотреть.
Девушка рассмеялась.