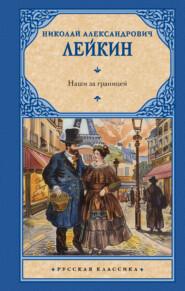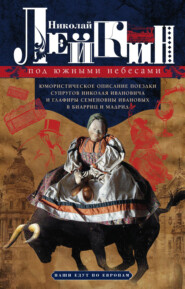По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Странствующая труппа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Помилуйте, какие это актрисы! Говоря между нами, это прачки какие-то.
– Ах, что вы!
– Да конечно же. Я летел сюда заранее, стремился, думал найти элегантных, грациозных женщин, кокетливых, а это, это…
Мировой замялся.
– Судьба их бьет, – проговорила лесничиха. – Летний сезон просидели без ангажемента, прожились, заложились. Они признавались мне. Все костюмы у них заложены. На последние крохи сюда приехали. Бедность, вы сами знаете, принижает, делает робкими.
– Верно. Ну, а публике-то какое до этого дело. Много я имел случаев знакомиться с актрисами, но, признаюсь, таких вижу в первый раз. Неинтересны, совсем неинтересны.
– Полноте вам. Сестра Котомцевой, Левина, прехорошенькая.
– Но ведь это еще почти ребенок. Котомцева – это, очевидно, премьерша их – какая-то кислота. Поднеси к лицу ее кринку свежего молока – скиснется.
– Ах, какой вы зоил!
– Позвольте… Это мое впечатление, а стало быть, будет и впечатление всей публики. Гулина эта самая – какая-то маринованная минога, а Безымянцева – тамбурмажор в юбке. Клянусь чем хотите, вы, милейшая Ольга Сергеевна, убьете их всех вашей красотой.
– Ну-ну-ну… Полноте… – остановила его лесничиха, вся вспыхнув.
– Ma parole d’honneur[1 - Слово чести (фр.).].
Они пришли на сцену. Мужчины уже были одевшись и бродили по сцене. Днепровский, игравший деда Архипа, в белой русской рубахе и в валенках, с седой бородой и в лысом парике, совсем не подходящем для Архипа, смотрел в щелку занавеса на публику и говорил:
– Негусто, негусто в зрительной-то зале.
Котомцев распекал Суслова, значительно уже пьяного, и говорил ему:
– Послушай, как распорядитель товарищества, я положительно запрещаю тебе бегать в публике загримированным! Оделся для спектакля, и вдруг шляешься в буфете и пьешь там водку с купцами.
– Да ведь я только в кассу, Анатолий Евграфыч… Сами же вы хотели узнать, какой сбор, ну, а по дороге, само собой, и выпил. Нельзя же, если приглашают. Могут обидеться. А тут именно нужно угождать публике и искать знакомства.
Язык Суслова уже слегка заплетался.
– И насчет выпивки прошу тебя прекратить. Довольно, – продолжал Котомцев. – Подумай, что тебе после главной пьесы еще водевиль играть.
– Ну вот… Сыграю. Слава богу, шестнадцать лет на сцене, – отвечал Суслов.
К Котомцеву подошел Безымянцев, игравший Афоню. Он был в полушубке нараспашку, в валенках, в картузе.
– Ну что, голубчик Анатолий, как сбор? – спросил он.
– Тридцать девять рублей в кассе и на пятьдесят четыре рубля с рук продано, – отвечал Котомцев.
– Гм… Ведь это скверно для первого спектакля – девяносто три рубля…
– Что ж ты поделаешь, коли театр за городом! Не многих заберет охота тащиться сюда, у кого лошадей нет.
К ним подскочил лесничий и, дымя папироской, сказал:
– Сейчас я из кассы. Акцизный сейчас приехал и взял три билета по полтора рубля для себя, жены и дочери. Да купец Мельгунов с женой пришли и два билета по рублю взяли.
– Четыре с полтиной и два – шесть с полтиной, стало быть, вот уже сорок пять в кассе, – тотчас же сосчитал Днепровский и спросил Котомцева: – Сколько у нас вечерового расхода?
– Ах, боже мой! Да кто же теперь сосчитать может!
Публика в зале прибывала. Настройщик и часовых дел мастер Кац играл уже в зале на фортепиано какой-то марш. Начали приходить и актрисы из своей уборной на сцену. Показалась Котомцева, показалась Безымянцева, играющая Жмигулину. Котомцева подошла к мужу и уныло спросила:
– Как сбор, Анатолий? Должно быть, плох?
– Давеча было сто рублей без полтинника.
– Это только то, что в кассе, не считая того, что с рук продано?
– Да нет же, нет. Всего вместе.
– А ведь мы рассчитывали, что полный сбор больше двухсот пятидесяти рублей.
– Мало ли, что рассчитывали!
– Анатолий, у меня полусапожки совсем худые. Не знаю, как уж и играть буду. Думала у сестры взять, но у ней еще хуже моих, – шепнула мужу Котомцева.
– Завтра купишь себе и сестре новые сапоги.
– Да, но как сегодня-то играть! Я уж кой-как зашила, позачернила чернилами, но…
– Обувь только из лож видна, а из стульев и мест в партере обуви никогда не видать, лож же здесь нет. Что ж, начинать, что ли? – спросил Котомцев.
– Погоди… Авось подойдут и подъедут еще кто-нибудь, – откликнулся Днепровский.
К Котомцеву опять подскочил лесничий и сказал:
– Радуйтесь… Сын головы сказывает, что сейчас в театр помещик Куликов в долгушке с семейством и гостями приехал. Вот уж тут еще приращение сбора рублей на десять будет.
– Ну, слава богу! – проговорила Котомцева и перекрестилась.
Тапер Кац кончил марш и принялся играть вальс.
В семь с половиной часов Котомцев решил поднимать занавес.
– По местам! – крикнул лесничий актерам и, когда все было готово, сам отдернул коленкоровую занавесь в одну сторону.
XII
Пьеса «Грех да беда» шла довольно гладко, и только нотариус в роли Бабаева несколько портил дело. При открытии занавеса интеллигенция посада Гусятниково приветствовала исполнителей аплодисментами. Встретили рукоплесканиями и Котомцева. Интеллигенцию поддерживала публика посерее, но этой серой публике пьеса не понравилась. Кабатчица Подседова прямо сказала головихе после второго акта:
– Канитель… Что дальше будет, я не знаю, а пока канитель… Цирк-то с обезьянами и намазанными шутами куда интереснее был у нас. Там, по крайности, хоть посмеяться можно было. Помните, сколько они, бывало, оплеух себе надают, дураки эти самые? И ничего им, как с гуся вода.