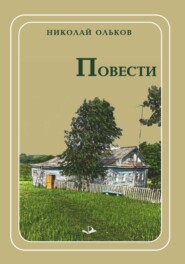По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
«Птица, залетевшая в окно» и другие романы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лежа на продавленном душном матрасе, Арсений еще раз дословно вспомнил весь разговор со следователем. Судя по тому, что его поджидали на вокзале, они видели, что клиент подошел с поезда и знали, что вернется. Следили за ним в его поездках по монастырям? Если бы да, следователь спросил бы о причине столь странных маршрутов путешествия комсомольца. Он понимал, что Урманский и другие сидят где-то рядом, контрреволюционная организация раскрыта, и он имеет к ней отношение. Если это откроется, он примет смерть достойно, чтобы достойно встретиться Там с Нею. Ему не казалось странным, что, не веря Богу и не молясь никому, он был уверен, что есть место на небесах, где встречаются умершие, там Она, собирая на обильных лугах любимые свои фиалки, тоже думала о нем и ждала встречи, хотя всем сердцем желала ему спокойной жизни на земле. Тот сон с косвенным благословением дочери он воспринимал как вещий. Еще одной мысли он улыбнулся: дочка стала ему ближе и дороже после видения Анастасии.
Трое суток его не беспокоили, три раза в день с грохотом открывалась квадратное окошко, и на откидную крышку швыряли миску с похлебкой. Арсений брезгливо съедал содержимое и ставил миску на место. Странно, но завтрашний день его совсем не беспокоил, он знал два возможных решения и был готов к обоим. В двадцать шесть лет покидать мир нелепо и грустно, судьба Лиды и маленькой Анастасии заставляли замирать сердце, но он не волен был распорядиться их будущим, и это принуждало смириться. Он заставлял себя думать только о Стане, о встрече с нею, о том странном, незнакомом и непознаваемом мире, в котором она живет, и он будет рядом с нею, в это верил. Арсений возвращался в реальность и она была чужой ему, усилием воли уходил в забытье, жил в Варшаве, в Царском селе, видел издали Анастасию, непременно гуляющую с сестрами, мысленно вызывал ее на разговор, но она, грустно улыбнувшись, качала головой.
Несколько раз Арсений возвращался к записям следователя Соколова, находил в памяти описания отдельных деталей, которые убедили даже его своей достоверностью: пряжка от туфельки, он помнил ее, потому что однажды во время прогулки пряжка расстегнулась, Анастасия поставила ножку на край садовой скамейки, и Боня с волнением застегнул пряжку; бусинка в форме плода шиповника, сестры находили такие бусы безвкусицей, но Стана иногда надевала их; кусок материи по описанию совпадал с тканью ее легкой накидки.
Он настолько погрузился в свои размышления, что не слышал открывшейся двери и вздрогнул от окрика охранника:
– Чернухин, на выход!
В кабинете следователя спиной к двери сидел сутулый, худой человек. Следователь велел Арсению пройти вперед, и тот узнал Урманского, сильно похудевшего, с разбитым лицом:
– Узнаешь ты этого человека?
– Да, – как можно тверже ответил Арсений. – Мы с ним пиво пили за вокзалом.
– А вы, господин Урманский, что можете сказать о молодом человеке?
– Ничего, – спокойно ответил тот. – Или деревенский, или жулик, больно глупо выглядел и говорил.
– О чем?
– Да пустое, про баб, про скверное пиво, пришлось одернуть. Следователь подписал бумажку на столе и протянул Арсению: – Все, что видел и слышал – забудь. Комсомольская путевка твоя оказалась верным документом, она тебя спасла. Свободен, и чтобы через пять минут духу твоего тут не было!
Арсений вышел с черного хода, добрался до вокзала и утром был в Ишиме. Лида уже ушла на работу, Анастасия одна играла дома, закрыв дверь на крючок. На стук она спросила:
– Кто там?
– Стана, открой, я твой папа. – Он выговорил это с трудом, понимая, что такой фразой отрезает путь к прошлому.
– Ну-ка, подойди к окну, чтобы я увидела.
Пришлось выполнять. Приподняв занавеску, девочка вскрикнула: «Папка!» и побежала открывать дверь.
Лида пришла поздно, в летний сезон на стройке объявляли десятичасовой рабочий день. Заплакав от радости и обняв мужа, она наскоро приготовила ужин и сидела напротив его, подперев подбородок руками, с жалостливой улыбкой глядя, как он торопливо ест свежие домашние щи.
– Почему ты ни о чем не спрашиваешь? – обнял он прижавшуюся к нему жену.
– Зачем? – просто сказала она. – Надо – сам расскажешь, а нет, так и знать необязательно.
– Обо мне никто не интересовался?
– Приходили из милиции, я отвертелась, сказала, что не знаю, где тебя черти носят, да и соседи подтвердили, что пять годов не жил, и опять пропал.
– Нам уехать надо бы отсюда, Лида, и лучше бы в деревню, сейчас многие из городов в деревню едут, там жить попроще, да и народ чуть другой.
– Решай сам, Арсюша, а мы уж за тобой, как ниточка за иголочкой.
Он в несколько дней договорился о продаже домика, откопал в поле стеклянную банку под сургучом и старинную семейную шкатулку в пергаментной обертке с бумагами, фотографиями и остатками фамильных драгоценностей. Ночью при свече в бане перебрал документы, сжег наиболее опасные, среди них письма Анастасии, которые помнил до слова, до помарки, до кляксы, остальное крепко связал, уложив во внутрь флакончик фиалковых духов. Духи спрятал быстро, чтобы не тревожить душу, сверток засунул в мешок с другими пожитками, не опасаясь, что кто-то будет его проверять.
Знакомые мужики сказали ему, что в Зареченьке дома стоят недорого, Арсений съездил с ямщиком, который оказался местным, привез его в деревню со странным названием Селезнево, и даже домик помог подыскать: хозяина на повышение отправили в другой сельсовет, вот и случилась нечаянная продажа. Арсений внес аванс, получил расписку, зашел в сельсовет, показал все бумаги, председатель дал добро на переезд.
В деревне ему пришлось начинать все заново, кроме деревянного дела, другого из потребных сегодня он не знал, потому пришел к Савелию Реневу, который держал плотницкую мастерскую.
– Что можешь делать? – спросил он.
– Топор в руках держу, вот и весь навык. – Он опять следил за речью, чтобы не выдать себя каким-то заумным словом, в деревне это быстро заметят. – Но я перехвачу скоро, только покажи.
– Ладно, посмотрим.
Арсений и правда очень ловко перенимал все, чему учили более деловые мужики. Когда хозяин привез станок, который доску строгал, четверть выбирал, красивую фаску мог снять, что дощечку хоть сейчас на обналичку пришивай, Арсений изучил инструкцию и сам настроил агрегат. Ренев втихушку от мужиков дал ему мешок муки и пять пудов картошки. Арсений все принял с благодарностью, как и полагается, хотя ни в чем не нуждался, семейные драгоценности и сегодня имели спрос, еще в городе он продал еврею-аптекарю маменькину подвеску, сережки и кольцо. Этих денег при скромных деревенских тратах им надолго хватит.
Арсений зашел в сельсовет сдать бумажку от ишимских властей, что он по налогам задолженности перед государством не имеет. В большой комнате толпились какие-то люди, он никого в селе не знал, потому пережидал молча. За это время услышал много новостей: что нынешней осенью будет коллективизация, что увезли вчера органы двух мужиков, которые в восстании участвовали, что на днях будут церковь ломать, подбирают добровольцев. Сдав бумагу, он вышел на воздух: «И тут все то же, вся жизнь превратилась в политическую борьбу, человек не интересуется знаниями, книгами, семьей, все на собраниях, говорят и слушают речи, принимают резолюции, которые никогда не исполняются, кроме пунктов о наказаниях. Как жить? А жить надо, Станочку растить и учить». Он тяжело вздохнул и тут же отметил, что научился этому как-то незаметно.
В обеденный перерыв бригадир привел в столярку невысокого коренастого молодого паренька с котомкой за плечами, из которой торчало отшлифованное топорище:
– Принимайте дополнение, председатель сельсовета с ним договор заключил, будет в нашей артёлке.
Пришедший поклонился всем разом, поздравствовался:
– Меня Тимофеем зовут. Плотницкое дело знаю немножко, уж сколько лет работаю по найму.
– А живешь где? – Для местных мужиков странным было, что человек не живет на одном месте, а ходит по найму.
– И по разговору ты вроде не сибирской породы.
– Это верно, самарский я.
– И где это?
– Про Волгу слыхали? Вот из тех краев.
– Чудно! А чё ж ты дома не робишь?
Тимофей достал топор, большим пальцем правой руки потрогал его, как струну перед игрой на балалайке, легонько вонзил в бревно:
– У меня один недостаток есть, который начальству не глянется.
– Тогда понятно. Вино любишь?
– В рот не беру. Но на великие праздники в церковь ухожу на службу.
Он мог бы рассказать, как неплохо устроился при большом производстве на Урале, как уважал его сам директор Иван Фёдорович Винярских, которому он сделал мебель для квартиры и кабинета, что вот-вот должен был отдельную комнату ему выделить в бараке. Директор дал указание строительному мастеру Кузина отпускать по его заявлению в любое время, потому что при сборке мебели в квартире обо многом поговорили эти два разных человека, а когда все закончили и за стол сели, Тимофей от рюмки решительно отказался. «Вот, говоришь, вино не пьешь, а куда же ты пропадаешь на три дня чуть не каждый месяц, мастер жалуется, говорит, надоело отпускать?». И тогда Тимофей признался, что уходит он в город на церковные службы, потому как верующий и грешный человек. Его удивило, что Иван Фёдорович не засмеялся, не запретил, он только сказал: «Ладно, это твое дело, а мастера я попрошу, чтобы он разговоров вокруг этого не заводил». И все вроде уладилось, но однажды подъехал директор к столярке, подозвал Тимофея: «Плохи наши дела, Кузин, меня в райком партии вызывали, кто-то донес, что я потворствую религии и прочее. Надо тебе уходить, прямо сегодня, взять тебя могут». «А вы как же?». «Как? Буду ждать, возможно, отбоярюсь, если мастер не выдаст. Сейчас буду говорить с ним, а ты собирайся, там ребята оперативные».
– В Бога, стало быть, веруешь? Тогда ты ко времени пришел, с понедельника начинают церкву ломать, вот и пригодишься, – развеселился молодой мужичок, сворачивая в бабин платок остатки от обеда.
– Ваш храм я осмотрел снаружи, он и сорока лет не простоял, красивый, точно такой под Пензой есть, и вот гляди ты, в Сибири его копия. А кто ломать будет, объявились таковые?
Мужики засмеялись:
Трое суток его не беспокоили, три раза в день с грохотом открывалась квадратное окошко, и на откидную крышку швыряли миску с похлебкой. Арсений брезгливо съедал содержимое и ставил миску на место. Странно, но завтрашний день его совсем не беспокоил, он знал два возможных решения и был готов к обоим. В двадцать шесть лет покидать мир нелепо и грустно, судьба Лиды и маленькой Анастасии заставляли замирать сердце, но он не волен был распорядиться их будущим, и это принуждало смириться. Он заставлял себя думать только о Стане, о встрече с нею, о том странном, незнакомом и непознаваемом мире, в котором она живет, и он будет рядом с нею, в это верил. Арсений возвращался в реальность и она была чужой ему, усилием воли уходил в забытье, жил в Варшаве, в Царском селе, видел издали Анастасию, непременно гуляющую с сестрами, мысленно вызывал ее на разговор, но она, грустно улыбнувшись, качала головой.
Несколько раз Арсений возвращался к записям следователя Соколова, находил в памяти описания отдельных деталей, которые убедили даже его своей достоверностью: пряжка от туфельки, он помнил ее, потому что однажды во время прогулки пряжка расстегнулась, Анастасия поставила ножку на край садовой скамейки, и Боня с волнением застегнул пряжку; бусинка в форме плода шиповника, сестры находили такие бусы безвкусицей, но Стана иногда надевала их; кусок материи по описанию совпадал с тканью ее легкой накидки.
Он настолько погрузился в свои размышления, что не слышал открывшейся двери и вздрогнул от окрика охранника:
– Чернухин, на выход!
В кабинете следователя спиной к двери сидел сутулый, худой человек. Следователь велел Арсению пройти вперед, и тот узнал Урманского, сильно похудевшего, с разбитым лицом:
– Узнаешь ты этого человека?
– Да, – как можно тверже ответил Арсений. – Мы с ним пиво пили за вокзалом.
– А вы, господин Урманский, что можете сказать о молодом человеке?
– Ничего, – спокойно ответил тот. – Или деревенский, или жулик, больно глупо выглядел и говорил.
– О чем?
– Да пустое, про баб, про скверное пиво, пришлось одернуть. Следователь подписал бумажку на столе и протянул Арсению: – Все, что видел и слышал – забудь. Комсомольская путевка твоя оказалась верным документом, она тебя спасла. Свободен, и чтобы через пять минут духу твоего тут не было!
Арсений вышел с черного хода, добрался до вокзала и утром был в Ишиме. Лида уже ушла на работу, Анастасия одна играла дома, закрыв дверь на крючок. На стук она спросила:
– Кто там?
– Стана, открой, я твой папа. – Он выговорил это с трудом, понимая, что такой фразой отрезает путь к прошлому.
– Ну-ка, подойди к окну, чтобы я увидела.
Пришлось выполнять. Приподняв занавеску, девочка вскрикнула: «Папка!» и побежала открывать дверь.
Лида пришла поздно, в летний сезон на стройке объявляли десятичасовой рабочий день. Заплакав от радости и обняв мужа, она наскоро приготовила ужин и сидела напротив его, подперев подбородок руками, с жалостливой улыбкой глядя, как он торопливо ест свежие домашние щи.
– Почему ты ни о чем не спрашиваешь? – обнял он прижавшуюся к нему жену.
– Зачем? – просто сказала она. – Надо – сам расскажешь, а нет, так и знать необязательно.
– Обо мне никто не интересовался?
– Приходили из милиции, я отвертелась, сказала, что не знаю, где тебя черти носят, да и соседи подтвердили, что пять годов не жил, и опять пропал.
– Нам уехать надо бы отсюда, Лида, и лучше бы в деревню, сейчас многие из городов в деревню едут, там жить попроще, да и народ чуть другой.
– Решай сам, Арсюша, а мы уж за тобой, как ниточка за иголочкой.
Он в несколько дней договорился о продаже домика, откопал в поле стеклянную банку под сургучом и старинную семейную шкатулку в пергаментной обертке с бумагами, фотографиями и остатками фамильных драгоценностей. Ночью при свече в бане перебрал документы, сжег наиболее опасные, среди них письма Анастасии, которые помнил до слова, до помарки, до кляксы, остальное крепко связал, уложив во внутрь флакончик фиалковых духов. Духи спрятал быстро, чтобы не тревожить душу, сверток засунул в мешок с другими пожитками, не опасаясь, что кто-то будет его проверять.
Знакомые мужики сказали ему, что в Зареченьке дома стоят недорого, Арсений съездил с ямщиком, который оказался местным, привез его в деревню со странным названием Селезнево, и даже домик помог подыскать: хозяина на повышение отправили в другой сельсовет, вот и случилась нечаянная продажа. Арсений внес аванс, получил расписку, зашел в сельсовет, показал все бумаги, председатель дал добро на переезд.
В деревне ему пришлось начинать все заново, кроме деревянного дела, другого из потребных сегодня он не знал, потому пришел к Савелию Реневу, который держал плотницкую мастерскую.
– Что можешь делать? – спросил он.
– Топор в руках держу, вот и весь навык. – Он опять следил за речью, чтобы не выдать себя каким-то заумным словом, в деревне это быстро заметят. – Но я перехвачу скоро, только покажи.
– Ладно, посмотрим.
Арсений и правда очень ловко перенимал все, чему учили более деловые мужики. Когда хозяин привез станок, который доску строгал, четверть выбирал, красивую фаску мог снять, что дощечку хоть сейчас на обналичку пришивай, Арсений изучил инструкцию и сам настроил агрегат. Ренев втихушку от мужиков дал ему мешок муки и пять пудов картошки. Арсений все принял с благодарностью, как и полагается, хотя ни в чем не нуждался, семейные драгоценности и сегодня имели спрос, еще в городе он продал еврею-аптекарю маменькину подвеску, сережки и кольцо. Этих денег при скромных деревенских тратах им надолго хватит.
Арсений зашел в сельсовет сдать бумажку от ишимских властей, что он по налогам задолженности перед государством не имеет. В большой комнате толпились какие-то люди, он никого в селе не знал, потому пережидал молча. За это время услышал много новостей: что нынешней осенью будет коллективизация, что увезли вчера органы двух мужиков, которые в восстании участвовали, что на днях будут церковь ломать, подбирают добровольцев. Сдав бумагу, он вышел на воздух: «И тут все то же, вся жизнь превратилась в политическую борьбу, человек не интересуется знаниями, книгами, семьей, все на собраниях, говорят и слушают речи, принимают резолюции, которые никогда не исполняются, кроме пунктов о наказаниях. Как жить? А жить надо, Станочку растить и учить». Он тяжело вздохнул и тут же отметил, что научился этому как-то незаметно.
В обеденный перерыв бригадир привел в столярку невысокого коренастого молодого паренька с котомкой за плечами, из которой торчало отшлифованное топорище:
– Принимайте дополнение, председатель сельсовета с ним договор заключил, будет в нашей артёлке.
Пришедший поклонился всем разом, поздравствовался:
– Меня Тимофеем зовут. Плотницкое дело знаю немножко, уж сколько лет работаю по найму.
– А живешь где? – Для местных мужиков странным было, что человек не живет на одном месте, а ходит по найму.
– И по разговору ты вроде не сибирской породы.
– Это верно, самарский я.
– И где это?
– Про Волгу слыхали? Вот из тех краев.
– Чудно! А чё ж ты дома не робишь?
Тимофей достал топор, большим пальцем правой руки потрогал его, как струну перед игрой на балалайке, легонько вонзил в бревно:
– У меня один недостаток есть, который начальству не глянется.
– Тогда понятно. Вино любишь?
– В рот не беру. Но на великие праздники в церковь ухожу на службу.
Он мог бы рассказать, как неплохо устроился при большом производстве на Урале, как уважал его сам директор Иван Фёдорович Винярских, которому он сделал мебель для квартиры и кабинета, что вот-вот должен был отдельную комнату ему выделить в бараке. Директор дал указание строительному мастеру Кузина отпускать по его заявлению в любое время, потому что при сборке мебели в квартире обо многом поговорили эти два разных человека, а когда все закончили и за стол сели, Тимофей от рюмки решительно отказался. «Вот, говоришь, вино не пьешь, а куда же ты пропадаешь на три дня чуть не каждый месяц, мастер жалуется, говорит, надоело отпускать?». И тогда Тимофей признался, что уходит он в город на церковные службы, потому как верующий и грешный человек. Его удивило, что Иван Фёдорович не засмеялся, не запретил, он только сказал: «Ладно, это твое дело, а мастера я попрошу, чтобы он разговоров вокруг этого не заводил». И все вроде уладилось, но однажды подъехал директор к столярке, подозвал Тимофея: «Плохи наши дела, Кузин, меня в райком партии вызывали, кто-то донес, что я потворствую религии и прочее. Надо тебе уходить, прямо сегодня, взять тебя могут». «А вы как же?». «Как? Буду ждать, возможно, отбоярюсь, если мастер не выдаст. Сейчас буду говорить с ним, а ты собирайся, там ребята оперативные».
– В Бога, стало быть, веруешь? Тогда ты ко времени пришел, с понедельника начинают церкву ломать, вот и пригодишься, – развеселился молодой мужичок, сворачивая в бабин платок остатки от обеда.
– Ваш храм я осмотрел снаружи, он и сорока лет не простоял, красивый, точно такой под Пензой есть, и вот гляди ты, в Сибири его копия. А кто ломать будет, объявились таковые?
Мужики засмеялись: