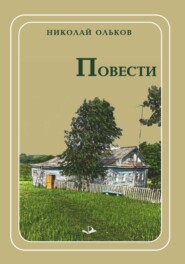По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Земля и воля. Собрание сочинений. Том 15
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Девушки принесли литровый самовар, он еще отпыхивал, как усталый работник, несколько фарфоровых чайничков, по бокам красиво написано: «Индийский», «Китайский», «С душицей», «Смородинный», «Сбор трав». Емельян ухватил кусок сахара и большими стальными щипцами стал неистово кусать его на небольшие дольки. Девушки удалились. Емельян, сдавливая щипцы, аж покраснел от натуги, но промолвил:
– Знаю тебя давно, Мирон, и чую, что акромя ржи у тебя заделье есть. Не ошибся?
Мирон кивнул:
– Верно заметил.
И рассказал всю историю своего братца.
– Ты бы не мог столь высокого друга попросить о помощи? – Мирону стыдно было говорить это другу, но уж больно все удачно совпало.
Емельян, сметая крошки сахара в блюдечко, глянул прямо через стол:
– Да сам и скажешь. Он мужик толковый, если возможно – так пообещает, а вдруг не по силам ему – тогда без обиды.
Мирон угрюмо кивнул:
– Да какие могут быть обиды? Чтобы только в случае отказа он к тебе не переменился бы.
Емельян засмеялся:
– О сем не заботься, у нас давняя дружба.
Чай пили с удовольствием, с покряхтыванием, с причмокиванием, вытираясь широкими вышитыми рукатёртами. Наконец, оба шумно отпыхнули, гость первым поставил тонкую китайскую фарфоровую чашку на блюдце вверх донышком, потом и хозяин сделал то же, и позвал девушек. Вся посуда со стола вмиг исчезла.
– Что твое хозяйство? Растет?
Гость не сразу ответил, потому что приятно ему было порадовать друга добрыми новостями.
– Сеялки прикупил конные и молотилку с конным приводом, пара лошадей по кругу ходит, а в нее снопы развязанные бросают. Зерно в сторону стекает, а солома на проход, знай, отбрасывай. Трудно, но это – не цепами махать, как в старые годы.
Емельян Лазаревич раскурил сигару и напустил облако ароматного дыма, что-то вспомнил, засмеялся:
– Когда в двадцать первом эта буча заварилась, я уж совсем хотел все бросать и бежать в Москву или дальше. Теперь думаю порой: зря не уехал! Что-то неспокойно мне в последнее время. А ты? Как ты не ввязался в бунт, и не тронули тебя ни те, не другие? А ведь власть могла из-за брата?
Мирон улыбнулся:
– Я крепко помогал бандитам хлебом и мясом, только об этом никто не знал: ну, привезли, сгрузили, своим возчикам наказал язык как можно глубже засунуть, потому, если узнаю, своими руками отрежу. Обошлось.
Колмаков ходил по мягким коврам в легких валянных из овечьей шерсти пимах, дымил сигарой.
– А как тебе, Мирон Демьянович, новая политика? Повернулась власть к крестьянину?
Мирон тоже встал, прошелся по эту сторону стола.
– Ты знаешь, что политикой я не интересуюсь, по мне – дайте волю крестьянину, не диктуйте ему, не указывайте, все равно лучше меня никто не знает, что надо на Долгих увалах делать, чтобы они хлеб родили. У меня триста десятин посевов, да сто я оставляю под пар либо загоняю туда все, что можно плугом конным обработать между рядами, тут и капуста, и свекла, и картошка. Все равно земля отдыхает. Прошлым годом намолотил больше тридцати тысяч пудов, изрядно продал, семена отложил добрые, чуть не по зернышку отбирал. Налог сполна заплатил, о чем имею благодарность от уезда. Людей своих оделил, и хлебом, и сеном для скотины, и рублем. Мои работники довольные, они против хозяина никогда не пойдут.
Хозяин покашлял, придавил сигару в том же ковчеге, поднял указательный палец:
– Вот, друг мой сердечный, ты эти слова и вставь в разговоре с гостем. Да он сам тебя спросит. А потом и личную просьбу можно сказать, я поддакну.
Через несколько минут прогудел сигнал автомобиля, Емельян Лазаревич метнулся к дверям и через пару минут вошел вместе с высоким красивым мужчиной, Мирон видел их в проем двери, хозяин помог гостю раздеться, тот причесал свои и без того прилично уложенные волосы, и они вместе вошли в залу. Гость показался и вовсе молодым, только лицо строгое и голос сухой. Мирон стоял у своего стула, Емельян начал церемонию:
– Всеволод Станиславович, сегодня у меня двойной праздник, приехал из дальнего села мой давний друг, из лучших в уезде крестьян Мирон Демьянович Курбатов. Знакомьтесь, товарищи, я очень рад таким гостям.
Щербаков протянул Мирону руку, тот неловко пожал, смутившись. Хозяин крикнул обслуге, чтобы готовили стол. Мужчины перешли в кабинет. «Вот хлюст, прикидывается неграмотным, а у самого три шкафа книг», – успел подумать Мирон, но Щербаков отвлек его вопросом:
– Из какого села вы прибыли, Мирон Демьянович?
Курбатов встал:
– Из Бархатова, это самый край уезда, да и губернии. Без малого восемьдесят верст.
Щербаков посмотрел на Мирона и как бы в упрек себе проговорил:
– Да вы сидите! Жаль, не бывал в ваших краях. Как живут люди? Что говорят о нас?
Увидев смятение в глазах Мирона, уточнил:
– Я имею в виду советскую власть. В ваших краях ведь тоже было выступление против власти в двадцать первом?
Мирон едва собрался с духом, сам себя ругал, отчего столько смущения перед начальством? Но ответил твердо:
– Доложу я вам, товарищ Щербаков, что крестьяне в корне переменились. Ожили. Стали землю припахивать, лошадей разводить, пока тракторов нету. Налог в основном сдаем сполна, даже наш сельсовет постановил: по десять пудов хлеба сдать в страховой фонд, если кто-то из мужиков не сумеет вовремя рассчитаться с государством – вот он, хлебушко, отдадим, а нерадивый позже восстановит. Так что и на всякий случай резерв держим.
Щербаков размял тонкую папироску и с нажимом спросил:
– А лично вы сколько хлеба намолотили и сколько сдали по налогу?
Мирон опять замялся: намолот огромный, но ведь каждый старается занизить, чтоб дополнительным не обложили, это он другу Емельяну всю подноготную рассказал.
– Налог доводят нам на посевную площадь, вот я за триста десятин и вывез в пользу государства, да еще сто пудов сверх того.
В дверях показалась Зина и кивнула хозяину. Тот захлопал в ладоши:
– Господа-товарищи, прошу к столу!
Мирон удивился: «Ох, вьюн, денежный мешок этот Емеля! Как крутится около важного гостя, как бы случайно, касаясь его руки, плеча. Почти поет!».
– Всеволод Станиславович, дорогой, откушайте кусочек нежной козочки, третьего дня мужики привезли. А тут лосятина в соусе, во рту тает, а сии котлеты – медвежатина, вкус – во всей губернии не сыскать. А ты, друг мой Мирон, отчего притих? По рюмке русской водки под мясо, а потом разберемся.
Некоторое время все молчали, осторожно звенели столовые приборы, Мирон очень хотел попробовать рыбу, но ждал, когда кто-то начнет первым и покажет, какой вилкой надо пользоваться. Но после третьей рюмки все размякли, расслабились, заговорили. Хозяин повернулся к Щербакову:
– Каково вам работается, Всеволод Станиславович? Что нового ожидается в уезде? Слух есть, что вас, якобы, переводят в губернию?
Щербаков от души засмеялся:
– На ваши вопросы, Емельян Лазаревич, и до полуночи не ответить. Одно скажу сразу: из уезда никуда не уезжаю, хотя предложения есть. Скажу по дружбе, надеюсь, и Мирон Демьянович не станет возражать, если мы тут, за столом, по-русски, объявляемся товарищами: предложения меня не устраивают. Мне интересно содержание работы, ее влияние на жизнь людей, а предлагают сесть за бумаги начальником над тремя десятками полуграмотных женщин. Отказываюсь, но не настаивают. Хочу спросить Мирона Демьяновича: если государство через банк даст кредит на трактор, на другую технику – крестьяне поверят?