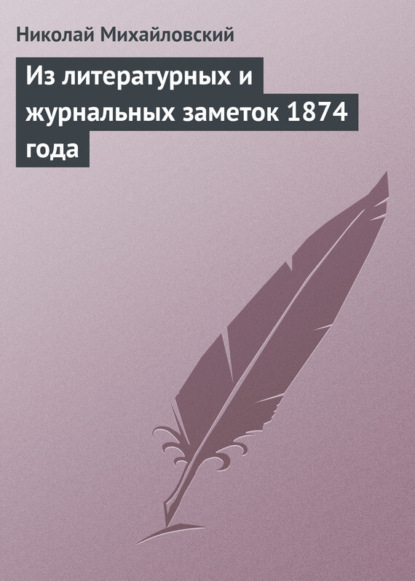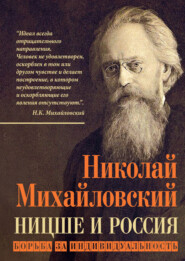По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Из литературных и журнальных заметок 1874 года
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не выдержал мальчик и бежал, но был, разумеется, пойман и столько разного рода побоев претерпел, что вылежал в лазарете два месяца. Но только что поправился, опять бежал и на этот раз странствовал довольно долго. Шатался он между мужиками и мастеровыми. «Много, – говорит он, – увидел и я здесь хорошего. Мне так понравилась простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них». Но и другие виды видал он. Ему пришлось столкнуться с нищими, которые таскали его с собой насильно, поили водкой, заставляли плясать. Наконец, он опять пошел домой и вновь вытерпел град истязаний. С этих пор в нем произошла значительная перемена. Устал ли он просто злиться или виденное и слышанное им во все время второго побега отвлекло его внимание, но злость его прошла и заменилась чувством раскаяния, чувством вины перед своими воспитателями. В это-то время он и своего отца в первый раз увидал. Холодна была встреча. Решетников ждал ее с радостью, с верою в возможность выложить перед отцом все свое горе. Но вышло не так. Раз вечером дядя привез с собой обрюзглого, болезненно кашлявшего почтальона. Почтальон этот жаловался, что его обижают, бьют, каждый день бьют, бьют варварски. Это был отец Решетникова. Сыну он только сказал: «Большой вырос. Что же ты не целуешь отца?» На другой день он упрашивал жену своего брата: «Дери ты его… что есть мочи дери». Когда ему предложили взять сына с собой, он отвечал: «Куда мне с ним?.. Не надо… мне и одному горько жить». Уезжая, он сказал сыну только: «Ну, прощай, слушайся»… «Мне было тяжело, – говорит Решетников, – что отец уехал, а я не высказал ему своего горя»… Пошло все опять своим чередом: бурса, порка, колотушки. Решетников переносил уже все это без прежней злобы. И такому его смирению много способствовало следующее печальное происшествие. Между прочими услугами своим учителям он таскал для них тайком с почты газеты, а по прочтении последних господами учителями бросал через соседний забор в снег. Случалось ему со страху уничтожить таким образом и разные другие пакеты, в числе которых оказался один важный манифест. Вдруг открылась пропажа газет и журналов из почтовой конторы. Виновника разыскали, и тринадцатилетний Решетников оказался уголовным преступником. Дело тянулось два года; мальчик-преступник много пережил за это время. Он весь проникся мыслью своей глубокой виновности перед благодетелями и воспитателями. Толчки и ругательства уже не встречали с его стороны отпора; он отвечал на них слезами раскаяния, «благодарности», он даже удивлялся, что дядя и тетка не боятся держать его у себя. Дело Решетникова окончилось ссылкою в Соликамск на эпитемию в тамошний монастырь. Здесь Решетников сблизился с монахами, кутил с ними (в большом употреблении было пиво, настоянное на листовом табаке) и вместе с тем предавался «богомыслиям и умозрениям». На развитие Решетникова трехмесячное пребывание в монастыре имело крайне дурное влияние. Тяжело выписывать те места его дневника, где он, по возвращении уже в Пермь, судит и рядит об окружающем его мире: столько здесь пошлости, напускного, унижения паче гордости, воззрений с высоты монастырской морали. Но Решетникову было всего шестнадцать лет, значит, дело было поправимое. В 1859 году воспитатели его переехали в Екатеринбург; он остался в Перми один и мог дышать несколько более свежим воздухом. Он между прочим ездил рыбачить на Каму, где проводил иногда целые ночи в кругу простого народа. «Часто в это время, – говорит он, – случалось, что я, сидя в лодке, глядел куда-нибудь в даль; глаза останавливались, в голове чувствовалась тяжесть и вертелись слова: как же это? отчего это? И в ответ ни одного слова. Очнешься и плюнешь в воду. Начнешь удить и думаешь: ах, если бы я был богат, я бы накупил книг много, много… Я бы все выучил»… Со всеми этими мечтами ему пришлось расстаться, как только он окончил курс в уездном училище. Он немедленно должен был погрузиться в новую мертвящую среду, в среду уездного чиновничества.
Но я не буду следить за дальнейшими мытарствами Федора Михайловича. Для моей цели достаточно и приведенного. Притом же я не хочу отнимать интерес у биографии Решетникова, которая непременно должна быть прочитана целиком всяким, мало-мальски интересующимся русской литературой. Те же, кто бранил Решетникова за горечь его произведений, должны обратить особое внимание на следующие его собственные слова, заимствованные из его дневника: «Если я пишу плохо, мысль моя не обработана, везде сухо и горько, то пусть всякий (желающий судить об этих описаниях) поймет меня и мою жизнь». Впрочем, ниже я еще буду ссылаться на бумаги Решетникова и здесь приведу выдержки из писем к нему дяди, представляющие напутствие на литературное поприще: «Я не ладил и даже не желал сделать из тебя поэта или какого-либо дурака, а всегда старался сделать из тебя умного образованного человека». «А. С. сказал мне, что ты составил сочинение о грязном или черном озере, где ты описал много поступков губернских начальников, за что тебя этакого поэта даже вызывали через припечатание в газетах. <…> Из этого видно, к чему ведет наша поэзия, как не к погибели человеческой. Напрасно строишь ты воздушные замки, которых нам состареться, а не видать; а этими неприятностями сокращаешь дни моей жизни. Неужели я с тою целью учил тебя, воспитал и определил на службу. Чтобы из потомков моих кто-либо сделался клеветником на начальников? Поэтому еще нахожу средство последнее: скопировать тебя и не желать себе более поэтов из племянников». «Пожалуйста, поэзию свою оставь, она не совсем у места; и если надо за нее заняться, то совершенно основательно и с разбором каждое слово надобно одумавши вставить, так, чтобы остатков от него не было»…
Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной…
Это мне Щербина вспомнился, который умел «совершенно основательно и с разбором каждое слово одумавши вставить, так, чтобы от него остатков не было»…
Ясно, что история развития разночинца есть печальнейшая из историй; существует очень большая вероятность, что ему не развить в себе высоких чувств, глубоких знаний, смелых помыслов. Ему ли, забитому, каждую минуту чувствующему над собою чей-нибудь гнет, ему ли, на жизненном пути которого стоит то монастырская жизнь с пивом, настоянным на табаке, то банда нищих, то всезатирающая канцелярская работа, ему ли, наконец, который так близок к уголовному преступлению… Нет, г. Авдеев еще слишком мягок. Во всяком случае, с высоты вороньего полета ни малейшему сомнению подлежать не может, что вторжение разночинца должно понизить уровень литературы, ибо он, разночинец, действительно нуждается в элементарных понятиях, досконально усвоенных образованнейшим меньшинством, не только стоящим на земле, но и владеющим большею ее частью. Да здравствует высота вороньего полета!.. Пусть здравствует, но пора наконец спуститься с нее на землю. Здесь, на этой низменной земле, которую ипохондрики зовут комом грязи и которая иногда так странно разрывает своею неуклюжею реальностью сеть наших логических рассуждений, мы увидим нечто иное. Мы увидим, что в действительности сочетание богатства, смелых помыслов, высоких чувств и обширных знаний составляет явление довольно редкое вообще, а на Руси православной и подавно. Несколько блестящих исключений не должны затемнить общую истину. Отчего это зависит, это особая статья, но, во всяком случае, таков факт, против которого, конечно, и г. Авдеев спорить не будет. Он скажет, что никогда и не думал игнорировать этот факт, что он имел в виду только тех представителей двадцатых и сороковых годов, которые обладали означенным сочетанием материальной обеспеченности, знаний и высоких убеждений, только образованнейшее меньшинство, руководившее литературу (разумея здесь не только писателей, а и читателей, не только предложение, а и спрос). Я знаю, что такова мысль г. Авдеева, но мне нужно было напомнить тот общеизвестный факт, что в самой «зажиточности», в самом «владении большею частью земли» есть какие-то элементы, как будто неблагоприятствующие умственному и нравственному развитию. Сделав это общее и пока весьма неопределенное замечание, посмотрим, в какой мере действительно люди сороковых и двадцатых годов имели преимущество перед людьми шестидесятых годов. Возьмем сначала знание. Г. Авдеев категорически заявляет, что прежние деятели не нуждались в тех элементарных сведениях, которых потребовали нахлынувшие в шестидесятых годах разночинцы. Это мнение довольно распространенное и имеет за себя много соображений с высоты вороньего полета. Но как его доказать? где найти мерило знания? Если мы возьмем мерило официальное, то найдем, что, например, двое самых видных в литературе шестидесятых годов разночинцев кончили полный курс наук; один, Добролюбов, в педагогическом институте, другой[5 - Н. Г. Чернышевский.]в университете. Между тем как истинный вождь сороковых годов – Белинский был, во-первых, разночинец, во-вторых, «недоучившийся студент», которого, например, г. Погодин еще до сих пор (см. «Простая речь о мудреных вещах») громит за невежество. Я отнюдь не думаю напирать на это обстоятельство и основывать на нем какие бы то ни было заключения. Я хочу только убедить г. Авдеева, что есть слова и предложения, которые очень легко сказать и обставить весьма приличными силлогизмами, но которые очень трудно доказать фактически. Если мы ухватимся за мерило не официальное и станем сравнивать число журнальных статей и книг научного содержания в сороковых и шестидесятых годах, то г. Авдеев объяснит, пожалуй, существующий в этом отношении прогресс именно тем, что понадобились знания, которые прежде представляли нечто совершенно уже всеми усвоенное. А я объясню тем, что уровень знаний поднялся. И я думаю, что на моей стороне будет больше правды, потому что г. Авдеев во всем своем рассуждении не приметил одного маленького слова, – Европы. Вот если бы г. Авдеев доказал, что с 1840 по 1860 год и в Европе не прибавилось знаний или если бы по крайней мере ему удалось установить независимость нашего умственного развития от европейского за это время, тогда другое дело. Но ведь ни того, ни другого, то есть ни застоя в умственном развитии Европы, ни нашей независимости, не было. Есть, правда, вещи, как, например, гегелевская философия, которые были очень хорошо знакомы людям сороковых годов и, можно сказать, вовсе не известны людям шестидесятых годов. Но подобные явления объясняются общим ходом умственного прогресса. За эти двадцать лет в Европе опытные науки повели к обобщениям, подмывшим основы гегелевской философии, – то же случалось и в нас. За эти двадцать лет в Европе резко обозначились две противоположные экономические доктрины, поднялся уровень естествознания, явились попытки приложения его к истории, явилась теория Дарвина, теория единства сил и проч. Все это принималось и посильно разрабатывалось и у нас. Ведь не пророки же были люди сороковых годов и не могли же они иметь сведения, может быть, и ставшие впоследствии элементарными, но в их время еще никому не доступные. Научные истины, которые распространяли и популяризировали люди шестидесятых годов, никоим образом не могли быть элементарными для образованнейшего меньшинства сороковых годов. Напротив, для усвоения этих истин люди сороковых годов должны были пережить немало внутренней ломки, и далеко не все они вышли из этой борьбы победителями. Понятное дело, что того, что г. Авдеев называет полузнанием, было в шестидесятых годах немало, но немало его было и в сороковых годах. Притом же полузнание вещь крайне неопределенная. Повторяю, Михаил Петрович Погодин до сих пор преследует тень Белинского упреками в полузнании. А Белинский за собой много людей водил, и не худших. Или, может быть, другой гениальный человек, на котором воспитывались лучшие люди сороковых годов, – Гоголь был очень просвещенный человек? Очевидно, снисходительное полупрезрение г. Авдеева в этом отношении совершенно неуместно. Само собою разумеется, что людям шестидесятых годов нельзя поставить в заслугу, что они знали или стремились знать то, что должны были знать; ни людям сороковых годов в вину поставить нельзя, что они не знали того, чего и не могли знать. Я и заговорил об этой материи только потому, что г. Авдеев на нее напирает. Я со своей стороны думаю, что это пункт совершенно безразличный в вопросе о борьбе отцов и детей. И те учились и учили чему могли в свое время, и эти тоже. Разночинец, то есть известное социальное положение, в этом случае не играет никакой роли, ибо зажиточность не исключает невежества и с успехом заменяется рвением, искренним желанием научиться. Притом же и самая наука в шестидесятых годах, не переставая быть наукой, стала дешевле, экономически общедоступнее; облегчился доступ в университеты, иностранные книги стали переводиться в огромном количестве и проч. Совсем, значит, дело не в этом. Г. Авдеев решительно не воспользовался многочисленными выгодами своей собственной точки зрения, своего собственного основного положения: разночинец пришел. В какой мере легкомысленно относится он к делу, видно из вышеприведенной его параллели между двадцатыми и шестидесятыми годами. Тогда, говорит, молодые люди побывали во время войны за границей и увлеклись тамошними порядками, и теперь, говорит, молодые люди познакомились с некоторыми недоступными им дотоле заграничными сочинениями и увлеклись ими; только, говорит, первые были просвещеннее, зажиточнее и не нуждались и т. д. Удивительно, как просто иногда открываются ларчики! Нет, милостивый государь, разночинец принес с собой нечто положительное, нечто кроме своей бедности и усилий приобрести знания. Кстати, о людях двадцатых годов. В январской книжке «Русского вестника»[6 - «Русский вестник» – ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Москве в 1856–1906 гг.] напечатан отрывок «Из биографии графа М. Н. Муравьева» г. Кропотова. Если не ошибаюсь, полная биография выйдет в скором времени. В напечатанном отрывке, между прочим, читаем: «Один из моих знакомых, имевший возможность познакомиться во время странствований своих по Сибири в конце тридцатых и в начале сороковых годов со многими декабристами, заметив, что значительная часть их не знают первых оснований политических наук, спросил однажды Никиту Муравьева: каким образом, не быв вовсе подготовлены образованием для политической деятельности, вы решились принять на себя громадный труд всестороннего преобразования нашего государства? „Ваше замечание верно, – отвечал Муравьев, – мы затеяли дело полными невеждами и только здесь принялись за книги, читаем их, учим друг друга и стараемся образовать себя, чтобы поддержать в публике то доброе мнение, которое она составила о нас“». «Время умудряет», – замечает г. Кропотов. Свидетельство неизвестного знакомого г. Кропотова имеет тем менее ценности, что и весь напечатанный до сих пор отрывок из биографии графа Муравьева заключает в себе вещи весьма странные. Может быть, все, что рассказывает г. Кропотов, и верно, но многое из того, что он говорит о военных поселениях, о бунте Семеновского полка, о декабристах, стоит в литературе совершенно одиноко. Притом же свидетельство неизвестного знакомого г. Кропотова страдает противоречием: он уже в конце тридцатых и в начале сороковых годов поражался невежеством декабристов, значит, они лет пятнадцать совершенно задаром читали книги и старались образовать себя. Пятнадцатилетний упорный труд не повел ни к чему: каковы, значит, не только невежды, а и Богом обиженные тупицы? Так-то легко хватить через край в суждениях о чьем-нибудь невежестве, г. Авдеев! Примите это к сведению.
Хвачено действительно через край, так что поневоле сомнение берет. Я склонен думать, что прав не г. Кропотов, а г. Авдеев, что декабристы были не невежественные тупицы, а люди просвещенные. Но какая все-таки наивность воображать, что разница между людьми двадцатых и шестидесятых годов состоит только в степени просвещения и что разночинец только и сделал, что увлекся некоторыми заграничными сочинениями, дотоле ему неизвестными! Довольно тоже наивно говорить, что декабристы были жизненным опытом богаче разночинцев…
В движении двадцатых годов принимали участие различного общественного положения люди, но ядро их составляла военная молодежь аристократического происхождения. Я не могу говорить об этих людях так, как хотел бы, а говорить так, как могу, – не хочу. Поэтому оставим их совсем в стороне, да они нам в настоящем случае и не нужны. Так называемые люди сороковых годов представляют группу гораздо менее определенную, что касается их общественного положения: тут и профессор был, и помещик, и литературный работник, и проч. Но ядро их все-таки различить можно. Это был средней руки дворянин, человек достаточно обеспеченный, чтобы получить более или менее правильное, в школьном смысле, воспитание, то есть кончить курс в гимназии и в университете, русском или немецком, а затем еще, может быть, проживать вне государственной службы; человек в некоторых отношениях весьма тонко и, так сказать, чутко развитой, способный и к ухищреннейшему самогрызению и анализу лишних людей, и к бужению других пламенных красноречием Рудина, и к наслаждению прекрасным и истинным. Но за всем тем миросозерцание его страдает крайнею неопределенностью благодаря, конечно, неопределенности его общественного положения: он «ни в тих, ни в сих». У некоторых эта неопределенность доходила до того, что миросозерцание их может быть сравниваемо с весьма каллиграфически изображенным нулем необыкновенно большого диаметра. Их божеством была, как растягивает тургеневский Потугин, ци-ви-ли-за-ция, причем вырезывались с особенною яркостью два элемента цивилизации: философия и искусство. Не имея, собственно говоря, никаких преданий, стыдясь и презирая прошлое, не имея ничего общего с тогдашним настоящим, не имея причин веровать особенно сильно в будущее своего отечества, они естественно должны были искать наслаждения по возможности в отрешенных от жизни сферах отвлеченной истины и отвлеченной красоты. К окружающей их действительности они должны были, конечно, относиться отрицательно, но в большей части случаев, постояв перед ней в позе красивого уныния, они стремились уйти от ее скверн в тихое пристанище гегелевской диалектики и прекрасных образов. Здесь они были вполне у себя дома, искренно молились своей мысли и своим образам, искренно дорожили соответственными благами цивилизации. Однако с течением времени в этом акафисте красоте и безусловной истине, на который уходили часто очень большие силы, стали все слышнее и слышнее пробиваться чисто земные ноты. Гений Белинского сжег многое из того, чему он поклонялся, и поклонился многому, что сжигал. Небольшая группа стоявших около него людей яснее определила свое миросозерцание и свои требования от жизни, и чисто земные, просто жизненные задачи – освобождение крестьян и освежение политической атмосферы – заклокотали под красивой корой искусства и философии.
Разночинец пришел со своей стороны к тем же общим задачам, но совсем иным путем. Я опять обращаюсь к биографии Решетникова. Я рассказал уже, как он после обрушившегося на него уголовного дела внезапно проникся сознанием своей виновности перед воспитателями и вообще совершенно переменился. Его уважаемый биограф говорит по этому поводу: «Это была самая дорогая минута в развитии Ф. М. Мысль его была возбуждена до высшей степени. В самом деле, чтобы от ненависти к врагам дойти не только до прощения их, но даже до боязни, как они могут его держать, оправдать их и благодарить со слезами, – мысль маленького Решетникова должна была коснуться массы общественных вопросов, должна была работать над всем механизмом окружавшей его жизни, вникать в самые мельчайшие подробности этого механизма… Минута, повторяем, была драгоценная для самого плодотворного принятия знания». Может быть, в этих теплых словах несколько преувеличено значение именно этой минуты в жизни Решетникова. Но верно то, что ему действительно приходилось очень рано усваивать и развивать в себе такие «элементарные понятия», какие даже лучшим из людей сороковых годов давались, по необходимости, только с большим трудом. Выше было говорено, что совершенно неосновательно говорить о сравнительной непросвещенности людей шестидесятых годов, что это точка зрения по малой мере бесплодная. Но вот Решетников, избранный мною в качестве типической фигуры, всегда был и остался человеком необразованным, скажет, может быть, читатель. Да, Решетникову, несмотря на все его усилия, не удалось пробиться к научному собственно свету. Но не в этом и дело. Были между разночинцами люди, добившиеся знания в не меньшей степени, чем какою обладали для своего времени люди сороковых годов. Пристало к движению немало молодежи из того круга, из которого в свое время выходили Рудины, Лаврецкие, лишние люди, Обломовы. Были и люди более или менее темные, как Решетников. Но их уж ни в каком случае нельзя уличать в заносчивости полупросвещения, о которой говорит г. Авдеев. Из бумаг Решетникова видно, до какой степени жаждал он указаний, с каким недоверием относился он к своим произведениям, в которых стоял только за одно, – за «правду». Знание этой правды Решетников и принес с собой, и ни на какое другое претензий не имел. Другим разночинцам, как Базарову, дед которого землю пахал, удалось прибавить к этому житейскому знанию знание научное. Но, повторяю, в занимающем нас вопросе не в этом дело. Нам нужно знать, что принес с собой разночинец как разночинец. Поэтому-то биография Решетникова и дорога для меня. И вижу я из нее, что Решетников принес с собой, во-первых, глубокое знание народной жизни, приобретенное им в непосредственных столкновениях с бурлаками, с заводскими рабочими (из последних один, как видно из биографии, имел сильное влияние на развитие в Решетникове потребности «делать пользу» бедному человеку), с мужиками; принес он, во-вторых, особенный взгляд на вещи, тоже выкованный его непосредственною обстановкой. Этот-то особенный взгляд для нас преимущественно интересен. Он не составляет чего-нибудь совершенно исключительного, невозможного для человека, не прошедшего тяжелой школы разночинца. Но такому постороннему человеку он дается лишь с большим трудом, если ему не помогают исключительные обстоятельства благоприятного личного развития. Возьмем какое-нибудь «элементарное понятие», общее и людям шестидесятых годов и некоторым из людей сороковых годов. Белинский, например, несмотря на свои громадные силы, только после долгих скитаний по пустыням чистой эстетики пришел к следующему действительно элементарному понятию: «Отнимать у искусства право служить общественным интересам значит не возвышать, а унижать его, потому что это значит лишать его самой живой силы, то есть мысли, делать его предметом какого-то сибаритского наслаждения, игрушкою праздных ленивцев». Посмотрите же теперь, как просто, как естественно, как, можно сказать, фатально дошел до этого элементарного понятия, далеко не всеми людьми сороковых и иных годов усвоенного, Решетников. Мальчиком еще он писал для крестьян письма (конечно, за гроши, которые шли на умиротворение учителей), причем узнал много крестьянского горя и крестьянских радостей. Потом и в других формах ему приходилось приложить труд, часто физический, с очевидною пользою для других людей. В 1860 году его определяют помощником столоначальника в уездном суде. Он немедленно ориентируется вот в каком роде. «Мне страшно казалось, – пишет он, – решать участь человека, и я стал читать бумаги и дела, заглядывал в разные места, читал разные копии, реестры и все то, что ни попадалось на глаза. Когда я бывал дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое». По мере его дальнейшего знакомства с положением разного бедного люда, в нем сильнее говорит сознание обязанности «делать пользу». Просыпается поэтическая способность, жажда творчества. Он мучительно трепещет за свои силы, анализирует сам себя, просит всех и каждого высказать свое искреннее мнение о его произведениях и его литературных способностях. Он даже подсказывает разным компетентным, по его мнению, лицам неблагоприятные отзывы, которые, однако, его глубоко огорчают.
Но это далеко не голое авторское самолюбие, он ни на минуту не забывает своей обязанности быть полезным. Вот глубоко трогательные слова из его дневника: «Сегодня, 5-го сентября 1861 г., я поздравил себя с двадцать первым годом моей жизни. А что я сделал в эти 20 лет? Ничего, кроме нескольких черновых сочинений… Кроме горя, ничего не было. Дай Бог созреть моим мыслям и исполниться желаниям людей, читавших мои сочинения, и быть из них (сочинений) дельному не для себя только, но и для пользы нашего русского народа. Дай Бог мне терпение сносить ярем моей бедной жизни и жить в труде, без гордости, самообольщения, не увлекаясь мелькающими в воображении мечтами»… Это двадцатилетний юноша пишет! Отправляя своих «Подлиповцев» в «Современник», Решетников писал в редакцию, что описанные им люди действительно существуют, что он коротко знает их быт и «задумал написать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам. Я не думаю, чтобы цензура нашла что-нибудь в этом очерке невозможное для пропуска; по-моему, написать все это иначе значит говорить против совести, написать ложь. Наша литература должна говорить правду. Вы не поверите, я даже плакал, когда передо мной очерчивался образ Пилы во время его мучений». В числе бумаг Решетникова найдено прошение к обер-полицмейстеру. В нем рассказывается, как Федор Михайлович однажды был прибит. При этом он пишет: «Я ничего не ищу. Я только об одном осмеливаюсь утруждать вас, чтобы пристава, квартальные, их подчаски и городовые не били народ… Этому „народу“ и так придется много получать всякой всячины»…
Вечером ясным она у потока стояла,
Моя прозрачные ножки во влаге жемчужной…
Опять Щербина вспомнился. И совсем некстати…
Вот, значит, как просто далось Решетникову одно из «элементарных понятий», с которым с таким трудом справлялись лишь немногие из людей сороковых годов. Да и не далось оно ему, а чуть что не с ним родилось. Добейся этот человек научного знания, он направил бы его на те же цели, имей он власть, владей он только физической силой, только грамотностью, он все это пустил бы в ход на благо народа, как пустил он свою поэтическую способность, свои творческие силы.
Теперь представим себе, что человека этого посадили беседовать со Щербиной или хоть с г. Ларошем. Какой у них разговор может выйти? Г. Ларош начнет снисходительно терпеть социальные мотивы в искусстве, Щербина зальется соловьем насчет того, что нужно «зло без образов таить». Решетников этого органически понять не может, это для него тарабарская грамота; а он еще вдобавок человек грубый, вежливости ему научиться негде было, вот и жесточайшая перепалка готова. Что касается людей сороковых годов, то из них лишь немногие поднялись вместе с Белинским на последнюю ступень его развития. Да и из этих немногих многие потом обратились вспять. В своем известном письме к Гоголю по поводу «Переписки с друзьями» Белинский очень определенно выразил свою политическую программу. Он писал: «Самые живые современные национальные вопросы России теперь: уничтожение крепостного права и отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения тех законов, которые уже есть». Когда эти требования были отчасти удовлетворены, люди сороковых годов стали в недоумении: чего ж еще теперь надо? Опять-таки разве дальнейших общих категорий цивилизации: распространения просвещения, развития свободы, увеличения благосостояния. Но программа, в такой мере общая, есть программа не действия, а бездействия. Значит, все обстоит благополучно и надо только, чтобы было благополучие. Значит, можно опять таить зло без образов, пункт, впрочем, никогда на деле не осуществлявшийся, потому что исповедовавшие его что другое, а зло нигилизма без образов не таили.
Разночинец не мог довольствоваться общими категориями цивилизации, из которых выходили люди сороковых годов. Он ценил их лишь по отношению к народу, и благо последнего было для него таким же критерием, каким для людей сороковых годов были отвлеченные категории цивилизации. Это различие исходных точек разночинцев и людей сороковых годов не всегда отзывалось распрей в конечном пункте их работы. В сороковых годах, например, довольно много работал на почве экономических вопросов Милютин[7 - Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855) – публицист, экономист, один из первых сторонников социалистических воззрений в России. Был членом кружка петрашевцев.], писатель замечательный, умный, талантливый и вовсе у нас не оцененный. Если вы сравните его исследования с трудами некоторых наших позднейших экономистов из разночинцев, вы увидите, что, несмотря на очевидную разницу их исходных точек и даже логических приемов, они в конце концов говорили одно и то же. Но хотя таким образом и все дороги ведут в Рим, надо все-таки, чтобы в человеке каким-нибудь способом засело искреннее желание попасть в Рим. А в этом-то и состоит трудность, которую преодолеть могли только немногие из людей сороковых годов. Вследствие чего различие исходных точек вело к непримиримой вражде. Разночинец чувствовал, а часто даже и понимал, что процесс цивилизации, разумеемой в виде общих и отвлеченных категорий, совершается на счет народа, что водворение этих общих категорий подает народу камень вместо куска хлеба. Он чувствовал и понимал, что наука для науки, искусство для искусства суть только особые формы служения настоящему, тяжелому для него порядку вещей; что свобода политическая и экономическая, как отвлеченная категория, в действительности разрешается в свободу одних притеснять других. В великих созданиях человеческого ума, если они служили отвлеченным категориям цивилизации, он чуял то самое оскорбление народу, из-за которого греческий раб разбил бы статую Фидия, если бы понял ее значение. Помните, как Писарев валил Пушкина. Это была своего рода Вандомская колонна. Но не Писарев Дмитрий Иванович валил ее, он был только таран в руках разночинца. Но ведь это варварство? Да, варварство, но его было легко предупредить, легче по крайней мере, чем вторжение варваров в Рим. Не Пушкина собственно валил разночинец руками Писарева. Разночинец был для такого упражнения слишком реален, слишком поглощен всяческими нуждами настоящего и заботами о будущем. Пушкина, как грандиозный памятник прошедшего, он не тронул бы, если бы ему было гарантировано на будущее время торжество его принципа, его исходной точки, победы идеи народа над отвлеченными категориями цивилизации. А ему что говорили? Ему говорили: как! для тебя мы погнем свои отвлеченные категории! да ты и требовать не смеешь, чтобы искусство, наука, промышленность, свобода служили тебе! получай, что придется на твою долю в остатке, и молчи! эти вещи выше тебя, пусть они растут, хотя бы на твоей согнутой спине! – Вот чего никаким образом не мог переварить разночинец, и, надеюсь, это понятно и естественно. Он ведь знал, хоть, может быть, и не сумел бы формулировать свое убеждение, он знал, что это лицемерие или недоразумение; что человек, служащий чистому искусству, чистой науке, просто промышленности, просто свободе, служит под видом возвышенных отвлеченных категорий интересам людей, над народом стоящих.
Вот, по моему мнению, корень распри отцов и детей; распри весьма прискорбной, потому что и я склонен думать, что в большей части случаев не лицемерие управляло отцами, что они были жертвами недоразумения. Я понимаю, что им дороги памятники прошлого, так, как они остались, целиком, без урезок. Но, повторяю, их бы никто не коснулся, если бы в будущем обещаны были иные памятники. Я понимаю тоже, что отцов отталкивала некоторая грубость разночинца. Но ведь это уж совершенный пустяк. А подрались… Жаль, тем более что у отцов и детей так много общего ввиду современных дельцов, заподозрить которых в недоразумении уже никоим образом нельзя. Во всяком случае, хотя шашки ныне уже и смешались, пришествие разночинца остается событием первостепенной важности, и г. Авдеев его далеко не оценил. Точка зрения, принесенная разночинцем, может время от времени слабеть и гореть слабым огоньком, но умереть не может.
«Героинь» г. Авдеева мне приходится отложить до следующего раза, потому что это тоже материя очень любопытная. Там мы опять встретимся с разночинцем и договорим недоговоренное.
март 1874 г.
notes
Примечания
1
Трудно не писать сатиры (латин.).
Комментарии
1
«Московские ведомости» – одна из старейших русских газет, выходила с 1756 по 1917 г.
2
М. П. Мусоргский написал немало текстов к своим произведениям; кроме указанных Михайловским это еще и отдельные куски «Хованщины».
3
Франсуа Ноэль Бабеф (Гракх Бабеф) и Анна Теруань (Теруан-де-Мерикур) – видные деятели эпохи Великой французской революции 1789–1793 гг.
Арман Барбес – один из организаторов попытки восстания в Париже в 1839 г.
4
«Биржевые ведомости» – газета коммерческих кругов, выходившая в Петербурге с 1861 по 1879 г.
«Неделя» – еженедельная политическая и литературная газета, выходившая в Петербурге с 1866 по 1901 г.
5
Н. Г. Чернышевский.
6
«Русский вестник» – ежемесячный литературно-политический журнал, выходивший в Москве в 1856–1906 гг.
7
Милютин Владимир Алексеевич (1826–1855) – публицист, экономист, один из первых сторонников социалистических воззрений в России. Был членом кружка петрашевцев.