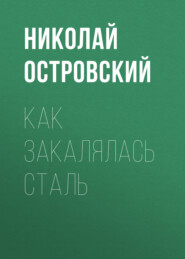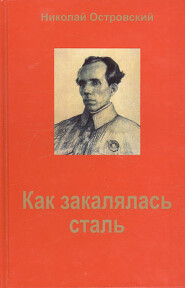По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Как закалялась сталь
Жанр
Год написания книги
2005
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой.
На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.
Ноги в коленях чуть дрожали.
«Чем все это кончится?»– думал он, и сердце сжималось как-то тягуче-тревожно.
На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал: «Что теперь делается на даче Лещинских?»
Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:
– Почему у вас обыск был сегодня?
Павка испуганно вздрогнул:
– Как – обыск?
Жухрай, помолчав, добавил:
– Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали?
Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:
– Артема арестовали?
– Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном.
От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.
«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего не известно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней», – думал Жухрай.
Разошлись молча к своей работе.
А в усадьбе был большой переполох.
Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.
Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.
Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.
Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.
Глава третья
Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие, стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.
Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы – анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого-лесовода. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.
Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.
Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.
Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку.
Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.
– Разве здесь рыба ловится?
Павка сердито оглянулся.
Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.
Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды.
А голосок сзади взволнованно:
– Клюет, видите, клюет…
Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.
«Ну, теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту», – раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду – между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало: крючок мог зацепиться за корягу.
Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:
– Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится.
И услыхал сверху насмешливое, издевающееся:
– Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыбак!
Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:
– Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли.
Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.
– Разве я вам мешаю?
В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собиравшийся нагрубить этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.
– Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко, – согласился он и, присев, опять глянул на поплавок.
Тот прибился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.
«Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла», – рассуждал он.
Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания.
На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.
Ноги в коленях чуть дрожали.
«Чем все это кончится?»– думал он, и сердце сжималось как-то тягуче-тревожно.
На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал: «Что теперь делается на даче Лещинских?»
Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:
– Почему у вас обыск был сегодня?
Павка испуганно вздрогнул:
– Как – обыск?
Жухрай, помолчав, добавил:
– Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали?
Павка хорошо знал, что искали, но рассказать о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:
– Артема арестовали?
– Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном.
От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.
«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего не известно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней», – думал Жухрай.
Разошлись молча к своей работе.
А в усадьбе был большой переполох.
Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.
Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.
Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.
Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.
Глава третья
Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие, стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела родной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.
Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы – анютиными глазками. Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого-лесовода. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.
Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.
Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.
Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку.
Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червями. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.
– Разве здесь рыба ловится?
Павка сердито оглянулся.
Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.
Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся ровная гладь воды.
А голосок сзади взволнованно:
– Клюет, видите, клюет…
Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.
«Ну, теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту», – раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду – между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало: крючок мог зацепиться за корягу.
Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:
– Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится.
И услыхал сверху насмешливое, издевающееся:
– Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыбак!
Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:
– Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь, что ли.
Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.
– Разве я вам мешаю?
В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собиравшийся нагрубить этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.
– Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко, – согласился он и, присев, опять глянул на поплавок.
Тот прибился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.
«Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла», – рассуждал он.
Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания.