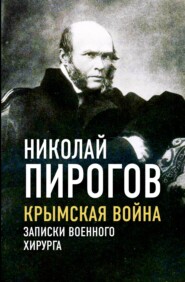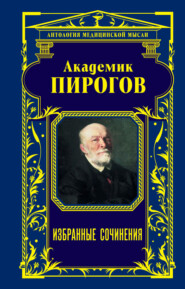По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Быть хирургом. Записки старого врача
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, и мне приходится, вспоминая прошедшее, нередко относиться охая к жизни и повторять слышанное однажды восклицание старого капитана, страдавшего непроходимою стриктурою[61 - Стриктура (лат. stricture – сжимание, сдавливание) – резкое сужение трубчатого органа (например, желчного протока, мочеточника) вследствие воспалительного процесса.]и свищами мочевого канала; измученный тщетными позывами на мочу, трясясь и всхлипывая, он с расстановкою выкрикивал: «Ох, ох, ты жизнь-матушка!»
[3 января 1881]
Но, наконец, пора уяснить себе и другие стороны моего мировоззрения. Прошло уже полгода с тех пор, как я выяснил себе только одно из них. Это было прошлою зимою, а летом я не могу писать. Лето старику приносит такое наслаждение, что и не думаешь вникать в себя; зеленые поля, цветущие розы, листва – все в свободное от практических и мелочных занятий время тянет к себе, наружу, и не пускает сосредоточиваться в себе. Ребенком я слыхал, что мой дедушка Иван Михеич зимою тосковал и жаловался детям: «От, детки, верно, Михеичу уж зеленой травы не топтать», но как только наступала весна, столетний старик снова оживлялся и целые дни топтал зеленую траву.
Но я хочу не только уяснить себе со всех сторон мое мировоззрение, мне хочется из архива моей памяти вытащить все документы для истории развития моих убеждений: как они после разных метаморфоз сложились и сделались настоящими. Мне кажется, что теперь, в настоящее время, разные стороны моего мировоззрения сделались гораздо отчетливее и яснее для меня, чем это было прежде. Может быть, это иллюзия, мираж, но почему же прежде, как ни казался я себе убежденным в том или другом воззрении, я все-таки не был уверен, что останусь навсегда при нем? Теперь же, напротив, я вполне уверен, что воззрения мои на жизнь и мир останутся такими, как есть, до последнего вздоха. Я думаю, что, пережив разные фазисы моего мировоззрения, я, наконец, убедился, что не доживу ни до какого нового их метаморфоза. И эта уверенность чрезвычайно успокоительна; чувствуешь что-то прочное в себе: изменяйся сколько хочешь, окружающее меня, я не изменюсь! А что, если и это мираж? То есть если и самая твердая уверенность – иллюзия? Если окружающее сильнее ее?
Не может ли быть, чтобы иллюзия, возбудившая такую твердую уверенность, как моя, не была сильнее окружающего? Это противоречило бы историческим фактам, доказывающим противное. Мало ли что мы считаем теперь в истории целых поколений за галлюцинацию, фанатизм и т. п., а между тем под влиянием этих иллюзий народы жили целые века, проливали за них потоки крови и умирали с ними. Так пусть будет и с моею иллюзиею, если она для других кажется такою, а для меня останется твердым и неизменным убеждением до конца жизни.
Начну ab ovo[62 - С самого начала (лат.).].
Мне сказали, что я родился 13 ноября 1810 года. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую. Что это такое было? Детская ли галлюцинация, следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812 года, или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденной мною в то время, двухлетним ребенком, кометы 1812 года, во время нашего бегства из Москвы во Владимир, – не знаю.
Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потом все более и более толстевшей и очень светлой; она представлялась не то во сне, не то в просонках и была чем-то тревожным, заставлявшим бояться и плакать: что-то подобное я слыхал потом и о грезах других детей. Но воспоминания моего шести-восьмилетнего детства уже гораздо живее.
Мой родительский дом, сгоревший во время нашествия французов в Москву, потом снова выстроенный, стоял в приходе Троицы в Сыромятниках. О времени моих воспоминаний, то есть о возрасте, к которому относятся первые мои воспоминания, я сужу из того, что живо помню еще и теперь беличье одеяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моей нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кроватки; мне было тогда, наверное, не более семи лет; по крайней мере, года четыре отделяют эти воспоминания от других, уже совершенно ясных, относящихся к моему десятилетнему возрасту.
О смерти Наполеона[63 - Наполеон умер 5 мая 1821 года.]я помню уже весьма отчетливо тогдашние рассказы.
Карикатуры на французов, выходившие в 1815–1817 годах, расходившиеся тогда по всем домам, я как теперь вижу.
Я знаю от моих родителей – я научился русской грамоте почти самоучкою, когда мне было шесть лет, и я хорошо помню, что учился именно по карикатурам, изданным в виде карт в алфавитном порядке. Первая буква «А» представляла глухого мужика и бегущих от него в крайнем беспорядке французских солдат с подписью:
Ась, право глух Мусье, что мучит старика,
Коль надобно чего, спросите казака.
Буква «Б». Наполеон, скачущий в санях с Даву и Понятовским на запятках, с надписью:
Беда, гони скорей с грабителем московским,
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским.
«В». Французские солдаты раздирают на части пойманную ворону, и один из них, изнуренный голодом, держит лапку, а другой, валяясь на земле, лижет из пустого котла. Надпись:
– Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать.
– А мне из котлика хоть жижи полизать.
Может быть, я живо помню эти карты и потому, что их видел потом, когда мне было более шести лет; но то, что помню почти исключительно три первые «А», «Б», «В», показывает, что на память мою они подействовали всего сильнее, когда я учился грамоте, то есть когда мне было шесть лет. Правда, я помню и еще одну из этих карт с буквою «Щ» и подписью:
Щастье, за Галлом устав бресть пешком,
Решилось в стан русский скакать с казаком.
Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умея себе объяснить, почему какой-то француз в мундире, увозимый в карете казаком и притом желающий выпрыгнуть из кареты, именуется «щастьем»? Какое же это счастье для нас? – думалось мне.
Это ученье грамоте по карикатурным картинкам вряд ли одобрится педагогами. И в самом деле, эти первые карикатурные впечатления развили во мне склонность к насмешке и свойство подмечать в людях скорее смешную и худую сторону, чем хорошую. Зато эти карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном вместе с другими изображениями его бегства и наших побед развили во мне рано любовь к славе моего отечества. В детях, как я вижу, это первый и самый удобный путь к развитию настоящей любви к отечеству.
Так было, по крайней мере, у меня, и я от 17 до 30 лет, окруженный чуждою мне народностью[64 - В рукописи это слово зачеркнуто; по-видимому, Пирогов хотел заменить его другим, но забыл это сделать.], среди которой жил, учился и учил, не потерял, однако же, нисколько привязанности и любви к отчизне, а потерять в ту пору было легко: жилось в отчизне не очень весело и не так привольно, как хотелось жить в 20 лет. Не родись я в эпоху русской славы и искреннего народного патриотизма, какою были годы моего детства, едва ли бы из меня не вышел космополит; я так думаю потому, что у меня очень рано развилась вместе с глубоким сочувствием к родине какая-то непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму.
Начиная с десяти лет моей жизни, я уже помню отчетливо. И детство мое до 13–14 лет оставило по себе самые приятные воспоминания.
Отец[65 - После этого в рукописи: «еще не старый, от 40 до 50 лет» (зачеркнуто). Отец Пирогова, Иван Иванович, родился, приблизительно, в 1772 году.]мой служил казначеем в московском провиантском депо; я как теперь вижу его одетым в торжественные дни в мундир с золотыми петлицами на воротнике и обшлагах, в белых штанах, больших ботфортах с длинными шпорами; он имел уже майорский чин, был, как я слыхал, отличный счетовод, ездил в собственном экипаже и любил, как все москвичи, гостеприимство. У отца было нас четырнадцать человек детей – шутка сказать! – и из четырнадцати во время моего детства осталось налицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. «Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего»[66 - Псал. 151.]. И из нас шестерых умер еще один, не достигнув пятнадцатилетнего возраста, – мой старший брат Амос[67 - У И. И. Пирогова в 1815 г. было четыре сына: Петр – 21 года, Александр – 18 лет, Амос – 9 лет, Николай – 5 лет, и две дочери: Пелагея – 17 лет, Анна – 16 лет.].
Кто хочет заняться историею развития своего мировоззрения, тот должен воспоминаниями из своего детства разрешить несколько весьма трудных для разрешения вопросов.
Во-первых, как ему вообще жилось в то время? Потом какие преимущественно впечатления оставили глубокие следы в его памяти? Какие занятия и какие забавы нравились ему всего более? Каким наказаниям он подвергался, часто ли, и какие наказания всего сильнее на него действовали? Какие рассказы, книги, поступки старших и происшествия его интересовали и волновали? Что более завлекало его внимание: окружающая его природа или общество людей?
В старости все эти воспоминания делаются яснее; старик вспоминает давно прошедшее как-то отчетливее, чем взрослый и юноша. Но, конечно, трудно старику решить с верностью вопрос, точно ли давно прошедшее делало и на него такое впечатление, каким он его представляет себе теперь?
Роясь в архиве своей памяти на старости лет, нас поражает, прежде всего, необъяснимое тождество и цельность нашего «я». Мы ясно ощущаем, что мы уже не те, чем мы были в детстве, и в то же время мы не менее ясно ощущаем, что наше «я» осталось в нас или при нас с того самого момента, как мы начали себя помнить, до сегодня, и знаем наверное, что оно же останется и до последнего вздоха, если только не умрем в беспамятстве или в доме умалишенных.
Странно, удивительно странно это ощущение тождества нашего «я» в разных, едва похожих один на другой, портретах, с разными противоположными чувствами, убеждениями и взглядами на себя, на жизнь, на все окружающее. Да ведь «я» – это одно личное местоимение, откуда же ему взяться у ребенка, например, не знающего грамматики, или у безграмотного взрослого? Смешно, не правда ли, нонсенс, абсурд? Самоощущение бытия, и как такое оно должно неминуемо в нас быть от колыбели до могилы, а как и чем оно о себе дает знать себе же самому и другим – личным ли местоимением, или другим каким условным знаком, это ни на йоту не переменяет сущности дела. Ребячье «я» дает о себе знать и другим в третьем лице личного местоимения, поставляя себя, вероятно, вне себя, а глухонемой от рождения, вероятно, имеет для себя другой какой условный знак или ноту.
Детство, как я сказал, оставило у меня до тринадцатилетнего возраста одни приятные впечатления. Уже, конечно, не может быть, чтобы я до тринадцати лет ничего другого не чувствовал, кроме приятностей жизни, – не плакал, не болел; но отчего же неприятное исчезло из памяти, осталось одно только общее приятное воспоминание? Положим, старикам всегда прошедшее кажется лучшим, чем настоящее. Но не все же вспоминают отрадно о своем детстве, как бы жизнь в этом возрасте ни была для них плохою. Нет, вспоминая обстановку и другие условия, при которых проходила жизнь в моем детстве, я полагаю, что действительно ее наслаждения затмили в моей памяти все другие мимолетные неприятности.
Родители любили нас горячо; отец был отличный семьянин; я страстно любил мою мать[68 - Мать Пирогова, Елизавета Ивановна, родилась приблизительно в 1776 г.; происходила из старинной московской купеческой семьи Новиковых.], и теперь еще помню, как я, любуясь ее темно-красным, цвета массака[69 - Массака (фин. Mansikka – земляника) – темно-красный с синим отливом или иссиня-малиновый (о цвете).], платьем, ее чепцом и двумя локонами, висевшими из-под чепца, считал ее красавицею, с жаром целовал ее тонкие руки, вязавшие для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мне также с большою любовью; старший брат был на службе, средний, тремя-четырьмя годами старше меня, жил со мною дружно.
Средства к жизни были более чем достаточны; отец сверх порядочного по тому времени жалованья занимался еще ведением частных дел, быв, как кажется, хорошим законоведом. Вновь выстроенный дом наш у Троицы, в Сыромятниках, был просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрашал стены комнат и даже печи фресками какого-то доморощенного живописца Арсения Алексеевича, а сад – беседочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображение лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами этих двух времен года; помню изображения разноцветных птиц, летавших по потолкам комнат, и турецких палаток на стенах спальни сестер.
Помню и игры в саду в кегли, в крючки и кольца, цветы с капельками утренней росы на лепестках… живо, живо, как будто вижу их теперь. Итак, жизнь моя ребенком до тринадцати лет была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни приятные воспоминания.
Ученье и школа до этого возраста также не была мне в тягость. Я уже сказал, как я легко и почти играючи научился читать; после того чтение детских книг было для меня истинным наслаждением; я помню, с каким восторгом я ждал подарка от отца книги: «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», «Детский вертоград», «Детский магнит», «Пильпаевы и Эзоповы басни»[70 - Книги, читанные Пироговым в детстве: Зрелище вселенной, на латинском, российском и немецком языках. Издание для народных училищ Российской империи. СПб., 1788, 1822; Детский магнит, содержащий 101 сказочку с нравоучениями на каждую. М., 1800; Политические и нравоучительные басни Пильпая, философа Индийского. Перевод с французского. СПб., 1762.], и все с картинками, читались и прочитывались по несколько раз, и все с аппетитом, как лакомства.
Но всего более занимало меня «Детское чтение»[71 - «Детское чтение для ума и сердца» – первый детский журнал, выходивший в 1785–1789 гг. в 20 выпусках.]Карамзина в 10 или 12 частях; славная книга – чего в ней не было! и диалоги, и драмы, и сказки – прелесть! Потому прелесть, что это чтение меня, семи-восьмилетнего ребенка, прельстило знакомством с Альфонсом и Далиндою или чудесами природы, с почтенною г-жой Добролюбовою, с стариком Яковом и его черным петухом, обнаружившим воришку и лгунишку Подшивалова; да так прельстило, что 60 с лишком лет эти фиктивные личности не изгладились из памяти. Я не помню подробностей рассказов, но что-то общее чрезвычайно приятное и занимательное осталось от них до сих пор в моем воспоминании.
Несколько лет позже я прочел «Донкихота» в сокращенном переводе с французского; помню еще, что и отец читывал его нам; читал потом и неизбежного «Робинзона», и волшебные сказки, но эффект чтения всех этих книг не может сравниться с тем, которое произвело на меня «Детское чтение», и подарок его нам отцом в новый год я считаю самым лучшим в моей жизни.
Так некоторые впечатления почему-то делаются неизгладимыми и выделяются ярко на фоне памяти. Сколько раз атомы моего мозга заменялись, чрез обмен веществ, новыми и всякий раз передавали этим новым прежние впечатления, то есть прежние свои сотрясения.
Из рисунков читанных книг остались у меня в памяти, кроме карикатурных фигур, по которым я учился азбуке, всего более изображения животных, растений и разных национальных типов из «Зрелища вселенной», «Детского музея» и Палласова «Путешествия по России»[72 - Имеется в виду Петр-Симон Паллас (1741–1811) – путешественник, зоолог, ботаник, минеролог, геолог, топограф, врач, этнолог, археолог, филолог.], бережно сохранявшегося у отца в двух больших томах в кожаном переплете; из него всего отчетливее помню лопаря, самоеда и нагую чукотскую бабу. Очень рано попались мне также в руки отцовский же Курганова «Письмовник»[73 - Книга профессора математики и кавалера Н. Г. Курганова (1725–1796) – знаменитый в летописях русской литературы второй половины XVIII и начала XIX в.], из коего на всю жизнь остались в памяти разныесмешные анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: «Повести Коцебу»[74 - А. Ф. Коцебу (1761–1819) – немецкий писатель.], и особливо одну из них «Плащ и парик». Басни Крылова во время моего первого детства не были еще в ходу; к нам приходил какой-то знакомый господин, читавший их очень хорошо. Детей не заставляли еще заучивать их ex officio[75 - Обязательно (лат.).], и я proprio motu[76 - По собственному побуждению (лат.).]выучил наизусть «Квартет», мне очень нравившийся, и особливо с басом Мишенька, «Демьянову уху», «Тришкин кафтан»; как видно, нравились мне наиболее юмористические.
Из других стихотворений я довольно рано, когда был еще лет девяти, познакомился с «Людмилою» и «Светланою» Жуковского, декламировал, к большому удовольствию домашних слушателей, с некоторого рода пафосом и разными жестами; несколько позже узнал и старика с щетинистой брадой, блестящими глазами, но страшно боялся встречи с ним в темной комнате, и бегом, зажмуря глаза, проходил чрез нее.
Первый роман, попавшийся мне в руки на 12-м году моей жизни, был «Фанфан и Лолотта» Дюкре-Дюминиля, и я помню, что не одна фабула романа завлекла меня, а образ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившиеся половые инстинкты.
Первый учитель дан был мне на девятом году жизни; до того времени я был самоучка при помощи матери и сестер, весьма ограниченной, впрочем, по собственному их признанию.
Странно, что я помню довольно ясно занятия грамотою и чтением, но совсем не помню, когда и как научился писать.
К чести нашей домашней педагогии я должен сказать, что занятия с первым моим учителем начались с отечественного языка; звуков иностранного языка я почти не слыхал до восьми лет; как впросонках, вспоминаю только напев какой-то немецкой песни, и мне сказывали сестры, что один вхожий в наш дом немец иногда брал меня на руки и нянчил, припевая что-то по-своему.
Появление в доме первого учителя совпадает у меня с воспоминанием о рождении в Москве нашего нынешнего государя (Александра Николаевича)[77 - Александр II родился в 1818 г.], а это воспоминание совпадает в свою очередь с другим, а именно – с путешествием всей семьи к Троице (т. е. в Троице-Сергиевскую лавру), во время которого при ночлеге в селе Больших Мытищах что-то говорилось о кормилице новорожденного.
Судя по этому, нужно думать, что мои первые занятия с учителем начались в 1818 году. Я помню довольно живо молодого, красивого человека, как мне сказывали потом – студента (Московского университета), и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице. Вероятно, этот господин, назначенный мне в учителя, был не семинарист. Это я заключаю из того, что он очень любил накрахмаленное белье, а об этой склонности я узнал от моей старой няни, нередко сетовавшей на большой расход крахмала, и действительно, его румяные щеки представляются мне и до сих пор не иначе, как в связи с туго накрахмаленными, стоячими воротничками рубашки. Но есть основание думать, что семинарское образование не было чуждо моему наставнику: это его склонность к сочинению поздравительных рацей; одну из них он заставил меня выучить для поздравления отца с днем Рождества Христова; первое четверостишие я еще и теперь помню:
Зарею утренней, румяной,
[3 января 1881]
Но, наконец, пора уяснить себе и другие стороны моего мировоззрения. Прошло уже полгода с тех пор, как я выяснил себе только одно из них. Это было прошлою зимою, а летом я не могу писать. Лето старику приносит такое наслаждение, что и не думаешь вникать в себя; зеленые поля, цветущие розы, листва – все в свободное от практических и мелочных занятий время тянет к себе, наружу, и не пускает сосредоточиваться в себе. Ребенком я слыхал, что мой дедушка Иван Михеич зимою тосковал и жаловался детям: «От, детки, верно, Михеичу уж зеленой травы не топтать», но как только наступала весна, столетний старик снова оживлялся и целые дни топтал зеленую траву.
Но я хочу не только уяснить себе со всех сторон мое мировоззрение, мне хочется из архива моей памяти вытащить все документы для истории развития моих убеждений: как они после разных метаморфоз сложились и сделались настоящими. Мне кажется, что теперь, в настоящее время, разные стороны моего мировоззрения сделались гораздо отчетливее и яснее для меня, чем это было прежде. Может быть, это иллюзия, мираж, но почему же прежде, как ни казался я себе убежденным в том или другом воззрении, я все-таки не был уверен, что останусь навсегда при нем? Теперь же, напротив, я вполне уверен, что воззрения мои на жизнь и мир останутся такими, как есть, до последнего вздоха. Я думаю, что, пережив разные фазисы моего мировоззрения, я, наконец, убедился, что не доживу ни до какого нового их метаморфоза. И эта уверенность чрезвычайно успокоительна; чувствуешь что-то прочное в себе: изменяйся сколько хочешь, окружающее меня, я не изменюсь! А что, если и это мираж? То есть если и самая твердая уверенность – иллюзия? Если окружающее сильнее ее?
Не может ли быть, чтобы иллюзия, возбудившая такую твердую уверенность, как моя, не была сильнее окружающего? Это противоречило бы историческим фактам, доказывающим противное. Мало ли что мы считаем теперь в истории целых поколений за галлюцинацию, фанатизм и т. п., а между тем под влиянием этих иллюзий народы жили целые века, проливали за них потоки крови и умирали с ними. Так пусть будет и с моею иллюзиею, если она для других кажется такою, а для меня останется твердым и неизменным убеждением до конца жизни.
Начну ab ovo[62 - С самого начала (лат.).].
Мне сказали, что я родился 13 ноября 1810 года. Жаль, что сам не помню. Не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую. Что это такое было? Детская ли галлюцинация, следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812 года, или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденной мною в то время, двухлетним ребенком, кометы 1812 года, во время нашего бегства из Москвы во Владимир, – не знаю.
Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потом все более и более толстевшей и очень светлой; она представлялась не то во сне, не то в просонках и была чем-то тревожным, заставлявшим бояться и плакать: что-то подобное я слыхал потом и о грезах других детей. Но воспоминания моего шести-восьмилетнего детства уже гораздо живее.
Мой родительский дом, сгоревший во время нашествия французов в Москву, потом снова выстроенный, стоял в приходе Троицы в Сыромятниках. О времени моих воспоминаний, то есть о возрасте, к которому относятся первые мои воспоминания, я сужу из того, что живо помню еще и теперь беличье одеяльце моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моей нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кроватки; мне было тогда, наверное, не более семи лет; по крайней мере, года четыре отделяют эти воспоминания от других, уже совершенно ясных, относящихся к моему десятилетнему возрасту.
О смерти Наполеона[63 - Наполеон умер 5 мая 1821 года.]я помню уже весьма отчетливо тогдашние рассказы.
Карикатуры на французов, выходившие в 1815–1817 годах, расходившиеся тогда по всем домам, я как теперь вижу.
Я знаю от моих родителей – я научился русской грамоте почти самоучкою, когда мне было шесть лет, и я хорошо помню, что учился именно по карикатурам, изданным в виде карт в алфавитном порядке. Первая буква «А» представляла глухого мужика и бегущих от него в крайнем беспорядке французских солдат с подписью:
Ась, право глух Мусье, что мучит старика,
Коль надобно чего, спросите казака.
Буква «Б». Наполеон, скачущий в санях с Даву и Понятовским на запятках, с надписью:
Беда, гони скорей с грабителем московским,
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским.
«В». Французские солдаты раздирают на части пойманную ворону, и один из них, изнуренный голодом, держит лапку, а другой, валяясь на земле, лижет из пустого котла. Надпись:
– Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать.
– А мне из котлика хоть жижи полизать.
Может быть, я живо помню эти карты и потому, что их видел потом, когда мне было более шести лет; но то, что помню почти исключительно три первые «А», «Б», «В», показывает, что на память мою они подействовали всего сильнее, когда я учился грамоте, то есть когда мне было шесть лет. Правда, я помню и еще одну из этих карт с буквою «Щ» и подписью:
Щастье, за Галлом устав бресть пешком,
Решилось в стан русский скакать с казаком.
Но это потому, что долго, долго задумывался на ней, не умея себе объяснить, почему какой-то француз в мундире, увозимый в карете казаком и притом желающий выпрыгнуть из кареты, именуется «щастьем»? Какое же это счастье для нас? – думалось мне.
Это ученье грамоте по карикатурным картинкам вряд ли одобрится педагогами. И в самом деле, эти первые карикатурные впечатления развили во мне склонность к насмешке и свойство подмечать в людях скорее смешную и худую сторону, чем хорошую. Зато эти карикатуры над кичливым, грозным и побежденным Наполеоном вместе с другими изображениями его бегства и наших побед развили во мне рано любовь к славе моего отечества. В детях, как я вижу, это первый и самый удобный путь к развитию настоящей любви к отечеству.
Так было, по крайней мере, у меня, и я от 17 до 30 лет, окруженный чуждою мне народностью[64 - В рукописи это слово зачеркнуто; по-видимому, Пирогов хотел заменить его другим, но забыл это сделать.], среди которой жил, учился и учил, не потерял, однако же, нисколько привязанности и любви к отчизне, а потерять в ту пору было легко: жилось в отчизне не очень весело и не так привольно, как хотелось жить в 20 лет. Не родись я в эпоху русской славы и искреннего народного патриотизма, какою были годы моего детства, едва ли бы из меня не вышел космополит; я так думаю потому, что у меня очень рано развилась вместе с глубоким сочувствием к родине какая-то непреодолимая брезгливость к национальному хвастовству, ухарству и шовинизму.
Начиная с десяти лет моей жизни, я уже помню отчетливо. И детство мое до 13–14 лет оставило по себе самые приятные воспоминания.
Отец[65 - После этого в рукописи: «еще не старый, от 40 до 50 лет» (зачеркнуто). Отец Пирогова, Иван Иванович, родился, приблизительно, в 1772 году.]мой служил казначеем в московском провиантском депо; я как теперь вижу его одетым в торжественные дни в мундир с золотыми петлицами на воротнике и обшлагах, в белых штанах, больших ботфортах с длинными шпорами; он имел уже майорский чин, был, как я слыхал, отличный счетовод, ездил в собственном экипаже и любил, как все москвичи, гостеприимство. У отца было нас четырнадцать человек детей – шутка сказать! – и из четырнадцати во время моего детства осталось налицо шесть: трое сыновей и столько же дочерей. «Мал бех в братии моей и юнейший в доме отца моего»[66 - Псал. 151.]. И из нас шестерых умер еще один, не достигнув пятнадцатилетнего возраста, – мой старший брат Амос[67 - У И. И. Пирогова в 1815 г. было четыре сына: Петр – 21 года, Александр – 18 лет, Амос – 9 лет, Николай – 5 лет, и две дочери: Пелагея – 17 лет, Анна – 16 лет.].
Кто хочет заняться историею развития своего мировоззрения, тот должен воспоминаниями из своего детства разрешить несколько весьма трудных для разрешения вопросов.
Во-первых, как ему вообще жилось в то время? Потом какие преимущественно впечатления оставили глубокие следы в его памяти? Какие занятия и какие забавы нравились ему всего более? Каким наказаниям он подвергался, часто ли, и какие наказания всего сильнее на него действовали? Какие рассказы, книги, поступки старших и происшествия его интересовали и волновали? Что более завлекало его внимание: окружающая его природа или общество людей?
В старости все эти воспоминания делаются яснее; старик вспоминает давно прошедшее как-то отчетливее, чем взрослый и юноша. Но, конечно, трудно старику решить с верностью вопрос, точно ли давно прошедшее делало и на него такое впечатление, каким он его представляет себе теперь?
Роясь в архиве своей памяти на старости лет, нас поражает, прежде всего, необъяснимое тождество и цельность нашего «я». Мы ясно ощущаем, что мы уже не те, чем мы были в детстве, и в то же время мы не менее ясно ощущаем, что наше «я» осталось в нас или при нас с того самого момента, как мы начали себя помнить, до сегодня, и знаем наверное, что оно же останется и до последнего вздоха, если только не умрем в беспамятстве или в доме умалишенных.
Странно, удивительно странно это ощущение тождества нашего «я» в разных, едва похожих один на другой, портретах, с разными противоположными чувствами, убеждениями и взглядами на себя, на жизнь, на все окружающее. Да ведь «я» – это одно личное местоимение, откуда же ему взяться у ребенка, например, не знающего грамматики, или у безграмотного взрослого? Смешно, не правда ли, нонсенс, абсурд? Самоощущение бытия, и как такое оно должно неминуемо в нас быть от колыбели до могилы, а как и чем оно о себе дает знать себе же самому и другим – личным ли местоимением, или другим каким условным знаком, это ни на йоту не переменяет сущности дела. Ребячье «я» дает о себе знать и другим в третьем лице личного местоимения, поставляя себя, вероятно, вне себя, а глухонемой от рождения, вероятно, имеет для себя другой какой условный знак или ноту.
Детство, как я сказал, оставило у меня до тринадцатилетнего возраста одни приятные впечатления. Уже, конечно, не может быть, чтобы я до тринадцати лет ничего другого не чувствовал, кроме приятностей жизни, – не плакал, не болел; но отчего же неприятное исчезло из памяти, осталось одно только общее приятное воспоминание? Положим, старикам всегда прошедшее кажется лучшим, чем настоящее. Но не все же вспоминают отрадно о своем детстве, как бы жизнь в этом возрасте ни была для них плохою. Нет, вспоминая обстановку и другие условия, при которых проходила жизнь в моем детстве, я полагаю, что действительно ее наслаждения затмили в моей памяти все другие мимолетные неприятности.
Родители любили нас горячо; отец был отличный семьянин; я страстно любил мою мать[68 - Мать Пирогова, Елизавета Ивановна, родилась приблизительно в 1776 г.; происходила из старинной московской купеческой семьи Новиковых.], и теперь еще помню, как я, любуясь ее темно-красным, цвета массака[69 - Массака (фин. Mansikka – земляника) – темно-красный с синим отливом или иссиня-малиновый (о цвете).], платьем, ее чепцом и двумя локонами, висевшими из-под чепца, считал ее красавицею, с жаром целовал ее тонкие руки, вязавшие для меня чулки; сестры были гораздо старше меня и относились ко мне также с большою любовью; старший брат был на службе, средний, тремя-четырьмя годами старше меня, жил со мною дружно.
Средства к жизни были более чем достаточны; отец сверх порядочного по тому времени жалованья занимался еще ведением частных дел, быв, как кажется, хорошим законоведом. Вновь выстроенный дом наш у Троицы, в Сыромятниках, был просторный и веселый, с небольшим, но хорошеньким садом, цветниками, дорожками. Отец, любитель живописи и сада, разукрашал стены комнат и даже печи фресками какого-то доморощенного живописца Арсения Алексеевича, а сад – беседочками и разными садовыми играми. Помню еще живо изображение лета и осени на печках в виде двух дам с разными атрибутами этих двух времен года; помню изображения разноцветных птиц, летавших по потолкам комнат, и турецких палаток на стенах спальни сестер.
Помню и игры в саду в кегли, в крючки и кольца, цветы с капельками утренней росы на лепестках… живо, живо, как будто вижу их теперь. Итак, жизнь моя ребенком до тринадцати лет была весела и привольна, а потому и не могла не оставить одни приятные воспоминания.
Ученье и школа до этого возраста также не была мне в тягость. Я уже сказал, как я легко и почти играючи научился читать; после того чтение детских книг было для меня истинным наслаждением; я помню, с каким восторгом я ждал подарка от отца книги: «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», «Детский вертоград», «Детский магнит», «Пильпаевы и Эзоповы басни»[70 - Книги, читанные Пироговым в детстве: Зрелище вселенной, на латинском, российском и немецком языках. Издание для народных училищ Российской империи. СПб., 1788, 1822; Детский магнит, содержащий 101 сказочку с нравоучениями на каждую. М., 1800; Политические и нравоучительные басни Пильпая, философа Индийского. Перевод с французского. СПб., 1762.], и все с картинками, читались и прочитывались по несколько раз, и все с аппетитом, как лакомства.
Но всего более занимало меня «Детское чтение»[71 - «Детское чтение для ума и сердца» – первый детский журнал, выходивший в 1785–1789 гг. в 20 выпусках.]Карамзина в 10 или 12 частях; славная книга – чего в ней не было! и диалоги, и драмы, и сказки – прелесть! Потому прелесть, что это чтение меня, семи-восьмилетнего ребенка, прельстило знакомством с Альфонсом и Далиндою или чудесами природы, с почтенною г-жой Добролюбовою, с стариком Яковом и его черным петухом, обнаружившим воришку и лгунишку Подшивалова; да так прельстило, что 60 с лишком лет эти фиктивные личности не изгладились из памяти. Я не помню подробностей рассказов, но что-то общее чрезвычайно приятное и занимательное осталось от них до сих пор в моем воспоминании.
Несколько лет позже я прочел «Донкихота» в сокращенном переводе с французского; помню еще, что и отец читывал его нам; читал потом и неизбежного «Робинзона», и волшебные сказки, но эффект чтения всех этих книг не может сравниться с тем, которое произвело на меня «Детское чтение», и подарок его нам отцом в новый год я считаю самым лучшим в моей жизни.
Так некоторые впечатления почему-то делаются неизгладимыми и выделяются ярко на фоне памяти. Сколько раз атомы моего мозга заменялись, чрез обмен веществ, новыми и всякий раз передавали этим новым прежние впечатления, то есть прежние свои сотрясения.
Из рисунков читанных книг остались у меня в памяти, кроме карикатурных фигур, по которым я учился азбуке, всего более изображения животных, растений и разных национальных типов из «Зрелища вселенной», «Детского музея» и Палласова «Путешествия по России»[72 - Имеется в виду Петр-Симон Паллас (1741–1811) – путешественник, зоолог, ботаник, минеролог, геолог, топограф, врач, этнолог, археолог, филолог.], бережно сохранявшегося у отца в двух больших томах в кожаном переплете; из него всего отчетливее помню лопаря, самоеда и нагую чукотскую бабу. Очень рано попались мне также в руки отцовский же Курганова «Письмовник»[73 - Книга профессора математики и кавалера Н. Г. Курганова (1725–1796) – знаменитый в летописях русской литературы второй половины XVIII и начала XIX в.], из коего на всю жизнь остались в памяти разныесмешные анекдоты, остроты и прибаутки; помню и еще одну книгу: «Повести Коцебу»[74 - А. Ф. Коцебу (1761–1819) – немецкий писатель.], и особливо одну из них «Плащ и парик». Басни Крылова во время моего первого детства не были еще в ходу; к нам приходил какой-то знакомый господин, читавший их очень хорошо. Детей не заставляли еще заучивать их ex officio[75 - Обязательно (лат.).], и я proprio motu[76 - По собственному побуждению (лат.).]выучил наизусть «Квартет», мне очень нравившийся, и особливо с басом Мишенька, «Демьянову уху», «Тришкин кафтан»; как видно, нравились мне наиболее юмористические.
Из других стихотворений я довольно рано, когда был еще лет девяти, познакомился с «Людмилою» и «Светланою» Жуковского, декламировал, к большому удовольствию домашних слушателей, с некоторого рода пафосом и разными жестами; несколько позже узнал и старика с щетинистой брадой, блестящими глазами, но страшно боялся встречи с ним в темной комнате, и бегом, зажмуря глаза, проходил чрез нее.
Первый роман, попавшийся мне в руки на 12-м году моей жизни, был «Фанфан и Лолотта» Дюкре-Дюминиля, и я помню, что не одна фабула романа завлекла меня, а образ Лолотты. Должно быть, заговорили рано развившиеся половые инстинкты.
Первый учитель дан был мне на девятом году жизни; до того времени я был самоучка при помощи матери и сестер, весьма ограниченной, впрочем, по собственному их признанию.
Странно, что я помню довольно ясно занятия грамотою и чтением, но совсем не помню, когда и как научился писать.
К чести нашей домашней педагогии я должен сказать, что занятия с первым моим учителем начались с отечественного языка; звуков иностранного языка я почти не слыхал до восьми лет; как впросонках, вспоминаю только напев какой-то немецкой песни, и мне сказывали сестры, что один вхожий в наш дом немец иногда брал меня на руки и нянчил, припевая что-то по-своему.
Появление в доме первого учителя совпадает у меня с воспоминанием о рождении в Москве нашего нынешнего государя (Александра Николаевича)[77 - Александр II родился в 1818 г.], а это воспоминание совпадает в свою очередь с другим, а именно – с путешествием всей семьи к Троице (т. е. в Троице-Сергиевскую лавру), во время которого при ночлеге в селе Больших Мытищах что-то говорилось о кормилице новорожденного.
Судя по этому, нужно думать, что мои первые занятия с учителем начались в 1818 году. Я помню довольно живо молодого, красивого человека, как мне сказывали потом – студента (Московского университета), и помню не столько весь его облик, сколько одни румяные щеки и улыбку на лице. Вероятно, этот господин, назначенный мне в учителя, был не семинарист. Это я заключаю из того, что он очень любил накрахмаленное белье, а об этой склонности я узнал от моей старой няни, нередко сетовавшей на большой расход крахмала, и действительно, его румяные щеки представляются мне и до сих пор не иначе, как в связи с туго накрахмаленными, стоячими воротничками рубашки. Но есть основание думать, что семинарское образование не было чуждо моему наставнику: это его склонность к сочинению поздравительных рацей; одну из них он заставил меня выучить для поздравления отца с днем Рождества Христова; первое четверостишие я еще и теперь помню:
Зарею утренней, румяной,