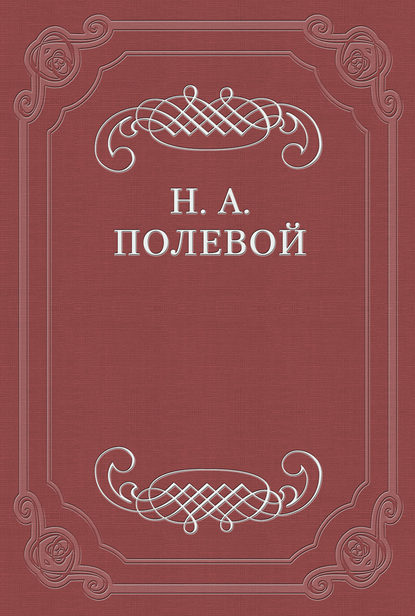По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клятва при гробе Господнем
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Князь Юрий Димитриевич, – сказал старший посол, – государь наш, Великий князь, желая окончить всякие поводы к нелюбови, подтверждает о Дмитрове и о твоих московских и костромских волостях и жеребьях – Кореге, Шопкове, Лучинском, Сурожике, чтобы держать их за тобою в братстве и чести, без обиды, по докончальным грамотам и печаловаться тобою и твоею отчиною».
– Благодарю за попечение, но об этом также было прежде сказано.
«О не покупке и не держании закладней, взаимно, управлении Ордою Великому князю и выходах по старым дефтерям, не вступании тебе в Вятку…» – продолжал московский посол.
– О Гавриловских селах и об Ярышове и Иванове пора бы кончить, – сказал боярин Шемяки, перебивая речь посла, – право, пора бы кончить. Но и здесь все еще говорится, что долг князя Димитрия Юрьевича остается за Великим князем…
«Пятьсот-то рублей? И неужели ли их еще не отдали нам? – спросил Шемяка. – Я, право, и позабыл».
– Платою не замедлят, – сказал московский посол, – наш государь, Великий князь, слово свое сдержит; но князь Александр Иванович до сих пор не докончил с Великим князем об этих селах.
Ни послы, ни боярин Шемяки, говоря обо всем другом, не упоминали главнейшего. Наконец, старший посол решился сказать Шемяке: «Если ты, князь Димитрий Юрьевич, подтверждаешь условие – кто мне друг, тебе друг, кто тебе недруг, мне недруг, то, конечно, подтвердишь и другое: А всяду я сам на конь, на своего недруга, и тебе со мною пойдти, а пошлю тебя, и тебе идти без ослушания, а пошлю своих воевод, и тебе послать с ними твоих воевод?»
– Бесспорно, – отвечал Шемяка. – Если понадобятся мои людишки к дружинам Великого князя, пусть только известит меня. – Он отвернулся к окну, в которое сильно стучал порывистый дождь осенний.
«Такое обещание, – продолжал посол, – разуметь должно и в том случае, когда бы и самый родной брат твой вздумал учинить размирье и нелюбие к Великому князю?»
– Как? Что это значит? – спросил Шемяка.
«Князь Василий Юрьевич[146 - Василий Юрьевич по прозванию Косой (1401—1448) – Великий князь Московский (1434), князь Звенигородский (1434) и Галицкий (1435).] назван в этой грамоте недругом Великого князя», – сказал боярин Шемяки.
– Что же не сказали мне этого с самого начала, – вскричал Шемяка, – ни вы, послы, ни ты, боярин? – Он обратился к тем и другим.
«Государь, князь Димитрий Юрьевич[147 - Дмитрий Юрьевич по прозванию Шемяка (ок. 1402—1453) – Великий князь Московский (1446—1447), князь Угличский (с 1434).]…» – бормотал боярин.
– Князь Димитрий Юрьевич… – вполголоса промолвил старший посол.
Все снова замолчали. Шемяка сел подле окна, потом встал со своего места и безмолвно начал ходить по комнате. Сильное внутреннее движение изображалось на лице и в глазах его.
– Князь Великий, государь наш, полагает, что тебе уже известно, молодшему брату его, о клятвопреступлении недостойного брата твоего и о том, что он, забыв долг и совесть, забыв милости Великого князя, прислал к нему обратно крестоцеловальные грамоты и пошел на него снова крамолою и враждою.
Шемяка не отвечал.
– Великие благодеяния государя нашего, Великого князя, излиянные на князя Василия, могли тронуть самое каменное сердце человеческое и возбудить в нем чувство раскаяния, примиряющее грешного человека не только с подобным ему человеком, но даже с самим Богом. Злые дела Василия возбудили теперь всеобщее негодование, и князья русские, по первому слуху, поспешили в Москву подтвердить клятвы свои и присоединить силы свои к силам великокняжеским.
Еще ни слова не говорил Шемяка.
– Но никогда не думает уравнять тебя князь Великий, государь наш, с братом твоим. Он знает нелицемерную, нелицеприятную дружбу твою к нему, Великому князю. И здесь-то прилично воскликнуть с пророком; Аще сядеши на трапезе сильного, разумно разумевай предлагаемая тебе.
«Твой текст невпопад, посол московский, – сказал наконец Шемяка, останавливаясь и быстро глядя в глаза московскому боярину, – ты обдернулся и вытащил из мешка памяти твоей не то, что хотел сказать. Всего же более невпопад твое велеречие и красноречие: это мед, подставленный волу. Я не понимаю, из чего все сии слова и хлопоты? А, вероятно, старший брат мой, Великий князь – все эти слова надобно повторять, как можно чаще, чтобы не отвыкали от них, – думал: кого бы мне послать к углицкому медведю? У кого из бояр московских язык сладкоречивее и легче мог бы улюлюкать этого медведя?.. ха, ха, ха!» – Шемяка захохотал, и горесть изобразилась в то же время на лице его. Он опять начал ходить взад и вперед.
– Я давно хотел представить тебе, князь Димитрий Юрьевич, – сказал Дубенский, – что надобно решить многие обстоятельства. Вот и о третьих, чтобы не ходить далеко, сколько споров, Господи Боже мой! Надобно уж положить единожды навсегда, что, кто зовется на третьи, твой да твоего брата, берут третьего от Великого князя, а не то, наоборот, из твоих, а не то, наоборот, из княж Димитриевых. Поименует же третьих тот, кто ищет, а тот берет, на кого ищут, а не захочет тот, на ком искали, его обвинить и велеть с него доправить… Иначе, право, никак не сладить.
«Гнев твой, князь Димитрий Юрьевич, воистину несправедлив», – сказал посол московский, оправясь от замешательства, в какое введен был словами и насмешками Шемяки.
– Я не гневаюсь, – сказал Шемяка, – но мне смешно, когда я соображаю настоящее, то, как поступают со мною. Открыто, прямо говорил и делал я: неужели еще не убежден в этом князь Великий? Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня таким олухом царя небесного, что не замечу хлеба в печи и стану ее топить? Или вы хотите, – продолжал Шемяка с увеличивающеюся горячностью, – или вы хотите, чтобы я, отдавши все Великому князю, своими руками принес ему голову родного моего брата и кровью его запил дружбу с Москвою, позор мой и унижение?
Едва не задыхался Шемяка говоря это послам московским; но вдруг он остановился и тихо сказал своему боярину: «Если новые грамоты Великого князя сходны с прежними, я готов подтвердить их.
Принеси их ко мне и я, не читавши, приложу к ним печать свою. – Послы московские! объявите вашему князю, что я не нарушаю грамот и обещаний, подтверждаю их вполне, осуждаю брата моего, если он снова начинает вражду; но далее не ступлю я ни шагу: с Москвою мир, с братом мир, с целым светом мир!»
Он пошел из комнаты. Послы молчали и переглядывались друг с другом, а Дубенский начал опять свое: «Нет уж о третьих, примером сказать, надобно нам докончить основательно, бояре и послы! Вот-таки недавно был пример: Федька хмелевщик бил челом на суздальца Фомку лапотника. Видите в чем стала притча судебная: Федька продал ему лукошко хмеля в полную меру, с насыпом и договорился он взять за то лаптями; Федька же договорился отдать ему лаптями добрыми с перешивкою с двойным оборотом и за лапти взять хмелем. Вот и тот и другой с умыслу, что ли, или так, опростоволосились, о лукошке-то и забыли договориться. Федька-то новгородским мерять начал, а тот суздальским… Ведь у нас на Руси, слава Господу, язык один и вера одна, да мера не одинакова: вот… Но, добро пожаловать, бояре и послы, к нам в палату, там свободнее…»
Глава II
…Домы праотцев, обычай их простой![148 - Эпиграф – строка из трагедии «Пожарский» (действ. 2-е, явл. 1) Крюковского Матвея Васильевича (1781—1811); в оригинале: «…гробы праотцев…».]
Крюковский
Среди волн обширного Кубенского озера, к восточной стороне его, находится каменный остров, как будто отломок от берега, брошенный в воду. Волны со всех сторон омывают обитель, построенную на сем острове – как будто отломок от мирских сует. Здесь некогда, в древние времена, спасся от бури и гибели белозерский князь Глеб, плывя из Бело-озера в Устюг рекою Позоровицею, Кубенским озером и рекою Сухоною. Не оставалось спасения бедствующему князю среди свирепых волн Кубенского озера, и он во глубине души дал обет: построить обитель на том месте, где спасен будет. Ладья пристала к дикому, неизвестному дотоле Каменскому острову. Глеб изумился, найдя там жителей: то были старцы, пустынножители, скрывшиеся от мира на сей отдаленный, дикий остров. Гостеприимно принят был князь сими отшельниками и подивился их бедному, но великому житию. Они проводили дни свои в молитве, обращали в истинную веру диких корелов и чудь, живших по берегам озера; часто терпели они нападения и муки от дикарей, но платили им за зло добром и душевным спасением. На месте ветхой часовни, куда отшельники сбирались молиться, князь повелел воздвигнуть церковь и вокруг нее срубить кельи. Так Спасокаменский монастырь, первый из северных вологодских монастырей среди лесов и пустынь, обитаемых дикими народами, возник, будто знамение грядущего великого благочестия сей земли. Глеб одарил обитель вкладами и богатствами и через несколько лет почил в мире.
В течение многого времени потом усердие, ревность, чудеса святых икон, привлекали поклонников в монастырь Спасокаменский. Прошло два века и много человеческих родов. Чудь и корела были покорены, разогнаны, усмирены. Князь Василий Васильевич Ярославский, потомок Великого ярославского князя, святого Феодора Ростиславовича Черного, раздавая уделы пятерым сынам своим, отдал все Кубенское заозерье четвертому сыну своему Дмитрию. В Заозерье свое уехал князь Димитрий и основал жилище свое там, близ устья Кубены. Против села Устья при деревне Чириковой доныне стоит часовня: здесь некогда находились дворы и терема исчезнувшего в веках князя Димитрия Заозерского и его княжеского рода.
С переселением на Кубену князя Димитрия началась особенная слава Спасокаменской обители. Благочестие было неизменно в роде князей, происшедшем от святого князя Феодора. Обитель прославилась тогда великими, сподвижниками. Инок Дионисий, благословился у Каменского игумена, ушел в пустыни северные и там, на Глушице. близ Сухоны, основал Покровскую обитель, где доныне почивают святые мощи его и сотрудника его Амфилохия. Инок Александр скрылся в дикие леса и болота Сянжемские и умолен был князем Димитрием возвратиться после многих уже лет пустынножительства, просиявшего в чудесах. Князь поселил его на реке Куште вблизи своего дворца. Наконец, и юный сын самого князя Димитрия возжелал оставить мир и скрыться в Спасокаменской обители. Все дивились молве о сем благочестивом подвиге, ибо юному княжичу едва совершилось двенадцать лет.
Прямо в Успенский соборный храм Спасокаменской обители вошел Шемяка, достигнув стен ее после трудного пути. Смиренные иноки встретили его и просили простить, что игумен за старостию и слабостью сил не может встретить князя. Шемяка запретил им беспокоить старца и, приложась к святым иконам после молебна за благополучное путешествие, хотел сам посетить настоятеля, не велел извещать о себе и пошел по длинному переходу низких деревянных келий к келье, занимаемой игуменом.
Казалось Шемяке, что душа его никогда еще не испытывала такого сладостного спокойствия, какое ощущал он со времени прибытия своего в Спасокаменскую обитель. Трудная дорога, бурное озеро, и среди волн его мирная обитель, о которую разбивались и бури водные и суеты мирские, уединение, тишина, благочестие, безмолвие, удаление от всех забот мира, казалось, готовили душу его к миру с самим собою, миру, дотоле неизвестному Шемяке! Трогательное зрелище ожидало его в келье настоятеля.
Он увидел игумена, убеленного сединами старика, сидящего на скамейке; перед ним на коленях стоял отрок лет двенадцати. Возложив левую руку на русую голову отрока, правою игумен благословлял его. В стороне стоял старик, одетый просто, без всякого оружия и, подняв руки к образу Преображения Господня, молился; слезы текли по щекам его.
Изумленный Шемяка стал близ порога кельи. Игумен отвел в сторону левою рукою отрока и обратил правую к Шемяке, приветствуя его: «Конечно, вижу я в тебе, почтенный гость, – сказал он, – князя Димитрия Юрьевича и благословляю приход в мирную обитель нашу внука Димитрия Донского?»
– Я этот князь, – отвечал Шемякаг принимая благословение старца.
«Добро пожаловать, князь!»
– Я прервал беседу вашу, отец игумен, и винюсь в том.
«Оставь здесь все твои дворские приличия, – отвечал игумен. – Ты застал нас за таким делом, которое совершается благодатию Божиею. Ты видишь князя Димитрия Васильевича Заозерского, а это юный сын его Андрей».
– Не дивлюсь твоему изумлению, князь Димитрий Юрьевич, – сказал Заозерский, заметив, что простая одежда его привела в замешательство Шемяку, не узнавшего в нем владетельного князя Закубенской стороны. – Вы, люди сильные и знаменитые, привыкли отличать князей сребром и златом, дорогим оружием и драгоценною одеждою; мы живем, напротив, в простоте дедовской: золото и сребро бережем для святых храмов, в дорогом оружии нужды не имеем, а сражаться со зверями, обитающими в дремучих лесах наших, нам надобно оружие простое, а не щегольское. Поздравляю тебя, любезный гость, с благополучным приездом в наши Палестины. Да благословит Господь вхождение и исхождение твое.
Он поцеловался с Шемякою и, утирая слезы, сказал: «Когда узнаешь вину слез моих, не осудишь меня. Богу угодно было вложить ревность к ангельскому чину в душу сына моего, отрока младолетнего. Не смел я противиться и теперь привел его сюда, как агнца к стаду Христову. Приобретают праведные мужи душу чистую, а я – теряю сына!» Он закрыл лицо руками и зарыдал.
– Садись, князь Димитрий Юрьевич, – сказал игумен, – а ты, князь Димитрий Васильевич, не малодушествуй. Дорог сосуд серебряный, дороже позлащенный. Благодать на роде вашем, благодать на доме твоем! Волею притекает княжич твой в святую обитель – не препятствуй ему, да не согрешишь. Но, пусть он не обрекается еще монашеской жизни, пусть только живет с нами, совершает подвиги духовные – я еще не отнимаю его у тебя и не благословляю ему клобука иноческого.
«Отец игумен! – воскликнул отрок Андрей, – молю тебя: облеки скорее грешное тело мое в броню праведников!» Он сложил руки и поднял глаза к небу, уподобляясь ангелу, который молит воззвать его скорее от земли в небесную обитель…
– Нет, чадо мое, нет сего не будет! Ты юн, ты неопытен, тебе незнакомы еще страсти людские: ты их ведаешь, ты боишься их только по слуху. Приемлю тебя, но сан иноческий получишь ты через несколько лет – не прежде. До тех пор подвергнешься ты искусу, узнаешь отшельническую жизнь иноков, соразмеришь с нею силы свои, и ум отдаст за тебя отчет совести…
«Да будет тако!» – сказал Заозерский, еще раз утер слезы, обнял, благословил сына и задумчиво сел подле Шемяки. Юный Андрей прислонился к коленам отца своего.
Слезы навернулись у Шемяки. Он крепко пожал руку добродетельного князя Заозерского и сказал: «В какую обитель мира и тишины зашел я? Какими ангелами окружен? Зачем скрываете вы в лесах далеких добродетель и чистоту души, достойные благочестивых предков ваших?»
Тогда началась тихая, поучительная беседа между двумя князьями и игуменом. Не было удивления, ласкательства, лести и суеты. Шемяке не говорили даже ничего о Москве и бурных событиях современных, как будто собеседники его вовсе об них не знали. Какое-то чувство детского благоговения ощущал Шемяка при виде и словах князя Заозерского. Казалось ему, что он внимает отцу своему. Он забыл в сии мгновения все смуты и волнения мирские. Никто не спрашивал Шемяку, за чем и с кем приехал он. Монастырская трапеза ожидала князей в общей трапезной. Внимая беседе старцев и чтению жития святых мужей, сидя в ряду со смиренными иноками, Шемяка внутренне сознавался, что никогда, никакая великолепная трапеза великокняжеская не доставляла ему столь великого наслаждения.
Дружески, как будто старого знакомого, просил потом князь Заозерский Шемяку посетить его хижину. «Говорю хижину, – промолвил князь, – потому, что мне совестно назвать княжеским дворцом свое жилище – бедное против ваших обширных чертогов княжеских, против великолепных теремов московских. Я давно уже и только один раз был в Москве, но слышу, что с тех пор она еще более разрослась и похорошела».